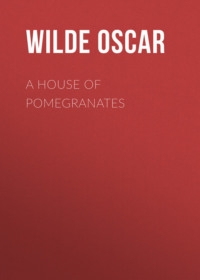Полная версия
При этой мысли острая боль, точно ножом, ударила его и привела в дрожь тончайшие фибры его существа. Глаза потемнели, стали похожими на аметисты и заволоклись туманом слез. Ему казалось, будто ледяная рука легла на его сердце.
– Вам портрет не нравится? – спросил наконец Холлуорд, немного обиженный непонятным молчанием юноши.
– Конечно, он ему нравится, – сказал лорд Генри.
– Да и кому же он не поправился бы! Это одно из величайших произведений современного искусства. Я дам вам за него все, что вы только и спросите. Я должен иметь этот портрет.
– Это не моя собственность, Гарри.
– Чья же это собственность?
– Конечно, Дориана, – ответил художник.
– Какой он счастливец!
– Как это печально! – прошептал Дориан Грей, все еще не отрывая глаз от собственного портрета. – Как это печально! Я состарюсь, стану уродливым и отвратительным, а этот портрет останется вечно юным. Он никогда не будет старше, чем в этот июньский день. О, если бы можно было сделать иначе! Если бы я мог навсегда остаться юным, а старился бы мой портрет! За это… за это… я отдал бы все! Да, за это я не пожалел бы ничего на свете. За это я дал бы свою душу.
– Вряд ли такая сделка понравилась бы вам, Бэзиль, – смеясь, заметил лорд Генри. – Профессия ваша была бы тогда не из легких!
– Я сильно протестовал бы, Гарри, – сказал Холлуорд.
Дориан Грей оглянулся и посмотрел на него.
– Не сомневаюсь в этом, Бэзиль. Вы любите свое искусство больше, чем своих друзей. Я значу для вас не больше, чем какая-нибудь зеленая бронзовая фигурка. А, пожалуй, даже и меньше.
Художник взглянул на него в удивлении. Такие речи Дориану били несвойственны. Что такое случилось? Юноша казался почти рассерженным. Лицо его покраснело, щеки пылали.
– Да – продолжал он, – я для вас значу меньше, чем ваш Гермес из слоновой кости или серебряный фавн. Их вы будете любить всегда. А долго ли вы будете любить меня? До моей первой морщинки, вероятно? Я теперь знаю, что, как только человек теряет свою привлекательную наружность, какова бы она ни была, он теряет все. Ваша картина научила меня этому. Лорд Генри Уоттон совершенно прав: молодость – единственное, что отбит ценить. Как только замечу, что старею, я убью себя!
Холлуорд побледнел и схватил его за руки.
– Дориан! Дориан! Не говорите так! У меня никогда не было такого друга, как вы, и никогда не будет такого. Неужели вы завидуете неодушевленным вещам, вы, который прекраснее всех вещей?
– Я завидую всему, чья красота не умирает. Я завидую этому портрету, который вы написали с меня. Зачем он навсегда сохранит то, что я должен потерять? Каждая проходящая минута обкрадывает меня и дает нечто ему. О, если бы только могло быть обратное! Если бы картина могла меняться, а я оставался бы таким же, как сейчас. Зачем вы написали ее? Она когда-нибудь будет издеваться надо мной, – жестоко издеваться.
Горячие слезы залили его глаза; он вырвал руку и, бросившись па диван, спрятал лицо в подушках, как бы погруженный в молитву.
– Это вы наделали, Гарри, – с горечью сказал Холлуорд.
Лорд Генри пожал плечами.
– Это настоящий Дориан Грей, вот и все, – ответил он.
– Нет.
– А если нет, так при чем тут я?
– Вы должны были уйти, когда я просил об этом, – пробормотал он.
– Я остался по вашей просьбе.
– Гарри, я не могу ссориться одновременно с двумя своими лучшими друзьями; но вы оба заставили меня возненавидеть лучшее мое произведение, и я уничтожу его. Что ж, ведь это только полотно и краски! Я не хочу, чтобы оно становилось между нами троими и портило наши отношения.
Дориан Грей поднял с подушки свою золотистую голову и. бледный, с заплаканными глазами следил за Холлуордом, пока тот подходил к столику с рисовальными принадлежностями, стоявшему около высокого, задернутого занавесью окна. Что он там делает? Его пальцы бродили среди множества тоненьких трубочек и сухих кистей, как бы ища чего-то. Да, он искал длинный шпатель с тонким гибким стальным лезвием. Он нашел его наконец. Он собирается разрезать полотно.
Заглушая рыдания, Дориан вскочил с дивана, подбежал к Холлуорду, вырвал нож у него из рук и отбросил его в дальний угол мастерской.
– Не делайте этого, Бэзиль, не делайте! – Закричал он. – Это было бы убийством!
– Я рад, что вы наконец оценили мою работу, Дориан, – холодно проговорил художник, оправившись от удивления: – я думал, что вы ее никогда не оцените. Оценить ее? Да ведь я влюблен в нее, Бэзиль. Это – часть меня самого. Я это чувствую.
– Прекрасно. Как только вы высохнете, вы будете покрыты лаком, вставлены в раму и отправлены домой. И тогда вы можете делать с собою все, что вам будет угодно.
И, пройдя через комнату, Бэзиль позвонил, чтобы подали чай.
– Вы конечно, выпьете чаю, Дориан? И вы также, Гарри? Или вы не любите такие незатейливые удовольствия?
– Я обожаю незатейливые удовольствия, – сказал лорд Генри. – Это – последнее прибежище для сложных натур. Но я не люблю сцен, кроме сцен на подмостках, что за нелепые люди вы оба! Кто это определил человека, как разумное животное? По-моему, это было самое преждевременное из всех когда-либо высказанных определений. Человек все, что хотите, только не разумен. Впрочем, я рад этому; только я хотел бы, друзья мои, чтобы ВЫ не ссорились из-за этой картины. Самое лучшее было бы отдать ее мне, Бэзиль. Этот глупый мальчик вовсе не хочет ее иметь, а я ее страстно желаю.
– Если вы отдадите ее кому-нибудь другому, Бэзиль, – этого вам никогда не прошу! – воскликнул Дориан Грей. – И я никому не позволю называть меня глупым мальчиком!
– Вы же знаете, что картина принадлежит вам. Дориан. Я подарил ее вам еще раньше, чем она существовала. И вы также знаете, что вы были чуть-чуть глупеньким, мистер Грей, и что вы, в сущности, ничего не имеете против того, чтобы вам напоминали о вашей крайней молодости.
– Еще сегодня утром я бы очень много имел против этого, лорд Генри.
– Ах! Сегодня утром. Но с тех пор вы уже прожили некоторое время!
Раздался стук в дверь, и в комнату вошел лакея с чайным подносом, который он поставил на японский маленький столик. Послышалось звяканье чашек и пыхтенье самовара. Мальчик внес два шарообразных фарфоровых блюда. Дориан Грей подошел к столу и разлил чай. Остальные двое медленно приблизились и, подняв крышки, посмотрели, что находилось под ними.
– Пойдемте сегодня в театр, предложил лорд Генри, – наверное, что-нибудь где-нибудь идет интересное. Я обещал обедать в Уайт-клубе, но с одним только старым приятелем, так что я могу телеграфировать ему, что я болен или что я не могу прийти, вследствие более позднего приглашения. Мне кажется, что это будет довольно милая отговорка; она удивит его своим простодушием.
– Так скучно одеваться во фрак, – пробормотал Холлуорд, – и когда его наденешь, то чувствуешь себя так отвратительно.
– Да – задумчиво ответил лорд Генри, – костюм XIX века отвратителен. Он такой мрачный и скучный. Единственный красочный элемент, сохранившийся в современной жизни, это – порок.
– Право, вы не должны говорить таких мрачных вещей при Дориане, Гарри!
– При каком Дориане, при том, который разливает чай, или который на картине?
– Перед обоими.
– Мне бы хотелось пойти вместе с вами в театр, лорд Генри – заметил юноша.
– В таком случае вы пойдете, и вы также, Бэзиль, не правда ли?
– Я, право, не могу. Я бы не хотел. У меня масса дел.
– Ну, так мы пойдем одни – вы и я, мистер Грей.
– Я буду страшно рад.
Бэзиль Холлуорд закусил губу и, с чашкой чая в руке, подошел к картине.
Я останусь с настоящим Дорианом, – грустно проговорил он.
– Разве это – настоящий Дориан? – воскликнул оригинал портрета, подходя к нему. – Я таков на самом деле?
– Да, вы именно таковы.
– Как это чудесно, Бэзил!
– По крайней мере, вы таким кажетесь. Изображение ваше никогда не изменится, – вздохнул Холлуорд. – А это что-нибудь да значит.
– Как люди возятся с постоянством! – проронил лорд Генри. – Ведь даже в любви это – просто вопрос физиологии. Верность не имеет ничего общего с нашей волей. Молодые люди хотят быть верными – и не бывают; старики хотят быть неверными – и не могут; вот и все.
– Не ходите сегодня в театр, Дориан, – сказал Холлуорд, – останьтесь и пообедайте со мной.
– Не могу, право, Бэзил.
– Почему?
– Потому что я обещал лорду Генри пойти вместе с ним.
– То, что вы сдержите свое обещание, не прибавит вам цены в его глазах. Он всегда нарушает свои собственные обещания. Я прошу вас: не ходите с ним.
Дориан Грей засмеялся и покачал головой.
– Я умоляю вас.
Юноша поколебался; он кинул взгляд на лорда Генри, который, с чашкою в руке, наблюдал за ними, весело улыбаясь.
– Я должен идти, Бэзиль, – ответил он.
– Прекрасно, – сказал Холлуорд и, подойдя к столу, поставил свою чашку на поднос. – Уже довольно поздно; а так как вам надо еще одеться, то не следует терять время. Прощайте, Гарри; прощайте, Дориан. Зайдите ко мне на днях… Приходите завтра!
– Непременно.
– Вы не забудете?
– Нет, конечно, нет! – воскликнул Дориан.
– И вы… Гарри!
– Хорошо, Бэзиль.
– Вспомните, о чем я просил вас в саду сегодня утром.
– Я позабыл об этом.
– Я доверяю вам. А хотел бы доверять самому себе, – сказал лорд Генри, смеясь. Идемте, мистер Грей! Мой экипаж у подъезда, и я могу подвезти вас домой. Прощайте, Бэзиль! Сегодня выдался интересный денек.
Когда дверь за ними закрылась, Холлуорд бросился на диван, и на лице у него появилось выражение боли.
III
На следующий день около половины первого лорд Генри Уоттон медленно шел с Кёрзон-стрита по направлению к Альбани, намереваясь навестить своего дядю, лорда Фермора, старого холостяка, очень неглупого, хотя и несколько грубоватого. Посторонние люди считали его эгоистом, не получая от него особенной выгоды; в высшем же свете он слыл за человека радушного, так как прикармливал людей, казавшихся ему забавными. Отец лорда Фермора, в дни юности Изабеллы, еще до появления на сцене Прима, был английским посланником в Мадриде, но, в минуту каприза, бросил дипломатическую карьеру, обидевшись на то, что его не назначили послом в Париж – пост, на который он считал себя вполне призванным по своему рождению, сибаритству, изысканному английскому стилю своих дипломатических нот и по своей необычайной страсти к наслаждениям. Сын, бывший секретарем при отце, вышел в отставку вместе со своим принципалом – несколько опрометчиво, как тогда думали, – и несколько месяцев спустя, унаследовав титул, принялся серьезно изучать великое аристократическое искусство ничегонеделанья.
У него было два больших городских дома, но он предпочитал жить в меблированных комнатах, находя это менее хлопотливым, и большею частью обедал и завтракал в клубе. Он уделял некоторую долю внимания своим угольным копям в средних графствах; эту слабость к промышленности он оправдывал тем, меня существенное преимущество углевладения для джентльмена заключается в возможности жечь у себя в камине дрова.
В политике он был консерватором, за исключением тех периодов, когда консерваторы брали верх: тогда он откровенно бранил их шайкой радикалов. Он был героем для своего лакея, державшего его в подчинении, и грозой для большинства своих родственников, которыми он, в свою очередь, распоряжался. Только Англия могла родить его, и он всегда говорил, что эта страна достанется на съедение собакам. Его принципы были слегка старомодны, но многое можно было сказать в пользу его предрассудков.
Лорд Генри, войдя в комнату, застал своего дядю в грубой охотничьей куртке; он курил манильскую сигару и брюзжал над «Тime`sом»[4].
– Ну, Гарри, – встретил его старый джентльмен, – что вас привело в такой ранний час? Я думал, что вы, дэнди, не встаете раньше двух и не выходите раньше пяти.
– Меня привело чисто-родственное чувство, уверяю вас, дядя Джордж: мне от вас кое-что нужно.
– Денег, наверное? – сказал лорд Фермор, делая кислую мину. – Ну, садитесь и расскажите вше, в чем дело. Молодые люди теперь воображают, что деньги – все.
– Да, – ответил лорд Генри, оправляя свою бутоньерку, – они воображают, а когда они становятся старше, они убеждаются в этом. Но мне не надобно денег. Деньги нужны лишь тому, кто платит но своим счетам, дядя Джордж, а я по своим никогда не плачу. Кредит – вот капитал младших сыновей рода, и на этот капитал можно прекрасно жить. Кроме того, я всегда имею дело с поставщиками Дартмура, а потому они никогда мне, но надоедают. Мне нужно получить от вас только справку: конечно, не полезную – бесполезную справку.
– Прекрасно; я могу сказать вам нее, что только имеется в любой Синей книге[5] Англии, Гарри, хотя эти теперешние молодцы и пишут там массу глупостей. Когда я был дипломатом, все шло гораздо лучше. Но я слышу, теперь дипломаты допускаются по экзамену. Чего же тут можно ждать? Экзамены, сударь мой, это чистейший вздор, от начала до конца. Если человек – джентльмен, то он знает как раз столько, сколько ему нужно; а если не джентльмен, то сколько бы он ни знал, все будет ему не в прок.
– Но, дядюшка Джордж, мистер Дориан Грей но занесен ни в какие Синие книги, – медленно произнес лорд Генри.
– Мистер Дориан Грей? Кто он такой? – спросил лорд Фермор, хмуря свои густые белые брови.
– Затем-то я и пришел, чтобы узнать, дядя Джордж. Или, вернее, я знаю, кто он такой. Он внук последнего лорда Кельсо, мать его была одна из Деверё, леди Маргарита Деверё. Я хочу, чтобы вы рассказали мне об его матери. Какова она была? За кого вышла замуж? В свое время вы знали почти всех, так что могли знать и ее. Я сильно интересуюсь мистером Греем в настоящее время. Я только что с ним познакомился.
– Внук Кельсо! – как эхо, отозвался старый джентльмен. – Внук Кельсо!.. Конечно… Я близко знал его мать. Кажется, я далее был на ее крестинах. Она была поразительна красива, эта Маргарита Деверё, и привела в бешенство всех молодых людей, когда сбежала с господином, не имевшим за душой ни копейки, с полнейшим ничтожеством, сударь мой, – какой-то субалтерн пехотного полка пли что-то в этом роде. Конечно, я помню все, как будто это было вчера. Бедняга был убит на дуэли в Спа, несколько месяцев спустя после свадьбы. Это была ужасная история. Говорили, что Кельсо раздобыл какого-то низкого авантюриста, какого-то бельгийца-подлеца, чтобы тот оскорбил его зятя публично; подкупил его, сударь мой, подкупил, и тот пронзил молодца, как какого-нибудь голубка. Дело было замято, но, ей-Богу, некоторое время после того Кельсо в одиночестве съедал в клубе свой обед. Он привез с собою дочь обратно, как я слышал, но она никогда больше не удостоила его ни единым словом. О, да, это было скверное дело. Она тоже умерла через год. Так она оставила сына? Об этом я позабыл. Что же это за юноша? Если он похож на свою мать, он должен быть очень красив.
– Он очень красив, – подтвердил лорд Генри.
– Надеюсь, что он попадет в хорошие руки, – продолжал старик. – Ему достанется порядочный куш, если только Кельсо правильно распорядился своим состоянием. У матери его также были деньги. Все Сельби целиком перешло ей от деда. ее дед ненавидел Кельсо, считал его низкой скотиной. Да он таков и был. Однажды он приехал в Мадрид, во время моего там пребывания. Ей-Богу, мне было стыдно за него. Королева несколько раз спрашивала меня о дородном англичанине, который всегда торговался и ссорился с извозчиками. Они из этого сделали прямо-таки историю. Я целый месяц не смел глаза показать при дворе. Надеюсь, что он с внуком обращался лучше, чем с извозчиками.
– Не знаю, – ответил лорд Генри. – Я думаю, что юноша будет довольно состоятельным. Он еще несовершеннолетний. Сельби принадлежит ему, это я знаю. Он мне это говорил. А… его мать была очень красива?
– Маргарита Деверё была одно из красивейших созданий, каких мне когда-либо приходилось видеть, Гарри. Что заставило ее поступить, как она поступила, я никогда не мог понять. Она могла выйти замуж за кого бы только пожелала. Кардингтон сходил по ней с ума. Правда, она была романтична, как и все женщины этой семьи. Мужчины там не многого стоили, но женщины были, ей-Богу, поразительны. Кардингтон па коленях стоял перед ней. Сам говорил мне это. Она же смеялась над ним, тогда как в целом Лондоне в то время не нашлось бы другой девицы, которая бы перед ним устояла. А кстати, Гарри, раз уж мы заговорили о глупых браках, что за ерунду рассказывал мне ваш отец, будто Дартмур хочет жениться на американке? Разве англичанки недостаточно хороши для него?
– Теперь ведь в моде женитьба на американках, дядя Джордж.
– Я держу за англичанок против целого света, Гарри, – заявил лорд Фермер, ударяя кулаком по стаду.
– Вся игра на американках.
– Они не слишком выносливы.
– Длинные заезды их утомляют, но они бесподобны в скачках с препятствиями. Оке берут их на лету. Я не думаю, чтобы у Дартмура было много шансов.
– Кто ее родные? – проворчал старый джентльмен. – Есть они у нее?
Лорд Генри покачал головой.
– Американки так же ловко умеют скрывать своих родственников, как англичанки свое прошлое, – сказал он, вставая.
– Вероятно, они владельцы свиной бойни?
– Надеюсь, что так, дядя Джордж, в интересах Дартмура, Я слышал, что свиной промысел в Америке наивыгоднейшая профессия после политики.
– Она красива?
– Она держит себя, как красавица. Большинство американок так себя держат. В этом секрет их обаяния.
– Но почему эти американки не сидят у себя в Америке? Ведь они всегда уверяют, что там для женщин рай.
– Так оно и есть. Потому-то они, подобно Еве, и стремятся его покинуть, – сказал лорд Генри. – Прощайте, дядя Джордж. Я опоздаю к завтраку, если останусь дольше. Благодарю вас за сведения, они мне были очень нужны. Я всегда люблю все знать о моих новых друзьях и ничего о старых.
– Где же вы завтракаете, Гарри?
– У тети Агаты. Я сам напросился к ней с мистером Греем. Он ее последний ргоtege.
– Гм! Скажите вашей тете Агате, Гарри, чтобы она больше не надоедала мне своими благотворительными воззваниями. Мне они до тошноты надоели. И с чего эта милая женщина взяла, что у меня нет другого дела, как только писать чеки для ее глупых фантазий?
– Хорошо, дядя Джордж, я ей это скажу; только это будет бесполезно. Филантропы ведь теряют всякое чувство любви к человеку. Это их характерная черта.
Старый джентльмен одобрительно промычал и позвонил своему слуге. Лорд Генри пассажем вышел на Берлингтон-стрит и направил свои шаги в сторону Вэркли-сквера.
Так вот история семьи Дориана Грея! Хотя она и была рассказана лорду Генри в грубых чертах, в ней было что-то трогательное, похожее на необычный, почти современный роман. Прелестная женщина, ставящая все на карту ради безумной страсти… Несколько недель головокружительного счастья, пресеченных отвратительным, вероломным преступлением. Месяцы безмолвной агонии и после – муки родов. Мать, унесенная смертью, мальчик, предоставленный одиночеству и тирании старого, бездушного человека. Да, это был интересный фон. Он оттенял юношу, делая его как бы еще совершеннее. За всем прекрасным, что когда-либо существовало, всегда было нечто трагическое. Для расцвета даже самых заурядных цветов нужны муки целых миров… И как обворожителен был Дориан накануне, когда он сидел за обедом в клубе против лорда Генри, с таким удивленным взором и с выражением смущенного удовольствия на полураскрытых губах, а красные абажуры на свечах своим розовым отблеском оттеняли расцветавшую красоту его лица. Говорить с ним было почти то же, что играть на редкостной скрипке. Он был отзывчив к легчайшим прикосновениям и вибрациям смычка… Было что-то страшно-увлекательное в этой возможности проявлять свое влияние. Никакое другое занятие не могло сравниться с этим. Переливать свою душу в какое-нибудь изящное существо, на некоторое время дать ей помедлить там, слышать эхо своих собственных идей, усиленное музыкой страсти и юности; как какую-нибудь нежную жидкость или необыкновенный аромат, передавать другому свой собственный темпераменты в этом было истинное наслаждение, быть может, самое полное изо всех наслаждений, доставшихся в удел нашему ограниченному, вульгарному веку с его пошлыми стремлениями и грубочувственными удовольствиями…
Этот юноша, по воле такого странного случая встретившийся лорду Генри в мастерской Бэзиля, кроме того, представлял восхитительный тип, или, во всяком случае, этот тип из него можно было создать. Он обладал изяществом, белоснежной чистотой отрочества и красотой, той красотой, которую сохранили нам только древние греческие изваяния. Из него можно было сделать титана или игрушку. Как жаль, что такой красоте суждено было увянуть!.. А Бэзиль? Как он стал интересен с психологической точки зрения! Новая манера в искусстве, новое ощущение жизни, так странно пробужденные одним лишь видимым присутствием человека, ничего об этом не подозревавшего. Безмолвная фея, обитавшая в дремучем лесу и незримо бродившая в открытых полях, вдруг без страха явила себя, подобно дриаде, потому что в душе художника, искавшей ее, уже проснулось предчувствие, которому одному раскрываются дивные тайны; простые формы и образы вещей, так сказать, становились совершеннее и приобретали некую символическую ценность, словно они сами являлись тенью, отражением каких-то иных, еще более совершенных форм. Как все это было странно! Нечто подобное лорд Генри припоминал в истории. Не Платон ли, этот художник идей, впервые анализировал такие отношения?
Не Буонаротти ли выразил их в цветном мраморе, словно в ряде сонетов? Но в наш век это было так необычайно.
Да, он попробует стать для Дориана Грея тем, чем юноша, сам того не подозревая, был для художника, создавшего дивный портрет. Он постарается властвовать над ним, – да уж наполовину и властвует. Он сделает своим достоянием этот необыкновенный дух. В этом сыне любви и смерти таилось какое-то странное обаяние.
Вдруг лорд Генри остановился и поглядел на дома. Он заметил, что миновал дом своей тетки, и, улыбнувшись, повернул обратно. Когда он вошел в темноватый вестибюль, дворецкий сказал ему, что все уже сели завтракать. Отдав свою палку и шляпу одному из лакеев, лорд Генри вошел в столовую.
– Как всегда, с опозданием, Гарри! – встретила его тетка, качая головой.
Он придумал какое-то извинение и, сев на пусто» место около нее, обвел взглядом сидевших за столом. Дориан, покраснев от удовольствия, застенчиво кивнул ему с противоположного конца. Против лорда Генри сидела герцогиня Гарлей, дама необыкновенно приветливая и живая, очень любимая всеми, кто ее знал, и обладавшая в своем сложении теми щедрыми архитектурными пропорциями, которые в женщинах, не удостоенных титула герцогини, именуются у современных историков тучностью. Около нее справа сидел сэр Томас Бёрдон, член радикальной партии парламента; в общественной жизни он разделял взгляды своего лидера, а в частной – следовал лучшим поварам, согласно мудрому и хорошо известному закону: обедай заодно с консерваторами и думай заодно с либералами. Слева от герцогини занимал место мистер Эрскин из Трэдлн, старый джентльмен, весьма образованный и симпатичный, впавший однако же в дурную привычку молчать, высказав, как он однажды объяснил леди Агате, все, что имел сказать еще, до своего тридцатилетнего возраста. Непосредственной же соседкой лорда Генри была миссис Ванделёр, одна из самых давних приятельниц его тетки, женщина поистине святая, но так крикливо одетая, что напоминала молитвенник в очень плохом переплете. К счастью для лорда Генри, она имела своим соседом по другую сторону лорда Фауделя, умнейшую посредственность средних лет, господина столь же лысого и бессодержательного, как доклад министра в палате общин; леди Ванделёр разговаривала с ним с той напряженной серьезностью, которая, по замечанию лорда Генри, составляет единственно непростительное заблуждение всех истинно-прекрасных людей и от которой ни одному из них никогда не удавалось освободиться.
– Мы говорим о бедном Дартмуре, лорд Генри! – закричала герцогиня, приветливо кивая ему через стол. – Как вы думаете, он действительно женится на этой обворожительной девице?
– Мне кажется, она решила сделать ему предложение, герцогиня.
– Как это ужасно! – воскликнула леди Агата. – Право же, кто-нибудь должен бы помешать этому.
– Я слышал из достоверных источников, что ее отец торгует мануфактурными товарами в Америке, – проговорил сэр Томас Бёрдон с надменным видом.
– Мой дядя уже высказал предположение о свиной бойне, сэр Томас.
– Мануфактурные товары! Что же это такое – американские мануфактурные товары? – спросила с ударением герцогиня, в удивлении поднимая свои пухлые руки.
– Американские романы, – ответил лорд Генри, кладя себе па тарелку перепелку.
Герцогиня была совсем озадачена.