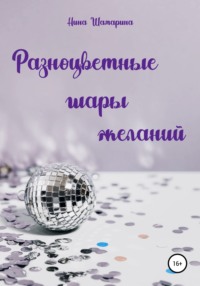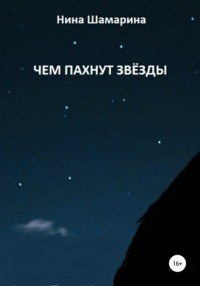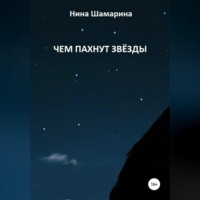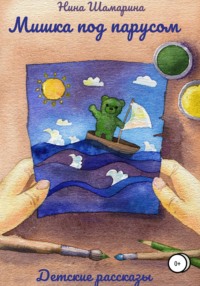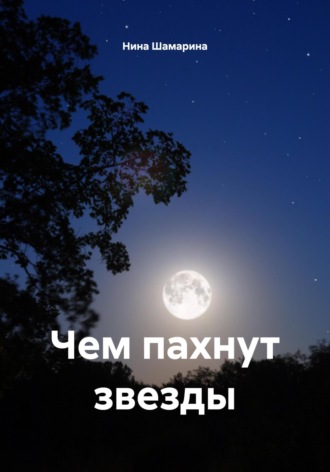
Полная версия
Чем пахнут звезды
Сестра
Моя сестра ушла недавно; ушла внезапно и решительно, так же, как все делала и при жизни.
Решительность, прямолинейность, суровость характера…не зря в юности ее звали Иваном за бескомпромиссность, хорошую реакцию, инженерный ум.
Я далеко не сразу осознала, что ее больше нет. Мы ехали с Иваном – сыном сестры – из морга, ритуальный автобус, светя фарами, тянулся за нами вослед. Подумалось: «Сейчас скажу: эк, сестра, на какой машинке тебя прокатили!» Нет, не скажу. Некому.
Училась сестра в Яропольце. В нашей деревне школа (в которой училась позже и я) – начальная, в пятый класс ездили или в Теряево, или в Детгородковскую школу (в нее строем водили детдомовцев в одинаковых темно-коричневых чулках), или ходили пешком в Поповкино (три километра), а сестра, приезжая домой только в субботу вечером и в воскресенье уезжая обратно, с пересадкой на двух автобусах, единственная из всех окрестных деревень, училась в исторически известном селе Ярополец.
Я в то время ее почти и не помню: разница в восемь лет сейчас, когда мне за шестьдесят, абсолютно ничтожна, а в детстве – пропасть!
В моем детстве мы не дружили, сестра относилась ко мне неодобрительно, кто ж знает, что тому причиной? Допускаю, банальная ревность старшего ребенка к младшему, потому что к маме мы обе испытывали благоговейную какую-то любовь, что, пожалуй, несколько сблизило нас, когда мамы не стало.
Сестра «проявилась» для меня совсем другою, когда училась в Красногорске в училище, снова лишь на выходные приезжая домой. Вечерами пятницы меня отправляли спать (субботним утром – в школу), но я долго не могла заснуть: болели щеки от смеха, губы улыбались, уши слушали, о чем мама с сестрой тихонько разговаривают на кухне.
И в каждую побывку – сестра с диковинкой для меня: то положит на блюдце не виданный ранее гранат; то повесит на стенку ночник – крошечную лилию (надобно заметить, что света этот ночник почти не давал, только сам цветок загадочно светился в темноте); то подарит на день рождения красную бархатную шкатулку, упоительно пахнущую клеем и деревом, с крошечным металлическим замочком. Эта страсть к редкостным вещам и приспособлениям осталась с нею на всю жизнь. Чего только не встречалось на ее кухне: лукорезки, яблокорезки, яйцерезки, чудо-терки, чудо-соковыжималки и чудо-отделители косточек… жаль только, что всем этим она почти не пользовалась.
А в школе Тамара Петровна, классная, однажды пытала меня:
– Что сестра подарила тебе на день рождения? – и обрывала мои восхищенные, но бессвязные описания картины из соломки – черной, лаковой, блестящей, с желтым парусником, стремительно мчащимся по едва заметным волнам, – а настоящий подарок есть?
Я недоумевала: что способно быть настоящее картины, на которую можно любоваться даже ночью: парусник тускло проступал из темноты.
В свои тринадцать, прямо в день рождения угораздило меня лежать в больнице с аппендицитом, мама и сестра приезжали ко мне. Стоя у окна палаты на первом этаже, они чертили в воздухе руками, строили мне рожицы… Я не могла смеяться, потягивало свежий шов, но как не хохотать над их уморительными представлениями?!
На сестре – коричневая шляпа и серое полупальто с коричневыми манжетами.
«Москвичка? – спросит меня о ней позже соседка по палате, – и добавит: – Сразу видно, городская!» Сдается мне, что я всю жизнь копирую это серое полупальто.
В этом же году сестра бросила свой Красногорск и вернулась домой, в деревню. Мама читала мне одно из писем сестры. Несомненно, переписка была непродолжительной, и мама не успела отговорить категоричную сестру от возвращения. Не знаю, как сейчас, а в годы моего детства и юности считалось, что из молодых в деревне остаются одни неудачники: учиться негде, работать – только на дойке и в поле. Сестра и стала работать в поле! Окончила курсы трактористов, и уже весною к ее «Беларуси» цепляли то борону, то сеялку…
А осенью мы остались вдвоем, девочка и девушка. Не вполне одни: тетка Ольга не оставила нас, за что ей, безусловно, низкий поклон. Мы с сестрой жили вдвоем в квартире, к тетке ходили обедать. Со всем остальным – куры и утки в сараюшке, огород, яблони, печка – справлялись самостоятельно. Потом сестра уехала учиться в сельскохозяйственный техникум, и мне пришлось переселиться к тетке, а после десятилетки отправиться в Москву, чего я совсем, совсем не хотела.
Люси, Нина и Ухти-Тухти
Вспоминаю себя чаще всего с книжкой. Сколько времени провела я в иллюзорных мирах, придуманных писателями…
Сначала книжки читала мне мама, а лет с семи, наоборот, я читала ей. Читать и писать мама умела, но очень медленно, ведь даже пресловутой церковно-приходской школы она не закончила (к ее школьному возрасту – в 1926 году – все церкви уже уничтожили). Она рассказывала, что в автошколе училась исключительно «на слух», запоминая лекции, потому что записывать их не успевала. Хорошо, что в ее сорок восемь, перед экзаменом на повышение классности шофера, я могла читать ей про устройство двигателя и октановое число бензина столько раз, сколько ей было нужно, чтоб хорошенечко заучить, а потом «для отдыха» я читала ей еще и «Избранные рассказы и очерки» Власа Дорошевича в сером матерчатом переплете.
Одна из книг, которую читала мне мама, пока я сама читать не умела, пленила меня, вероятно, тем, что книжка рассказывала о девочке Нине, то есть обо мне. Книжка называлась «Ухти-Тухти». Ничего в этой книге не вызывало у меня сомнений: ну стирает ежиха всем зверятам их пиджачки и жилетки, и девочке Нине стирает, что ж тут такого? Правдивость повествования мне подтверждали детали: ключ от хижины под порогом (как у нас, как у любого в деревне), крахмальное белье, горячий утюг, который трогали, поплевав на палец…
Однажды в гости к нам приехала мамина подруга из Москвы с дочкой Люсей и вечером после чая она принялась читать нам «Ухти-тухти». Она читала книжку про Люсю! Не про Нину, а про Люсю! Это возмутило меня так глубоко, что я даже осмелилась роптать!
– Да вот же, смотри, здесь написано «Люси́», – объясняла мамина подруга, тыча в незнакомые мне пока буквы.
Вероятно, после этого вероломства я и научилась читать, окончательно разочарованная книжкой «Ухти-Тухти».
Дети читают те книги, до которых могут дотянуться рукой. Я слышала на одной встрече от известной писательницы рассказ о том, какие обширные подборки великолепных изданий она находила в шкафах своих бабушек и читала их. В моем доме книг почти не водилось, но я очень много читала в детстве. Настолько много, что мне говорили, как говорят современным детям, оттаскивая их от компьютеров и телефонов – «глаза испортишь»; настолько много, что в деревенской библиотеке не оставалось не прочитанных мною книг.
В нашей библиотеке, как и в любой другой, долго держать книги не позволялось, но и сдавать их раньше времени тоже. «Быстро читаешь – ничего не поймешь», – такому девизу следовала местная библиотекарь. О, эти мучительные два дня до следующего посещения библиотеки, когда взятая накануне книга прочитана запоем в первые же сутки! Ходили слухи, что, принимая книгу, строгая наша библиотекарша могла спросить, каков сюжет, о каких событиях речь, и я, трепеща от такой перспективы, записывала в тетрадочку краткое содержание прочитанного. Мои старшие внуки в школе вынужденно вели читательский дневник. Пророс в обязанность страх послушных детей опростоволоситься? Правда, со мной такого никогда не случалось, никто со мной книг не обсуждал.
Несмотря на обилие и бессистемность моего чтения, три, от силы, четыре, книги из того периода стоят особняком: книга Осеевой «Динка», «Катя и крокодил» неизвестного мне автора и роман Мало «Без семьи». Этот роман я перечитала совсем недавно. Приступила с опаской: не исчезнет ли восторг от текста, над которым я рыдала, читая, не отрываясь, и подчас, не понимая, где я нахожусь: дома, свернувшись клубочком на тощем матраце моей металлической кроватки, придвинутой к печке, или на пыльной дороге с бродячими артистами; замерзаю с ними в шалаше, слушая, как воют рядом волки; корчусь в старом забое затопленной шахты, веря, что нас спасут. Сохранится ли трепет, не пропадет ли очарование? Скажу, что язык, стиль изложения мне теперешней абсолютно не понравился, но задумалась я вот о чем: что первично? Я выбирала такого рода литературу, потому что сама в детстве была такой – доверчивой, наивной? Или я стала такой, благодаря этой книге, точнее, этим трем книгам: и «Динка», и «Катя и крокодил» об отзывчивых, добросердечных, сострадательных детях. И с юмором у авторов этих книг полный порядок: как хохотали мои старшие внуки над «Катей и крокодилом», когда мы читали ее все вместе, вслух, друг за дружкой. Но «Динку», излюбленную «Динку», я перечитывать не рискнула, а ну как тоже разочаруюсь?
Платье с оборками
Магазин в нашей деревне стоял у самого шоссе – вроде, и с краю, а вроде, нет, образуя вместе с конторой и столовой центр, если возможно применить здесь это определение – экономический. Центр культурный – клуб, библиотека, школа – второй полюс притяжения.
Магазин – не сельпо. Такое название – снисходительно-презрительное к деревенским магазинам – я узнала лишь в Москве. Но, по сути, магазин таким «сельпо» и был в том смысле, что продавалось в нем все, начиная от хлеба и заканчивая костюмами джерси. Костюмы, как и другую модную одежду, «выбрасывали» по две-три штуки.
Однажды в магазин завезли летние платья для девочек, как раз моего тогдашнего размера и ослепительной красоты: на фиолетовом поле тут и там разбросаны букетики белых и красных цветочков, а по подолу и краям рукавов плиссированная лимонно-желтая оборка. Мы с подружками, бродя бесцельно, заглянули в магазин, оцепенели, очарованные: три платья друг за другом висели на плечиках, дерзкие, необычные, дразня нас и завлекая. Цена платья три пятьдесят. Летний будний день, мамы все на работе, просить купить платье не у кого, да и как просить?! По такой-то цене.
Пахло в магазине хлебом, да и сам свежий хлеб – кирпичики черного с хрустящей коркой и нежной душистой мякотью внутри, батоны, с вкуснющими длинными горбушками, саечки – продолговатые булочки плечом к плечу, как сиамские близнецы с общими боками, халы – толстые белые косы, щедро посыпанные маком – хлеб занимал деревянные полки полностью, значит, мама уже приезжала, уже разгрузилась, и конечно, платьев не видела, их вывесили позже. Моя мама работала на хлебном фургоне ГАЗ-53. Ежеутренне, кроме понедельника, она отправлялась в город на хлебокомбинат, а потом развозила хлеб по магазинам нашего совхоза. Отстояли магазины не так уж далеко друг от друга, но поездка по большей части по грунтовым дорогам, пылившим в хорошую погоду, занесенным снегом зимой, раскисшим и скользким в межсезонье занимала целый день.
Едва оторвавшись от обворожительного зрелища, мы выкатились в наливающийся пеклом летний день и молчаливые разошлись по домам.
Через пару часов, озираясь и не желая быть застуканной подружками, я снова наведалась в магазин: оставалось два платья, еще через час – висело одно-одинешенько.
Длинный июньский день перевалил за середину; в магазин я больше не ходила, что толку наблюдать, как исчезают платья и тает надежда, что одно из них будет твоим.
Мама приехала довольно рано, быстро управилась в тот день по сухой дороге. Пока она мыла руки, и мы устраивались за нехитрый ужин, я мялась, не зная, как подступиться к волнующей меня теме. Я смирилась, что мне платье не достанется, но расписать его во всех красках мне ничто не мешало.
– Фиолетовое, а оборки желтые здесь и здесь, представляешь? – восторженно, но с некоторой горечью рассказывала я.
– Не представляю, просто не представляю, – отвечала мама, поднимаясь из-за стола и направляясь к огромному гардеробу, загромождающему полкомнаты. В его нафталиновом нутре, никогда не занятом полностью, висели мамины платья: крепдешиновое цвета спелого персика, комбинированное – черная юбка и пестрая блузка с манжетами на черных обтянутых тканью пуговках; мамино зимнее бостоновое пальто с песцовым воротником; здесь же притулились моя кроличья шубка, местами вытертая до кожаной основы, новогоднее белое шерстяное платье с жабо из красной капроновой ленты, излишне вызывающее, на мой тогдашний взгляд, висела не надеванная ни разу матроска.
Дверца гардероба открылась со скрипом. Чуть в стороне от остальной одежды, незнакомкой, висело на плечиках фиолетовое платье с тут и там разбросанными букетиками белых и красных цветочков, а по подолу и краям рукавов желтела плиссированная оборка…
– Не представляю, – еще раз повторила мама и усмехнулась лукаво, – похожее?
– Когда ты успела? – выдохнула я.
– Так утром, когда разгружалась. Их четыре штуки привезли, мне одно Галина сразу и продала.
Я такая с детства: мечтаю о том, что уже давно прячется в моем шкафу, не осмеливаясь просить этого у высших сил.
Сладкая ты моя
В любом палисаднике вдоль дорожек цвели мальвы, но не такие, как встречались нам, когда мы ездили на Кубань – большие, в человеческий рост, разноцветные. Нет, в нашей деревне мальвы гораздо мельче, все одинакового розово-лилового цвета. Общего с теми, южными – форма листьев, цветов и семян. Семена мы ели, но в ход шли только зеленые. Вкус их неожиданно всплыл, когда недавно меня угостили кунжутным маслом.
Из мальвиных цветочков мы делали кукол. Распустившиеся цветки-граммофончики играли роль юбки на кринолине, а туго свернутые кулечки бутонов были головами. Самое замечательное, что оставленные на скамейке «куклы» расцветали головками: полежав на солнце пару часов, бутоны раскрывались, а юбки опадали.
Цветов на клумбах уйма: осенние астры, георгины и золотые шары; летние вихрастые пионы и флоксы с резким запахом; у многих по весне расцветали нарциссы и красные тюльпаны. Под окнами террасы обычны ночные цветы – маттиолы, перекликающиеся со звездами в небе, душистый табак. На самом солнцепеке в шине от автомобильного колеса – неизменные настурции, про них была смешная загадка:
– Когда продавщица цветов становится изменником родины?
– Когда она продает насТурции.
Но как продают цветы, мы знали только из кино. В вазах красовались полевые букетики из ромашек и васильков с неизбежно торчащими среди них колосками ржи, но пойти к кому-то в гости с букетом не было принято. Только первого сентября, как водится, тащили в школу цветы, как снопы.
Однажды (я училась классе в четвертом) мама собрала мне на первое сентября белоснежный букет из флоксов. Нам с ней казалось, что это очень изящно: белый фартук, белый воротничок и белейший букет. Зашла за Галяней – закадычной подругой, и ее мама со словами «что ж такой букетик бедненький» вложила мне в руку охапку соломенного цвета «золотых шаров» и розовых, чуть подвядших георгинов (хорошие ушли в букет Галяни).
Я несла этот букет и чувствовала себя предательницей, нарушив составленную мамой красоту, но и выкинуть чужие цветы, боясь обидеть Галяню, тоже не могла. Хорошо, что все букеты просто складывались на учительский стол, и понять в этой пестрой мешанине, где чей, через полчаса стало невозможно.
Фамилию Таричко носили бездетные старички: он – главбух, она – домохозяйка, и то, и другое в деревне – диковина! Их звали попросту – Тарички. Отчего-то я часто бывала у них в гостях. Светлые домотканые половики, белые чехлы на диване, шкатулка с цепочками и колечками, которые можно доставать и рассматривать, – их дом отличался невиданным богатством и чистотой. В их палисаднике по осени зацветали мелкие георгины, темно-темно-красные, до черноты, с круглыми кудрявыми головками, словно у негритят на первомайских открытках про дружбу народов. Много позже на московской выставке цветов я увидела эти георгины, они назывались «Черный принц». Привет из детства! Мне даже почудился запах свежей выпечки, коей угощали меня Тарички.
Еще у них единственных во всей деревне в саду росла малина – крупная, розовая. Все остальные ходили «по малину» в лес, зачем занимать место в саду, когда неподалеку, на пепелище кузницы или за полем с пшеницей заросли малиновых кустов? К тому же дикая, пусть мельче, но ярче и слаще…
В основном, ходили дети с трехлитровыми алюминиевыми бидончиками. На поясе – кружка. Набираешь кружку, пересыпаешь в бидончик. Негласный закон: пока бидон не наполнится, малину не есть: стоит одну ягодку в рот положить, не оторвешься, так и вернешься домой с полупустым бидоном.
Собирать малину, что корову доить, те же бережные движения сверху вниз. Правда, как доить корову, я знаю лишь теоретически. Когда я начала осознавать себя, от коров в деревенских сараях остались только стойла, но, я прекрасно знала, что совсем недавно вздыхала и жевала жвачку в нашем сарае корова Ночка – черная, худенькая, со звездочкой во лбу, а у тети Оли – Зорька, коренастая, бочкообразная, черно-белого окраса.
Во времена Хрущева частные коровы почти исчезли. К покосу разрешались крошечные участки вдоль дороги и в других неудобных местах, и все постепенно перешли на совхозное молоко, так или иначе избавившись от своих буренок.
Насобирав полную емкость малины, усаживались перекусить хлебом с маслом, посыпанным сахаром. Пока чуть отдыхали, ягоды в бидоне оседали, и приходилось добирать еще, досыпая бидончик доверху. Иногда кто-то шел с пятилитровым бидоном. Это вызывало всеобщее неодобрение – жадный, но о том мы не задумывались, что обирать малину этому жадному приходилось в полтора раз проворнее, потому что и приходили мы гурьбой в малинник, гурьбою и уходили, побаивались оставаться в одиночку. Боялись по большей части сбежавших зэков – нами ли эти страшилки сочинялись, нет ли? Ни разу мы никакой мрачной фигуры в черном ватнике и ушанке не встретили, но видели и шалаш в лесу, неизвестно кем сложенный, и миску алюминиевую с ложкой.
Однажды зимним ясным днем мы с Татьяной катались на Камушках – так назывался давно, еще до моей жизни разработанный и заброшенный гравийный карьер. Татьяна – та из моих подруг, что притягивала неприятности, как магнит железные опилки, поэтому услышав за ближайшей горкой возню и брань дерущихся мужчин, мы дунули с Камешков со скоростью Олимпийских чемпионов.
Что интересно: в саду собирали ягоды с неохотой, по обязанности, а за малиной гоняли – только повод дай. В саду ягоду нужно было всю обобрать, а в малиннике – бидон набрать. Вроде, и невелика разница в глаголах, а смысл неодинаковый. Вечером мамы варили на керогазе варенье в тазу, а мы, наевшиеся малины в лесу, с нетерпением кошек, увязавшихся за рыбаками, караулили, когда мама снимет в блюдечко первые пенки – духовитые, теплые, с остинками от ягод.
За грибами ходили чаще с кем-то из взрослых. Нет, за сыроежками и свинухами можно было метнуться вдвоем с подружкой в близкий поясок леса, сразу за автомастерской. Лесочек назывался Пени, и я предполагала, что подразумевались Пни, но из-за трудновыговариваемости словечко преобразовалось в Пени. В этих же Пенях по осени собирали опята; некоторые, особо предприимчивые грибники, устраивали себе делянки, пряча перспективные пеньки под прошлогодними листьями, заваливая буреломом стопиночки к ним.
По скошенному жнивью вылезали шампиньоны, но их мало кто держал за съедобные.
За белыми, подосиновиками, подберезовиками отправлялись в Большой лес, говорили, что он тянется аж до Владимира, заблудиться в нем – как нечего делать. Поднимались рано, свято веря, что грибы растут на рассвете, а к вечеру могут и состариться, и зачервиветь. Корзинка, ножик, бутерброд, резиновые сапоги, платок – защита от клещей, и в путь. В лесу разбредались, но часто аукались; собираясь ненадолго вместе, ревниво заглядывали друг другу в корзинки, количество найденных белых знали назубок.
Вернувшись ввечеру, грибы перебирали, долго отваривали в большой кастрюле. Благородные грибы жарили с яйцами, с луком или с картошкой – по сковородке в день – дней пять подряд; белые сушили, накрыв марлей, из подосиновиков варили суп. Я долго думала, что грибной суп должен быть черного цвета – по привычке из детства.
Волнушки, маслята, лисички и, разумеется, опята солили и закатывали в банки. По соленью грибов большой умелицей слыла тетка Ольга, ею засоленные крошечные опятки и сопливенькие маслятки украшали новогодний стол.
У деда Кузьмы пару раз с грибами не задавалось: его отвозили на скорой. С некоторых пор он доверял перебирать грибы только мне. Я грибы распознавала по запаху и противно пахнущие, который сам дед мог и принести в корзине, безжалостно выбрасывала. Жаль, что с возрастом да без практики этот навык совсем утратился.
Калитки и другие пирожки
Про варенье, выпечку, сладости можно рассказывать бесконечно. Варенье варили из уже упомянутой малины, черной смородины, крыжовника – этого добра хватало в любом садочке. Варили подолгу, до коричневого цвета. Проверяли на готовность, капая неостывшим вареньем на ноготь большого пальца на руке: если капля не растекается, варенье готово.
Пирожки пекли все по-разному.
У тети Ольги пироги никогда не удавались, и она их даже переворачивала, чтобы верхушка тоже зарумянилась. Думаю, что у нее стояла неудачная духовка, но бабоньки над теткой потешались: перевертывать пироги, надо ж такое придумать! И как только узнавали?! Не иначе, сама тетка и рассказывала, ища сочувствия и совета, что не так с ее печевом.
У моей мамы пироги, конечно, были самые лучшие! Кроме обычных, как у всех – с капустой или яблоками, мама пекла пироги со щавелем, пироги с зеленым луком…а еще ржаные лепешки с картошкой, большие, красивые. Совсем недавно я приметила похожие в каком-то модном кафе, только маленькие, и назывались они «калитки» – популярные финские и северорусские открытые пирожки. Где мама научилась печь их, вроде, она никогда не бывала ни в Карелии, ни в Вологде, ни тем более в Финляндии? В нашей подмосковной деревне никто подобных не лепил. Кстати сказать, и вышивка (а вышитые подзоры, салфетки, полотенца и накидки – отдельная тема) у моей мамы тоже была необычайно скромной и по-северному скупой на краски. Она вышивала крестиком одноцветных петушков, жар-птиц и пав-девиц. Да и на верхней полке этажерки рядом со скульптуркой белой гипсовой дамы с розой в руке, теряющейся в складках платья, стояла фигурка рыбачка в закатанных штанах, сетью через плечо и огромной рыбиной, живописалась мне выловленной в Норвежском или каком-нибудь еще, но непременно холодном море. Одна нога рыбака чуть потрескалась и, приглядевшись, можно было увидеть металлический стержень, словно кость в ране сломанной ноги.
Совсем иначе вышивала тетка Ольга, вышивала гладью, и всюду ярко синели васильки, склоняли головки бордовые розы с сочно-зелеными листьями, почти полностью закрывая белое полотно основы.
С пирогами связана у меня одна история, от которой мне до сих пор немножечко стыдно, даже со скидкой на детскую непосредственность. Произошло это летом, когда заболевшая мама уже лежала в областной больнице, то есть лет мне девять-десять, и я обреталась у тети Оли.
Как мы в то время договаривались с подружками пойти гулять или в кино? Заходили к ней домой, не стучась, не спрашивая: «Можно?»
Так и в этот раз – я заглянула к подружке Люсе. Раннее утро, но ее нет, уж забылось, куда она в тот день отправилась с папой, а мама ее затеяла пироги. Я это сразу поняла по муке, насыпанной на стол, по тесту, которое вымешивала Люсина мама, по запаху дрожжей. И так мне пирожков захотелось – просто никаких сил! Я поговорила вежливо о том, о сем, но не будешь же просто так в чужой квартире толочься…и вот тут-то стыд и начинается. Смекнула я, что пока суд да дело, часам к двум пироги поспеют. И что вы думаете? В два часа я опять тут как тут: «Люся дома?»
Люсина мама усмехается, поняла, видать, что к чему – какой уж тут секрет, желание пирогов, вероятно, на моем лице читалось ясно, как передовица в районной газете, без экивоков.
– Нет, – говорит, – и Люси нет, и пироги еще не готовы.
Покраснела я до слез, попрошайничать тогда считалось крайне стыдно, а я клянчила, пусть и без слов.
Надо сказать, семья эта – закрытая, прижимистая, мы в их квартире никогда не хороводились, как у нас дома, к примеру, у Татьяны или у Галяни, где ели все, что приготовлено и платья мамины мерили, и чай пили с пряниками да сушками, не спросясь… с чего я именно здесь понадеялась пирожками разжиться?
Больше я в тот день к Люсе не ходила, она сама меня нашла ближе к вечеру, сунула мне в руку два пирога, к сожалению, уже остывших.
При всем при том самым вкусным, самым желанным оставался торт из магазина. Как так, чем он лучше? Вероятно, только недоступностью, недосягаемостью и, конечно, «красотой». Если на день рождения покупался магазинный торт, значит, в семье достаток!
Белая роза
Торт стоял на холодной террасе, чтобы не испортился. Шикарный! Бисквитное дно, а на бисквите – вычурная белая роза из крема с зелеными, из крема же, листочками. Чудо! Я частенько приподнимала крышку картонной упаковки торта – любовалась.