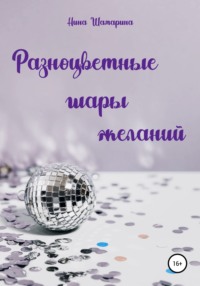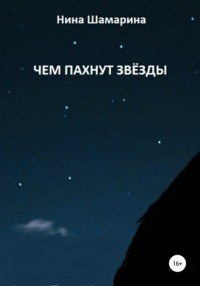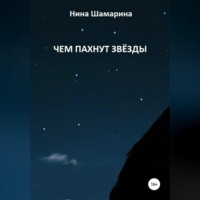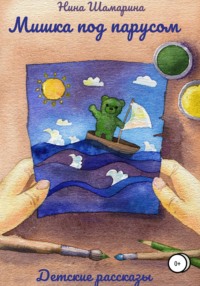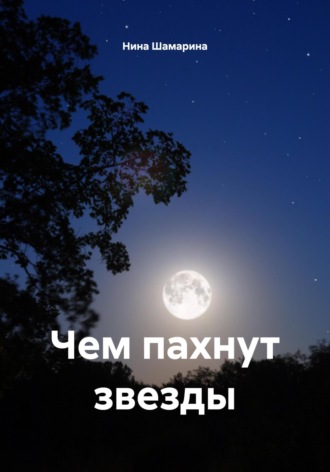
Полная версия
Чем пахнут звезды

Нина Шамарина
Чем пахнут звезды
Нина Шамарина
Чем пахнут звезды
Почерневшие жерди забора, одинокая крынка, как отрубленная голова на колу. Сколько ей лет, как долго она греется на солнце и мокнет под дождями, всеми забытая? Сколько вообще длится память, память о детстве, память о себе?
Переезд на телеге и чай на террасе
Самое первое мое воспоминание не относится к радостным. Не знаю, может, психолог, услышав такое, найдет объяснение каким-либо моим комплексам, но я считаю, что те события, которые я не забываю, запомнились исключительно своей яркости и выпуклости благодаря, а не тем, что имели горестную, а подчас и трагическую основу.
Самое-самое первое, что я помню, это лежащего на столе в обтянутом красной тканью ящике и бумажными цветами вокруг головы бледного человека. Моя мама уверяла, что я этого помнить никак не могу: когда умер ее брат, мне не было и двух лет, но признавала, что все выглядело так, как я рассказываю. Как часто, слушая рассказы подросших детей, мы удивляемся: как ты помнишь, ты ж была такая маленькая! Но поди ж ты! Сколько картинок хранит хрупкая детская память.
Вижу терраску (именно так называлась застекленная пристройка) и чайник с отбитым носиком, с красным цветком на боку. Отец лежит на полу, а крышка от чайничка колесиком катится к двери.
Мама не хотела, рассказывая мне, еще раз переживать тот случай, и в ответ на расспросы нехотя пожимала плечами: упал, разбил чайник, поэтому и помнишь. Почему он упал? Пьян, обморок, эпилептический припадок? И почему мне до сих пор жалко чайник с цветком на боку, а не полузнакомого мужчину, который долгое время жил лишь в моей памяти?
Или другое: вот мы втроем – отец за рулем газика, мама и я на ее коленях – подпрыгивая и едва не ударяясь головой о потолок – катим по ухабистой проселочной дороге. В одно из головокружительных подскакиваний я ударяюсь о металлическую ручку. Губы разбиты, мама прикладывает мне к лицу белейший капроновый шарфик. Он еще хранит тепло ее кожи и запах пудры «Сирень». Вообще, разбитыми губы, кажется теперь, были у меня всегда, я прекрасно помню их солоновато-металлический вкус от постоянных ранок и лопнувшей кожи.
Еще одна поездка, случившаяся и того ранее. На телегу погружены узлы, фибровые чемоданы, стулья и кухонные полки, посередине, возвышаясь над всем этим скарбом, круглый деревянный стол, на нем фикус в кадке, и девочка в коричневых чулках, синей вязаной регланом кофте, держит этот фикус изо всех силенок. Я. Моя семья, тогда еще полная – мама, папа, сестра и я – переезжает из барака в совхозную квартиру, именно ту, где и будет жить, постепенно уменьшаясь, до тех пор, пока не исчезнет совсем.
Барак – много-много комнатушек-коробочек, но каждая со своим крылечком, своею печкой, своей входной дверью с висячим замком.
На углу барака, аккурат под нашими окнами мок под дождями и гнулся в пургу тополь, даже, когда и барак снесли. Этот тополь посадил мой отец, когда я родилась, и дерево росло вместе со мною. Спилили его недавно, в его и мои шестьдесят пять. Конечно, посадки тополя я не помню. К тому же, совсем недавно я прочла, что детской памяти, в принципе, не существует, трехлетние дети, например, помнят лишь прошедшие полгода, а все, что мы знаем – каждый о своем детстве – рассказы взрослых. Я в это не верю – откуда тогда наши неуловимые, как взмах ресниц, тишайшие, как полет одуванчика, но такие ясные картины прошлого? И только для тополя я делаю исключение, допустив, что моя мама, посадив крошечное деревце, внушила мне, подросшей, что это сделал отец.
Любовь родителей – крылья человека, и если у ребенка нет отца – каково ему – с одним-то крылом? И мудрые мамы придумывают сказку и убеждают детей, что это правда. Так, выросший до неба тополь помог мне обрести и второе крыло.
Новая квартира от комнаты в бараке почти не отличалась, но была, безусловно, больше. Комната с круглым столом посередине, устланная серыми половиками; металлические кровати с подзорами, пикейными покрывалами, подушками, затейливо укрытыми неизменной вышитой накидкой; диван с круглыми откидывающимися валиками, швейная машинка, темное зеркало в тяжелой раме, фотографии на стенах; на кухне кроме печки – деревянный стол, выскобленный ножом добела, внутри его полотняные мешочки с мукой, крупами, на отдельной чистой тряпице хлеб; разновеликие табуретки вокруг стола, в сиденьях блестят шляпки гвоздей; у двери вешалка с пальто и телогрейками, в углу металлический рукомойник, раковина… вода стекает в подставленное ведро.
К зиме в окна вставлялись вторые рамы (летом они пылились на чердаке), и символическую фразу букваря «Мама мыла рамы», нам, детям шестидесятых, разъяснять не требовалось. Терраска, крыльцо в пять ступенек, сбоку навес, под навесом будка. В ней долго-долго жил беспородный пес Мока, а потом, когда он ушел помирать, сменилось много разных собак: добродушный Серый, злой угольно-черный широкогрудый Марс, в остервенелом лае сверкающий белоснежными клыками, молодой, сгинувший где-то Каплик.
На неотапливаемой террасе зимой валялся веник – обметать снег с валенок, здесь скидывались лыжи, оставлялись санки. Промерзшие полы террасы визжали и стонали взахлеб, не давая тайно прокрасться, если вдруг понадобится.
Летом на терраске стояла кровать, велосипеды сестры: дамский с сеткой на заднем колесе, чтобы в спицы не попала длинная юбка, хотя, конечно, эта мода осталась со «старых» времен, в ту пору длинных юбок никто уж не носил, и второй – велосипед мужской большой. На нем мы вдвоем с сестрой иногда катались по шоссе (я сидела боком на раме) и распевали «А у нас во дворе есть девчонка одна…», «Старый клен, старый клен, старый клен стучит в окно…)
Мой велосипед присоединился к сестринским много позже, когда мне было лет одиннадцать. Когда-то этот велосипед тоже был куплен Тае, старшей моей сестре, девчачья «Ласточка» в отличие от «Орленка» – велосипеда с рамой.
Велосипед со ржавой соскочившей цепью и без седла валялся в сарае, и это было то время, когда я выросла из велосипеда трехколесного, отдаленно напоминающего нынешний квадроцикл, а на двухколесном ездить не научилась: в Таином дамском мои ноги не доставали до педалей. Тогдашние мальчишки гоняли на больших велосипедах под рамой – причудливо извернувшись, но девочки до того не снисходили. Зять тети Ольги и дяди Кузьмы – рукастый, не умеющий сидеть без дела москвич, приехав в отпуск, извлек этот старый велосипед из сарая и починил его. Я, на свою беду, очутилась поблизости.
– Опробуй, – сказал он мне, – без седла пока прокатись.
Я так боялась оконфузиться, что мне ничего не оставалось делать, как поехать. Поехать, стоя на педалях, сначала вихляя и шатаясь, но все более и более разгоняясь. Дух захватило от счастья!
Так у меня появился замечательный велосипед. Зять тетки покрасил его серебрянкой, раздобыл где-то и укрепил на руле блескучий звонок, а дед Кузьма сшил кожаное седло и подарил мне гаечный ключ двенадцать на четырнадцать.
Половину терраски занимал стол и по вечерам за ним часто пили чай, накрывать его иногда доверялось мне.
В чайник – металлический, большой, зеленый, литров на пять – я аккуратно, чтобы не пролить на пол, цедила воду, принесенную из колодца, прямо из оцинкованного ведра, через край. Двумя руками поднимая, ставила тяжелый чайник на электрическую плитку. Тоненькая плотно закрученная спираль, змейкой проложенная в керамических желобках, в одном месте чуть раскрутилась, и завитки, слегка вылезающие из своего ложа, перед включением плитки приходилось заправлять на место.
Спираль медленно краснела, наливалась алым цветом, как малина соком, становясь все ярче, все горячее. Конечно, когда чайник стоит на плитке, этого не увидеть, но что мешает приподнять чайник и любоваться этим до тех пор, пока лицо не обдаст жаром? По бокам чайника стекают мелкие капли и испаряются сначала с мягким шипением, потом с острым сухим треском; в его утробе зарождается глухое ворчание, перетекающее в тоненький свист. Из носика вырывается пар, и я выдергиваю вилку из розетки. Чайник остается на выключенной плитке, постепенно успокаиваясь, но долго ворча. Однажды я отхлебнула из слегка бормочущего чайника, прямо из носика (нестерпимо захотелось попить) но не ожидала, что вода так горяча. Пришлось потом катать во рту округлое подсолнечное масло, почти не ощущая обожженным языком его маслянистых боков.
Днем все на террасе оплывает от зноя, настежь раскрытая на улицу дверь и тюль на окнах от пекла не спасают. В стекло, нет-нет, бьется ленивая муха, и когда она прекращает жужжать, кажется, что ее сморило от расслабляющего зноя.
А вечером воздух остывает, словно твердея; становятся более четкими очертания предметов, глубокими и насыщенными цвета. Прямо у крыльца благоухают маттиолы – ночные цветы, они раскрываются к вечеру и источают дурманный запах.
На светло-синем небе загорается первая звезда маленькой точкой, без лучей. Тонюсенький месяц повисает на третьей снизу ветке яблони, и эта яблоня отделяется от остальных, выдвигается на первый план, солирует. Но вот высыпают звезды еще, и еще, и еще, словно зерна в посевную, рассыпанные по полю щедрой рукой. Кроны яблонь сливаются в общий шатер, становясь неразличимыми в темноте, и луна поднимается выше и выше. А вот и ковш сияет во все свои семь звезд.
Подружка Таня настаивает, что звезд в Большой медведице – восемь, но, якобы, только самые глазастые различают четвертую звезду в ручке ковша. Мне не хочется показаться близорукой, и потому я киваю согласно: «Восемь, восемь, я вижу восемь! Во-о-о-он восьмая!»
Стрекочут на разные голоса кузнечики, и одинокий стройный тополь за калиткой изредка трепещет под мимолетным ветерком, что твоя осина.
Чай из желтой пачки с нарисованным на боку слоном давно заварен в фиолетовом с золотыми вензелями чайничке из сервиза «Кобальт», укрытым «бабой на чайник». Только «баба» совсем не баба, а изящная девушка с тонкой талией, пышной юбкой, в шляпке и с ажурным зонтиком. Я верю, что именно этот зонтик ловит аромат чая, как сачок бабочку, не давая ему улететь с чуть заметным сквозняком. Чашки из сервиза, чтобы не разбились, вынимаются из буфета только по праздникам, а заварной чайник несет свою службу ежедневно. На столе – пряники, сушки, карамель без оберток в блестящих крупинках сахарного песка, но я очень люблю пить чай с сахаром. Его – плотный, разновеликими кусками – раскусить непросто, и я макаю его в чай, как, впрочем, и все остальные: мама, сестра, тетушка…
Очень важно не прозевать момент, когда сахар чуть подтаял, но не начал растворяться. Однако так заманчиво наблюдать, как образуется сироп, и две жидкости разной плотности, толкаясь и волнуясь, проникают друг в друга. Горячий чай все переливают из чашки в блюдце, и смачно прихлебывают.
Тихо спускается ночь, и мама зажигает свет. Взлетают и кружатся вокруг абажура ночные мотыльки, иногда глухо стукаясь о лампу. Взрослые изредка переговариваются, а я держу на согнутом локте клонящуюся к столу голову. Сон смыкает веки, но я упрямо таращусь: «Нет, я не сплю», но наконец, сдаюсь, и, ныряя в прохладу своей постельки, чувствую, как медленно плывет и вращается Земля, чтобы через несколько часов подставить Солнцу свой бок.
Телятник и телята
Странно, что картины прошлого хранятся в моей памяти открытками, с застывшими, как в игре «Замри» фигурами, не изменяясь с годами, не развиваясь, и не тускнея; острова в океане: вроде и торчат незыблемо и прочно, но разрушаются, размываются, превращаются в соленую воду. Только кажется, что я помню не событие, а то, как я рассказываю о нем кому-то. Я почти уверена, что эти воспоминания, перенесенные на бумагу, исчезнут, разлетятся, как пепел от сожженной страницы: сначала он держит форму, можно даже различить отдельные буквы, но стоит прикоснуться, как страница обращается в серебристую пыль.
Но некоторые из этих картин, как элементы утерянных пазлов, выпрыгивают только сейчас.
Например, как красили в мои детские годы полы. Сначала в доме появлялись тяжелые металлические банки с загадочной надписью «Охра»; за вечерним чаем все чаще возникали разговоры о том, когда лучше красить – утром, перед работой, или в выходной?
Совершенно не помню, в какой день и, главное, как – полы красили? Кто? Осталось ощущение зябкости и зыбкости. Двери и окна открыты настежь, по комнатам гуляет сквозняк, одуряюще пахнет краской: запах тяжелый, резкий, но хочется вдыхать его вновь и вновь. От входной двери до противоположной ей стены на кирпичах покоится пружинистая шершавая доска. Стоя на ее середине, так весело качаться! Но мама гневается («Сломаешь!»), и гонит прочь на улицу.
А назавтра, проснувшись, первым делом ловлю солнце, отраженное от блестящих половиц. Мамы нет, она уже на работе, и я трогаю окрашенный пол сначала пальцем, потом ладонью, потом, вскочив на ноги, пробегаю по узким планкам пола как по клавишам: до-ре-ми-до! А той широкой великолепной доски уже нет, только те места, где вчера лежали кирпичи, свежеокрашены. Рядом белеет записка: «Не трогать, не наступать!», но напрасно. На квадратике у маминой кровати навсегда остался отпечаток моего мизинца.
Гораздо, гораздо чаще, чем красили полы, белили печку мочальной кистью. Кисть, и правда, была похожа на мочалку, какую мы брали с собою в баню, только та – большая и растрепанная, а эта туго стянута в пучок, с оставленной бахромой на краю.
Печка стояла между кухней и комнатой. Ее горячая плоская спина, обращенная к комнате, служила стеною. К этой стене в холода ставилась моя кровать, отчего побелка стиралась одеялом. Летом печку белили заново, и это часто поручалось мне, стоило чуть-чуть подрасти.
В самый первый раз у меня ничего не получилось. Я макнула кисть в побелку – толченый мел, разведенный водой. Побелка капала вокруг, и я заспешила: с силой провела по печке на высоте своего роста раз и другой. Но печка не стала белее, как я ожидала, а наоборот потемнела, посерела… я снова макнула, и снова провела, и так до тех пор, пока под кистью не обнажились красные отмытые кирпичи.
Много позже я сообразила, что побелка побелеет лишь, когда просохнет, и что белить нужно нежно-нежно, едва касаясь поверхности.
Мочальной же кистью белились, не реже, чем раз в неделю, стены в совхозном телятнике – там работала тетя Оля.
Оглядываясь назад, я изумляюсь: сколько времени я провела в телятнике, сколько всего видела, сколько всего делала: кормила, убирала, загоняла; сколько перечувствовала и радостного, и мрачного!
Начать с того, что рядом за стенкой находилось родильное отделение, там стояли тельные коровы. Там же привязанный цепью огромный рыжий бык косился на меня темно-фиолетовым глазом, позвякивал кольцом в носу. Его редко выгоняли на выпас с остальными коровами: пару раз он «катал» пастуха, тот едва спасся. Мы, гуляя по полям, по долам, завидев вдали пасущееся стадо, выискивали глазами пастуха. Различив конного, стремглав неслись прочь: если пастух на коне – в стаде бык.
Здоровенькие народившиеся телята уже через час вставали на ножки, и их сразу переводили в отделение к тете Оле, а корову через пару дней отправляли в коровник, для исполнения основной задачи в совхозе – давать молоко!
Отел я видела однажды, и то потому, что теленок шел неправильно, задними ножками, и корова никак не могла разродиться. К этим, едва высунувшимся ножкам с копытцами и в шерсти, привязали веревку и трое взрослых тянули эту веревку что есть мочи, пока теленочек не свалился в подстеленную солому.
Телятник – весь как детский сад – поделен на группы по возрасту: малыши, дошкольники, подростки. У самых маленьких в «ясельной группе» – отдельная клетка-загончик, в индивидуальной кормушке блестящий зализанный, как карамель, кусок соли; кормежка – пять раза в день, через соску, словно у народившегося человеческого детеныша, чуть позже из ведра – каждому отдельно, в которое мерной кружкой вливалось ровно два литра молока. Телята разного окраса, разного темперамента: одним можно оставить ведро и забрать лишь, когда опустеет, другим ведро нужно держать, могут скинуть ненароком, поддавая посудину крепким лбом, на котором рожки еще не видны, но легко прощупываются и обозначены крутыми завитками шерсти. Через месяц малышей переводят в группу постарше, здесь у них – один загон на десять голов, одна кормушка – все общее. Этих выгоняли в хорошую погоду на выбитый копытами пыльный двор с поилкой посередине. Пользы от этих прогулок – только ультрафиолет, никакой мало-мальской травинки в загоне не растет. Здесь им раздавали «зеленку» – свежескошенный горох пополам с овсом. После прогулки телят загоняли обратно, а пока они гуляли, я тоже «паслась» в горохе. Счастье – когда стручки целехонькие, иногда зеленка перемалывается так мелко, что не найти и горошины в этом месиве.
По утрам тетка Ольга заваривала телятам «чай» из тысячелистника, чтобы «не дристали», иногда из той же бочки зачерпывала этот душистый, пахнущий летом «чай» и я.
Зоотехник – уважаемый человек (как любой в деревне с высшим образованием: их раз-два и обчелся) хромал, постукивал деревянной ногою ту-туп, ту-туп. Однажды, ничтоже сумняшеся, он на моих глазах (лет шесть мне всего тогда и сровнялось) зарезал больного теленка. Темная густая кровь стекала ручьем, вырывался свист из перерезанной трахеи.
Совхозные телята – как детдомовские дети: ни кличек, ни имен, ни своеобразия, если только нечто из ряда вон. Так, народились однажды двойняшки – рыжие, беломордые, и я назвала их Яшка и Дашка, постепенно привыкла окликать их по имени и тетка. Бычок Яшка и рос быстрее, и рыжий цвет его шкуры переливался красным, отливал медью; Дашка – светлела, становясь светло-желтенькой, словно анемичный ребенок, не прибавляла в весе… Дашку пустили на мясо, я, узнав об этом, долго отказывалась есть, но потом привыкла.
История
Озираюсь мысленным взором в растерянности: никого – ни мамы, ни сестры, ни теть Оли и деда Кузьмы, ни их детей, ни моего мужа – не осталось на этом свете. Я – самая старшая, стою на краю, и многое из того, что я рассказываю здесь, не помнит никто. Никто, кроме меня.
Иногда я думаю, а как бы сложилась моя жизнь, если б я родилась, к примеру, на Академической или на Шаболовке, и мама, а может, и няня водила бы меня гулять в Нескучный сад? Или наоборот, я родилась бы в селе Злынь Орловской области, откуда родом моя мама и вся ее семья? Что первично в характере человека, что влияет в детстве на него в первую очередь, те ли, кто рядом, то ли, что вокруг – поля и леса или асфальтовые моря и озера?
В деревне Ботово моя семья оказалась случайно. Дед Кузьма (на самом деле – не дед, а муж маминой старшей сестры, который взял надо мной опекунство, когда не стало мамы) воевал где-то рядом с этими местами. Голодное разоренное село Злынь, в котором мамина сестра Ольга пережила оккупацию с тремя маленькими детьми, не устраивало их больше, и они – Кузьма и Ольга, прихватив с собой помимо детей и мою маму, отправились искать лучшей доли. Моя мама в войну работала шофером, возила уголек на шахтах Донбасса сразу после его освобождения от фашистов в 1943 году.
Мне рассказывала шепотком моя двоюродная сестра, что мама проводила на фронт жениха, но он, якобы, пропал без вести, правда, через пару-тройку лет после победы обнаружился в деревне неподалеку с женой и детишками.
Мама никогда не говорила со мною о войне, впрочем, как и остальные, словно война маму вовсе не коснулась. Лишь единожды, в истории войны совсем не касающейся, она обмолвилась: я его до войны знала.
История была о хорошем человеке, коих, я знаю точно, – большинство – в любое время, и тогда, и сейчас.
Мама мыла машину ЗИС, на которой она работала тогда, и всплакнула о своих родителях, оставивших ее сиротой в малом возрасте (в скобках заметить, и сама мама ушла на небеса очень-очень рано). Моет машину, плачет тихонечко, бывают такие минуты, когда одолеет светлая грусть, унять которую почти невозможно, если не выплакаться.
Завидев ее слезы, бригадир стал расспрашивать, что случилось, и мама ответила, как на духу, мол, умерла мама, и мне грустно и одиноко.
Бригадир засуетился, предложил немедленный отпуск на три дня, премию…
– Да мама уж пять лет как умерла.
И бригадир расстроился вовсе, потому как от такой, неизъяснимой печали не помогут ни отпуск, ни премия.
Ехала моя семья в богатый совхоз, но помешала ей туда добраться мамина красота: влюбился в нее на станции молодец-удалец и уговорил всех ехать в совхоз Стеблево, который на самом деле оказался самым захудалым, занимающим в соцсоревнованиях по району последние места. От молодца-удальца осталось только отчество Ивановна у моей старшей и единственной сестры. Лет через семь в маминой жизни появился мой отец, который тоже надолго не задержался. Дети Кузьмы и Ольги выросли и уехали – дочки в Москву, сын – в Одессу, в мореходку, сестра моя, восьмью годами старше меня, училась в интернате, приезжая домой по воскресеньям, а потом и вовсе подалась в Красногорск, и мы – Кузьма, Ольга, мама и я – жили двумя домами, но, практически, одной семьей.
Деревня наша состояла из двух частей: собственно, деревня – привычный ряд домов по обеим сторонам улицы и вторая часть – поселок – линейка финских домиков на два, четыре или шесть хозяев каждый, точно так же, как деревенский дом – с печкой, палисадником, огородом, частоколом посеревшего от непогоды забора. Но в деревне дома свои, частные, а в поселке – совхозные квартиры.
Чуть позже построили два кирпичных двухэтажных дома, их уважительно именовали микрорайоном. В шестьдесят третьем, когда я перешла в пятый класс, на краю парка построили кирпичную же двухэтажную школу. В холле выложенная кафельной коричневой плиткой красовалась дата 1963 и трудночитаемое слово ПШОТС, что означало «подарок школьникам от строителей». Тогда же в микрорайоне появился еще один двухэтажный дом, который до сей поры называется «учительский», в него переехали учителя из Поповкина. Деревня Поповкино, как, пожалуй, любая цивилизация, пережила расцвет, гордясь своей восьмилеткой, и упадок – в деревне остался пяток учеников, и потому школа перебралась в наше Ботово.
Не ясно, почему Ботово – деревня, а не село: в период моего детства между школой и плотиной тихо разрушалась церковь. Возможно, потому, что церковь – домовая, для господ, не для всего люда? Сегодня храм восстановлен усилиями моей сестры, которая отдала ему свои последние двадцать лет жизни.
Примерно в то же время, что в деревне появился учительский дом, дед Кузьма и тетя Ольга переехали в квартиру в кирпичном доме, и отныне мы с мамой проводили у них все вечера: гоняли чаи, смотрели телевизор (у нас не было), лузгали семечки, играли в карты. Играли в подкидного дурака, двое на двое. Я играла плохо и невнимательно: не запоминала какие карты вышли, какие нет, у кого мог осесть козырной туз, подчас и какие козыри на кону, забывала, поэтому мы с мамой выигрывали редко. Если такое случалось, дед приговаривал:
– Это мы специально поддались, чтоб Нина слезку не пустила.
Если мы вдруг выигрывали повторно, «не корову проигрываем», – говорил он. Но уж коли мы оставляли их в дураках третий раз подряд, дед швырял карты на стол и долго бубнил и бухтел, как несправедлива жизнь, а в карты в этот вечер мы более не играли.
Телевизор вещал всего лишь двумя программами, и не дай бог, если одновременно по этим программам шли два фильма.
– Так, – говорил дед, – посмотрим, что здесь происходит, пока эти ползут, – и перещелкивал плоскогубцами вещание на другой канал (пластмассовый переключатель давно сломался).
Шумел на плите чайник, булькала вода в батареях отопления, а мы, не отрываясь, смотрели кино какой-нибудь киностудии имени Горького. Более других запомнился фильм «Васса Железнова» с Верой Пашенной и Михаилом Жаровым, вероятно, потому, что взрослые бурно спорили – хорош Жаров в этой роли, да и вообще, хороший ли он актер. Почему это их так задевало? Добро бы, обсуждали игру Ивана Переверзева, он их земляк, болховский, объясним особый интерес.
Мне нравился фильм «Сережа», отчасти оттого, что мальчик едет в Холмогоры. Совсем неподалеку от нас, по пути в Волоколамск, есть село Холмогорка, и меня грела мысль, что именно о нашей Холмогорке страстно мечтал Сережа.
Дед
Иногда, крайне редко, дед Кузьма вспоминал войну, но дома все какие-то анекдотические истории, которых мне почему-то хватало. А теперь и спросить не у кого.
Когда я училась в школе, деда неизменно приглашали на День Победы к памятнику павшим солдатам на традиционный митинг. Он говорил на этих митингах о том, как спас девочку из огня, подобно тому солдату, что застыл памятником в Трептов-парке, а дома, в застольях, рассказывал другую историю: как «языка» взял, отлучившись на линии фронта «по малой нужде». Все весело смеялись, делясь подобными «смешными» историйками…