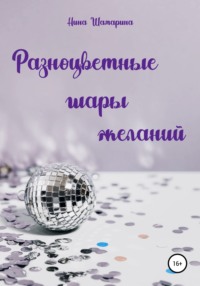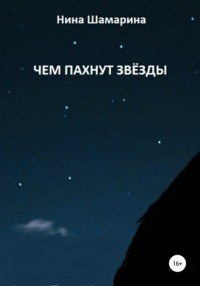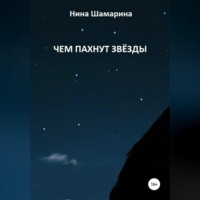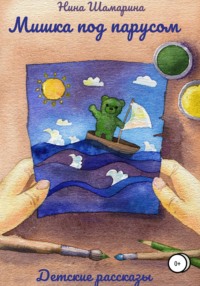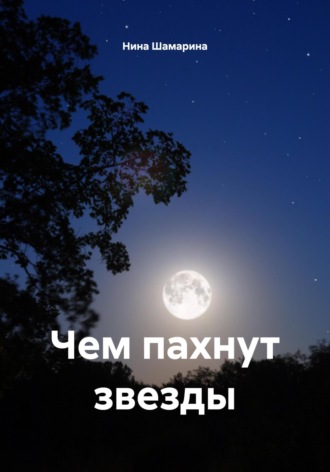
Полная версия
Чем пахнут звезды
Родня звала его «дед», как и бывает обычно, когда появляются внуки, но мне фактически – не дед никакой. Муж моей тети, кто он мне? Но когда я осталась сиротой, именно дед стал моим опекуном. Нелепо и трогательно: мне – восемнадцать, я работаю и учусь на вечернем, а дед, привозя мне в Москву картошку – синеглазку со своего огорода, – непременно привозил еще и шоколадную медальку, потому что «Нинка их уважает», и металлический рубль «на мороженое».
Деда Кузьму призвали на фронт, как и большинство мужского населения СССР, 23 июня 1941 года, только первый месяц он провел в учебной части. Может, я ошибаюсь, и занятия длились гораздо меньше: чему такому необыкновенному нужно учить тех, кто вчера, в мирное время распахивал трактором поля?! Про эту учебку он упомянул лишь однажды: постоянный голод, и все рвались на фронт и из-за голода отчасти. Фронтовая пайка весила гораздо больше той, что в учебке.
Дед воевал в 213 отдельной танковой бригаде, только не на танке, а на автомобиле. Когда я читала про эту двести тринадцатую, подивилась тому, что эта танковая бригада полностью оснащалась трофейными немецкими танками PZ. Из-за этого танки часто бомбили наши самолеты, убивая и калеча наших же.
А на какой машине ездил дед? Как большинство военных шоферов на «полуторке»? Его сильно упростили – этот стильный грузовичок, в ущерб, в первую очередь, удобства водителя, конечно. Осталась одна только левая фара (да и ее прикрывали пластиной с прорезью для светомаскировки), убрали зеркало заднего обзора, мягкие пружинные сиденья заменили доской. И самое главное, шофера сами снимали двери и взамен вешали брезентовую скатку, чтобы выскочить быстро, если машина загорится. Не до жиру, быть бы живу! Иногда размечтаюсь и представляю, что автомобили в танковой бригаде, как и танки, были трофейными, и рассекал дед по бездорожью, глотая пыль проселочных дорог на Opel Blitz.
Почему-то очень живо воображаю, как дед пишет письмо домой. Дома – жена-красавица, трое детей. Младшая родилась в апреле сорок первого. Трое детей и двадцать два месяца в оккупации. Село Злынь, Болховский район, Орловская область. И вот дед в кабине своей полуторки, слюнит припрятанный химический карандаш, а над ним равнодушное око белобрысой луны. Интересно, он писал письма просто на коленке, или у деда планшет, как у пилотов? Мне на память приходит «Дорогая моя Екатерина Матвеевна», хотя я знаю отлично, что это писал другой солдат с другой войны.
Какого цвета орденские планки медалей «За боевые заслуги», «За отвагу» я помню прекрасно, сколько раз я обновляла их на дедовом выходном пиджаке, пока он, стоя в одной рубашке, распевал: «Фронтовики! Наденьте ордена!» Но никогда не знала – за что конкретно они, эти медали. От равнодушия? Нет. Тогда, в шестидесятых, у всех мужчин, ровесников деда, висели на груди ордена и медали, и никто не задавался вопросом: за что конкретно? «За войну, за победу», этого достаточно. Недавно в архивах нашла (многое возможно найти в интернете!), что наградили деда за то, что он вывез тридцать пять раненых с поля боя. Явственно слышу его беззлобный матерок (любимое ругательство «ах ты, каналик!» от слова «каналья», что ли?), пока он затаскивает в машину тех, кто подняться в кузов сам не состоянии, подталкивает, подпихивает, поторапливает легкораненых, но даже представить не могу, как возможно проделать все это при его далеко не атлетическом телосложении.
Медалью «За боевые заслуги» награждены более пяти миллионов человек, более пяти миллионов незаметных трудяг, ратников таких же, как он, мой дед.
А жена Ольга? Качает зыбку с крошечной девочкой.
«Ку-зя, Ку-зя», – поскрипывает зыбка, потому что все мысли о муже: «Как ты там, Кузя, на войне?» Смотрит в окно луна, сурово хмурится, укрывается платком ближайшего облака. И луна ведь та же – одна на всех, светящийся якорь, подвесной мост – смотрит одинаково холодно, заливает мертвенным светом и Орловщину, и Витебск, а не расскажет, жив ли, не ранен?
Хорошо, что дети сыты: когда немецкий солдат пришел за коровой, Ольга кинулась на нее: «не отдам!». То ли немец попался хороший, то ли сыграло роль то, что детей – трое. Ныне, когда прошло столько лет, я нашла в интернете, что многодетным мамкам корову немцы часто оставляли, тем паче в тех хлебородных местах. Захватчики строили хозяйство на русской земле, им нужны были работники. А какой работник, если дома голодные истощенные дети? Младшая – сыта, пока у матери есть молоко, пусть и голубоватого оттенка, жидкое, малой жирности (откуда ей взяться, жирности-то?), а старшим – (35-го и 36-го годов рождения) – картошка и молоко от той, не отданной коровы. Ольга делит лакомство – сахар – поровну, по кусочку. Миша – неторопливый и мечтательный увалень, пусть и старше Маши на год, во всем сестре уступает. Покорно открывает рот по ее просьбе, и Маша тащит оттуда начавший таять сахар, всю дневную порцию. Смех и грех!
Ольге повезло: немцы не размещались на постой в ее избе, и работа досталась не тяжелая: мыть клуб, который стал немецким штабом на время оккупации. Только мазалась перед работой глиной, чтоб не трогали: больно красива с ее белой кожей и венцом кос вокруг головы, с ее статью и величавостью.
Дед вернулся домой без единого ранения. Но в снах усаживал в машину раненых бойцов, оборонялся и шел в атаку. Потом, много-много позже, к своим восьмидесяти годам, стал заговариваться, и все на ту же тему: наступление, враги, огонь!
Совсем недавно мы семьей ездили в Злынь, место, где все: и Кузьма, и его жена Ольга (моя тетка), и моя мама – родились, откуда ушел дед на войну, где остались «под немцем» его дети. Ездили мы искать свои корни, моего деда по маминой линии – Шамарина Алексея. (Не знаю о нем почти ничего, пожалуй, лишь то, что он служил на Злынском конезаводе ветеринаром). Но вот что странно. Когда мы бродили по полям и дорогам, ходили на кладбище, где даже не надеялись отыскать могилу деда, а лишь постояли у самой старой во всей округе березы, назначив ржавый крест под ней местом памяти наших родных, я видела, словно воочию, не этого известного мне по одной-единственной фотографии предка в фуражке ефрейтора царской армии, а деда Кузьму, золотушного белоголового сироту, пасущего гусей, боязливого и никому ненужного, каким он жил в Злыни в свои шесть лет. Его глазами я смотрела на эти большие, как крестьянские ладони, поля, такие же черные и работящие, такие же щедрые. С нами ездил внук Кузьмы и Ольги, подполковник, десантник, правда, нынче уже в отставке, настоящий воин, прошедший через огонь, наверное, всех горячих точек, выпавших на долю его поколения. Это его мать малюсенькой девчушкой качалось в люльке, это ей давал вместо соски марлечку, смоченную в молоке, старший брат, пока их мать, не поднимая глаз, мыла немецкую комендатуру.
Мы расспрашивали и о Шамариных, и о Сидоровых, в небольшом поселке полно и тех, и других.
Когда мы уже садились в машину, чтобы ехать домой, в светлом июньском небе засветился тонюсенький рожок молодого месяца такой нежный и такой юный, как двухдневный жеребенок на конезаводе, виденный нами днем, который все никак не мог встать на худенькие голенастые ножки. И было в этом жеребенке и в этом народившемся месяце обещание счастливой и долгой жизни и светлая печаль о всех, кого нет больше с нами.
Что я теперь могу сделать для них? Поздно, слишком поздно. Убраться на могиле, да принести пригоршню земли из Злыни, той деревни, на окраине которой зарыты их пуповины. А еще помнить и сравнивать, ждать хороших новостей и молиться, чтобы скорее это закончилось.
Два ужаса в одном романсе
Дед Кузьма не заменил мне отца. Разве отца, как и любого другого человека, можно заменить? Но дед был частью семьи, частью меня.
Кроме всего прочего, дед свято верил в мои таланты, в те, коих у меня и в помине не было – вокальный, например. Я часто пела его любимую песню: «На побывку едет молодой моряк, грудь его в медалях, ленты в якорях». Скучая по сыну, дед просил меня петь эту песню по семи раз на дню, неизменно бурно аплодируя и произнося: «Выступать тебе в Большом театре!»
А из романса «Гори, гори, моя звезда» сложился целый эстрадный номер, совершенствуясь раз от раза.
Я накидывала на плечи большой бежевый платок с коричневыми полосами по краям, совсем не нарядный, мама повязывала его, уходя на работу или в сарай, или к колодцу, но в номере ему отводилась роль роскошной шали.
«Гори, гори, моя звезда, звезда любви приметная», – пела я, почти не двигаясь, лишь поводя глазами.
Надо сказать, что тогда и на эстраде не принято было двигаться, певцы стояли у микрофона навытяжку. Лишь году в восьмидесятом, Людмила Сенчина и Эдуард Хиль, напевая веселую песенку «Дождь за окнами, идет за окнами, идет за окнами опять…» позволили себе пританцовывать в такт музыке, сходясь и расходясь, и шнур от микрофона тащился за ними.
«Звезда любви,
Звезда волшебная,
Звезда прошедших лучших дней,
Ты будешь вечно незабвенная
В душе измученной моей»,
продолжала я, слегка протягивая руки к потолку, и сестра точно в этот миг услужливо щелкала черным выключателем – тускло (потому как действо вершилось при свете дня) загоралась лампочка.
«Твоих лучей небесной силою
Вся жизнь моя озарена.
Умру ли я, ты над могилою
Гори, сияй моя звезда».
И здесь, словно не выдержав бури чувств, я с силой вскидывала руки, платок соскальзывал с плеч. Если он отчего-то не падал, я выпрастывалась из него активно размахивая руками, как крыльями.
Зрители хлопали в ладоши и кричали «браво», а я кланялась, при этом едва сдерживаясь, чтоб не зареветь от непостижимой жалости к себе, маме, сестре.
А вот другого, неуловимо схожего с первым романса «Выхожу один я на дорогу», я отчаянно боялась. Когда его передавали по радио, мама всегда говорила со слезами в голосе: «Семейный романс, отец пел его перед смертью, пел, умирая, брат Никифор».
В дополнение к этому душераздирающий страх оказаться в могиле живою, не давал мне прочувствовать всю философскую глубину последнего лермонтовского творения.
Два ужаса переплетались: ужас того, что из-под земли, не имея возможности выбраться, я буду слышать сладкий голос и шум вечно зеленеющего, темного, склонившегося над могилой дуба, и жуткая, до мурашек, боязнь услышать романс от мамы, как знак того, что она умирает, как признак того, что рушится весь уютный мир.
Нет, перед смертью мама не пела этого романса, десять последних своих дней она не приходила в сознание.
Барский, плотина и другая вода
С первого по четвертый класс я училась в бывшей барской усадьбе.
В этой усадьбе жил в начале 19-го века декабрист Александр Муравьев, женатый на Прасковье Шаховской. Не знаю, был ли именно этот бревенчатый дом настоящей усадьбой Муравьева, но просторное помещение, для нас существующее как коридор, вполне могло быть бальной залой, широкие окна и ничем не заполненное гулкое, вопреки мягкости деревянных стен и половиц, пространство – тому подтверждение.
К высокому потолку на праздники в коридоре крепились снежинки из ватных шариков и бумажные цепи из тетрадных листов. Цепи мы клеили дома, в последний день перед развешиванием соединяя друг с другом отдельные разномастные куски. Иногда цепи не дотягивались от одного угла до другого, и мы спешно подклеивали их новыми звеньями. В торце коридора располагалась учительская, двери ее всегда были отворены настежь, но, невзирая на это, я робела заглядывать внутрь.
То ли я плохо учила историю родного края, то ли – вероятнее – нам недоговаривали, но село Ботово, 600 душ крестьян и построенная в семнадцатом веке каменная церковь – имущество княгини Шаховской, Муравьеву ничего не принадлежало. Но в советское время это не просто было абсолютно неважным, это, скорее, делало честь декабристу, а мы – мы гордились им, всегда выделяя Муравьева Александра Николаевича не только среди нескольких Муравьевых, но и среди всех декабристов, считая его едва ли не главным участником военного мятежа 1825 года. На самом деле, Александр Муравьев, герой войны 1812 года, отставной полковник Гвардейского генерального штаба участвовал в учреждении тайного общества, но на Сенатской площади в декабре он не стоял.
От усадьбы не сохранилось ни бревнышка, но по сей день старится парк, липы в аллее кое-где еще держат строй; до сих пор сохранилось название – Барский пруд, хотя самого пруда уже не осталось.
На Барском всем хватало места: на одном берегу, заросшем рогозом, сидели с удочками рыбаки (на дне с той стороны прощупывались полусгнившие доски деревянного настила, оставшегося от помещичьей купальни), с другого купались мы. Ежедневно, обойдя нас по широкой дуге, в пруду освежались пригнанные пастухом коровы – совхозное стадо, голов на пятьдесят. Коровы заходили в воду по брюхо и замирали, лишь иногда поводя ушами, и подергивая кожей от укусов слепней. Мы в это время тоже замирали, но на берегу, и тоже отмахивались от слепней, которые нашими детскими телами нисколько не брезговали.
Поскучав на берегу, пока не раздавалось, наконец, щелканье пастушьего кнута, и стадо неохотно выбиралось из пруда и отправлялось на пастбище, мы лезли в воду, забыв про надоевшие за это время «Испорченный телефон», «Города» и другие спокойные игры. Купались до синевы, пока не начинали стучать зубы.
Не лезли мы в воду и вообще прятались в ближайших кустах, не только, когда в пруду купались коровы, но и когда из ближайшей к Барскому деревни Бортники приходили настоящие «быки»: здоровые ребята предармейского возраста с Мишкой Задунайским во главе. Никогда они не сделали нам ничего плохого, но ходила о них дурная слава, так что мы, на всякий случай, не попадались им на глаза. Благо, они не загорали. Прыгали с невысокого обрыва, плавали, по-дельфиньи отфыркиваясь, голосили мощными глотками, но вот вылезали на берег, не обсохнув, натягивали брюки и рубашки и убирались восвояси, а мы, разогретые солнцем, окунались в обманно-холодную воду.
В свои пятнадцать я долго лежала в больнице, и моей соседкой по палате случилась истая фанатка загара. На прогулке мы уходили в дальний конец участка и старательно загорали. Катя (сорока пяти лет, но я звала ее по имени) поднимала руки – чтобы загорали подмышки и не сверкали «белым, как у курицы», задирала подбородок, чтобы не отбрасывал тень на шею…
На Барском мы никогда не заботились об этом, и случалось, что к концу дня обгорала одна рука, дольше другой обращенная к солнцу.
Иногда ходили купаться на плотину, но на плотине глубоко, на плотине широко, и я, так и не научившись плавать, плотину не жаловала.
И плотина, и Барский пруд – «дети» небольшой речушки «Черная»: плотина – искусственно созданная заводь, в Барский река впадала. Плотина – младшая, но более сильная «дочь», пруд и погубила. В девяностых, когда гибло и рушилось все, плотину подточили бобры, устроив запруду по собственному разумению. Вода чуть не снесла мост, превосходный бревенчатый мост, по которому мы ходили в школу. Хорошо, что он опирался на высокие берега, так что до него вода чуточку не достала. Но и бобры куда-то сгинули, памятью об их трудах осталось изменившееся русло реки.
Иногда мы таскались купаться на Бомбенки, километра три по шоссе. Гудроновые заплатки на нем плавились от жары, пластично пружинили под ногой. Шли босиком, не останавливаясь, разогретый асфальт обжигал пятки. На Бомбенках плавали на кругу – черной камере от колеса грузовой машины, ниппель соревновался в блескучести с зеркалом воды. Бомбенки – два пруда – две воронки от бомб, понемногу заполнившиеся водой, до дна в них не достать, берега обрывисты, да и вода холоднее, чем в мелком Барском пруду, который, можно было перейти вброд.
Однажды в Волгограде на Мамаевом кургане, где и Родина-мать, и Мать скорбящая, где тикает метроном и, вообще, вся обстановка говорит не столько о подвиге, сколько о скорби, на ступеньках в Зал Славы маленький мальчик играл с котенком. Скорбь и радость, война и мир. Так и Бомбенки: горький след, оставленный войной, и дети, приспособившие эти раны земли для радостных игр.
Принадлежал нам, ребятне, и малюсеньких прудик на опушке парка (наверное, его выкопали для хозяйственных нужд во времена Муравьевых) с лилиями, кубышками и кувшинками, кишевший пиявками, которые не мешали нам лазить за цветами. Из длинных пористых стеблей водяных цветов мы делали ожерелье, и венчавшая его лилия, словно вылепленная из алебастра, долго оставалась свежей.
За парком протекал жиденький неспешный ручеек, который влиял, однако, на начало весенних каникул. Каникулы начинались у нас не 23 марта, как в московских и городских школах, а тогда, когда ручей разливался и не давал перебраться через него ребятам, которые наматывали до школы по три-пять километров в день. Мы, местные, ждали: если ко второму уроку ремягинские не появлялись, нас отпускали, и мы мчали домой, дабы не терять даром ни часа уже начавшихся каникул.
Зимой и Барский, и плотина замерзали. Первый ледок на плотине таинственно зеленел, испятнанный веснушками застывших воздушных пузырьков, выстреливал змеистыми трещинами под ногой. Страшно! Гладкий и темно-зеленый сначала, лед засыпа́лся снегом, становился шершавым, лучиками разбегались протоптанные тропинки; с обрывистого берега на лед укатывалась горка для санок и лыж.
В конце февраля или начале марта, как выпадет, на льду плотины, который потерял все свое захватывающее дух очарование и превратился в безотрадную снежную равнину, такую же, как все поля вокруг, сжигали Масленицу – смотреть сбегалась вся деревня. С самого утра в этот день детей с горки оттесняли взрослые, с визгом и хохотом гурьбой летящие на санках вниз.
Санки, по большей части очень похожие – с разноцветными деревянными плашечками – обязательно были в каждом хозяйстве, иногда скапливалось по нескольку штук. Дед Кузьма привез мне как-то из города нарядные санки, эдакое креслице на полозьях с мягким сиденьем и подлокотниками. Словно в карете, изображая то Снежную Королеву, то Екатерину Великую, возили мы с подружками друг друга, поочередно впрягаясь в эти саночки. Вторые – рабочие санки. Рабочие – потому что на них приволакивались привязанные веревкой, чтоб не рассыпались по дороге, дрова из сарая; на них ставилась фляга с водой – если предстояла стирка и воды нужно натаскать много; на них перевозилось мясо – туша заколотого под Новый год поросенка – да мало ли в каких других делах помогали рабочие санки. Но и для горки – не находилось лучших, на их широкой спине я умещалась полностью, то лежа животом, то сидя, то даже стоя. Однажды я пыталась сделать ездовую собаку из нашего беспородного пса Моки, но он только хватал зубами веревку и никак не понимал, чего я хочу от него, а когда я усаживала его на санки, чтобы показать, как надо, он соскакивал раньше, чем я делала первый шаг.
Плот или морское путешествие
Не знаю, от чего зависит, но я человек законопослушный, не революционер. Пионер – да, многое начинаю первая, но к революциям не имею никакого отношения, учитывая к тому же что революция – движение назад. Вы разве этого не знали? Эволюция – развитие, революция в исконном значении слова – ровно наоборот. Но разговор не об этом.
Законопослушание, чинопочитание присущи мне с детства. Помню, в детском саду меня и еще трех мальчиков переучивали с левой руки на правую, но только меня переучить удалось. Я очень боясь быть неправильной, ела, пила и играла в куклы не так, как мне было удобно, и настороженно следила за своей левой рукой, чтоб она не совалась, куда ей хочется, но не следует.
Результат, надо признать, неплох: в бадминтон, например, я играю, перекидывая ракетку из одной руки в другую, а многие действия, которым меня не учили, не задумываясь, совершаю левой.
Но среди такого тотального моего послушания, встречались искры и даже костры абсолютно необъяснимых закидонов. Откуда-то просыпались азарт, риск, абсолютное бесстрашие. Так однажды мы с моей подругой Татьяной отправились в морское путешествие, назначив ненадолго морем наш Барский пруд.
Ранняя весна, паводок и плот. Откуда-то взявшийся плот, собранный не очень мастерски из палочек и дощечек, качался на воде, а мы – подружки восьми лет: резиновые сапожки, белые шапки с помпонами. При этом я – фантазерка, а Таня – смелая.
Стоял апрель, слепило солнце. Апрель мы с Таней очень любили, как, впрочем, и май, и март, и февраль с ноябрем. Главное – не сбиться в их перечислении.
Мы пришли к Барскому днем, сначала по шоссе, потом по узенькой тропиночке, потом почапали прямо по снегу. Сапожки оставляли полукруглые следы-ямки, которые сразу заполнялись водой. Снег был и не снег вовсе, а слоистый пирог, какой пекли мамы по воскресеньям, только вместо вкусного теста – лед. Может, тоже вкусный? Попробовали. Нет!
В пруд втекала маленькая река. Ну, это она обычно – маленькая, а сегодня заполняет небольшой овражек на своем пути до самых краев. Там, где речка огибает деревья, откуда-то и взялся плот. Он покачивался на воде совсем недалеко от берега, но, видно, зацепившись за что-то, дальше не плыл.
Мы посмотрели на него в восхищении, и я сказала:
– Давай отправимся в морское путешествие!
–Давай, – согласилась Таня и, не раздумывая, попробовала наступить на плот.
Нога едва-едва дотянулась, а плот закачался сильнее. Тогда Таня, чуть разбежавшись, прыгнула на плот грудью. Плот под тяжестью Тани ухнул под воду целиком и тут же всплыл, но на какое-то время вся Таня оказалась в воде, и пальтишко сразу намокло! И сапожки. Но Таню такими мелочами не испугать, и она кое-как уселась. Но не успела победоносно глянуть на меня, как плот, слегка кружась, медленно поплыл к пруду.
– А-а-а, – закричала Таня.
– А-а-а!! – вторила ей с берега я.
Плот понемногу разгонялся. Что делать? Я побежала по снегу вослед, лихорадочно соображая. Таня гребла руками, чтобы плот вернулся к берегу. От холодной воды руки ее сразу стали красными, но плот к берегу плыть никак не хотел.
Меж тем я добралась до того места, где речушка вливалась в пруд. Я по жизни – большущий тормоз, все правильные слова приходят на ум после ссоры, как нужно было сделать, до меня доходит тогда, когда приходится разгребать, чего наворотила…Но в этот день, один из немногих, я все сделала вовремя. На берегу росла большая ива. Теперь она стояла в воде, как по колено, и я, осторожно ступая, подобралась к самому стволу. Вода, конечно, залилась в сапоги, но я не обращала на это внимания. Одна из толстых веток наклонялась к воде низко-низко, и летом мы с девчонками часто лазали по ней, свешивались к воде, сидя, болтали ногами. Вот и сейчас я проползла по ветке на самый ее конец и протянула руки вниз, к проплывающей на плоту Тане. Таня тоже протянула руки, попытавшись встать. Плот снова скрылся под водой, на этот раз – глубоко, но всплыл опять (Таня едва удержалась на нем). Хорошо, что течение несло этот ненадежный корабль прямо под веткой ивы! Я на дереве тянулась изо всех сил, и, наконец, смогла схватить Таню за руку и медленно-медленно, чтобы не упасть самой, стала тянуть подругу к себе. Плот подплывал неохотно, но вот уже Таня крепко держится за мою руку, вот уже второй рукой она хватается за ветку, и, подтянувшись, обессиленно падает на то место, где только что свешивалась я.
Мокрые и окоченевшие несемся домой: сначала по снегу – чав-чав-чав, потом по узкой тропинке, потом по шоссе. Домой, домой, скорей, домой! Дома, конечно, будут ругать, но одновременно с этим стаскивать мокрые сапоги и пальто и поить горячим чаем.
Лишь на секундочку мы с Таней остановились на горе, с которой виднелся пруд. Почти в середине его покачивался плот.
– Мамам не будем рассказывать про морское путешествие, – сказала я.
– Не будем, – согласилась Таня.
Водяные крысы
Неожиданно, как говорят, на ровном месте, на пыльных антресолях дальней памяти вдруг обнаружится хранимое там не понятно зачем.
Как-то, в самом-самом начале весны, мы с другой подружкой – Галяней – встретили под мостом незнакомых нам водоплавающих крыс. Воды в тот год было очень много, и небольшая речушка Раздериха, сразу за околицей заключенная под шоссе в круглую трубу, разлилась и ревела в этой самой трубе, заполняя ее почти до середины. И в этом потоке ныряли, отфыркивались, стремились куда-то мокрые блестящие зверьки. Азартно блестели глазки, сверкали капли воды на шерстке, мелькали перепончатые задние лапы, шаловливо рулили хвосты. Казалось, мы попали на заключительный этап триумфального заплыва на короткие дистанции, на показательные выступления победителей. Кто они? Ондатры? Нутрии? Так никогда и не узнаю.
Мы, завороженные, долго-долго смотрели на задорных зверьков, завидуя их беззаботному веселью. Начерпали, конечно, полные сапоги талой воды, и, стаскивая их на ближайшей кочке и выкручивая чулки, поклялись никому не рассказывать, что мы полезли в эту трубу, рискуя утонуть. Так что и о зверьках с их фееричным плаванием пришлось смолчать.