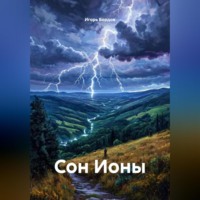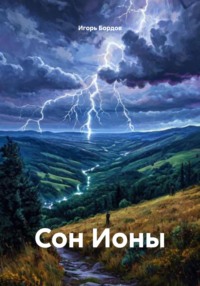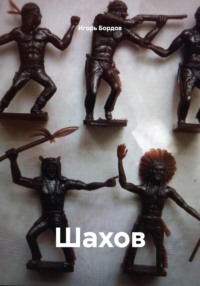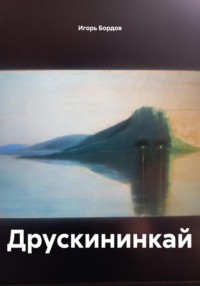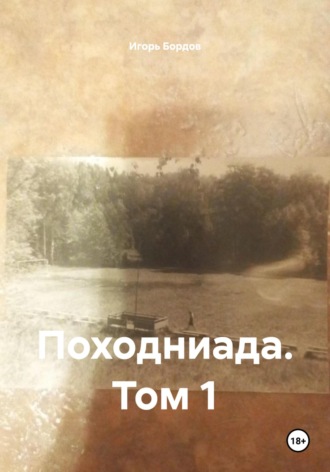
Полная версия
Походниада. Том 1
Папа же Бережнёв был комично, выпукло, почти гротескно иной. Невысокий, плюгавенький, неуместный, стеснительно-неброский. Зачем он вообще пошёл в этот поход? Мне думалось: наверное, затем же, что и я… Посмотреть, какова бывает ещё эта жизнь. Кроме школы (работы) и четырёх стен в бетонной коробке. Одновременно страшно и интересно.
И вот, все эти взрослые ходили вкруг костра и о чём-то непонятном для меня перешучивались, балагурили. Руднев и его друзья, мне показалось, витиевато подтрунивали над дамами, а дамы с брезгливым достоинством подтрунивание это гасили либо отталкивали. И было странное впечатление: все они как будто ничего не делали, этак шутливо, неритмично, разнотонально и разногромково общаясь, и в то же время каким-то чудом – незаметно для меня, что ли, на манер иллюзионистов – постоянно пребывали в бурной деятельности: заготовляли дрова и готовили обед. Их взрослый мир не передавал моему разуму почти ничего осязаемого. Ощущались лишь настроение и энергия. Каждый взрослый источал одновременно веселость и грусть. Причём, весельем как будто больше бравировали, а грусть искусно прятали. Им было одновременно и нетерпеливо, и привольно, и запретно, и самим тоже ещё почему-то загадочно.
От мужчин (Руднева и его друзей) исходила некая богатырско-бородатая энергия мужественно-интеллигентской лихости. От женщин же шёл дух эдакой сдерживающей ехидной власти. Всё это было внове для меня. Мой папа день изо дня являл задумчиво-молчаливую мудрость, мама – телефонную болтливость, и существовали они как бы слегка параллельно.
На природу, как мне казалось, никто вовсе не обращал внимания. Я видел неширокую речку, противоположный луговой плоский берег, заканчивающийся под обрывом с теми же соснами наверху, но во всё это не вглядывался, – оно существовало где-то сбоку, не било в лицо.
ПП 0.1.
Обед не помню. Как, впрочем, и ужин. В преддверии сумерек случилась игра в «очко». Незатейливая такая игра. Мальчики по очереди набивают (чеканят) мяч на ноге, потом на колене, потом на руке, и, наконец, – на голове. По десять «набиваний». Мяч не должен коснуться земли. Набил на ноге 4 – дальше жди своей очереди, тебе остаётся ещё 6 на ноге, и – перейдёшь на «колено». Кто первый всё это прошёл, тот герой, – кто последний, тот зажимает мяч между бёдер и идёт на всеобщую потеху прямо по тропинке столько шагов, сколько он «не добил». Если совсем не умеешь набивать – так и ковылять тебе от этой ивы до той берёзы враскоряку с мегаяичком, которое тебе нормально идти не даёт. Смешно. Очень. Что тут сказать?..
Я плохо набивал. На каникулах в деревне тренировался по целым дням, но мой максимум набивания на ноге был 11, – кроваво-потовый максимум.
И вот в эту сволочную игру зачем-то ввязался папа-Бережнёв. Видимо, ему было всё равно: встать в один ряд с несмысленными мальчишками, уравняться с ними. «Ну давай», – мыслят грозно-ехидно мальчишки, – «глянем на тебя». В смысле, каков ты? – свой-не свой? Либо дашь поиздеваться над собой, уронишь себя перед нами, либо вовеки-веков героем нашим станешь. Впрочем, и так видно: нести тебе «яйцо» до самой железной дороги, спорнём?!
Так и вышло. Бережнёву объяснили правила игры. С ним играли Бармаков, Шумерин и кто-то ещё, не помню. Всех «сделал» Бармаков. Шумерин его «на голове» быстро догнал, а папа Бережнёв так «в начале колена» и застрял.
– И что теперь мне делать? – спросил Бережнёв.
– Вставляете мяч между ног, – бойко-неторопливо-надмевательски отчеканил Бармаков, – и идёте двадцать восемь шагов вон в том направлении. Если мяч уроните, всё снова – возвращаетесь к исходной позиции.
Бережнёв-старший выглядел смешно. Жалко как-то. Если бы он шутил с нами, был бы с нами единым целым, то это не выглядело бы жалко. Выходило: мальчик Лёха Бармаков, набравшийся глупо-серьёзной напыщенности в своей борцовской секции, этак надменно издевается над взрослым человеком, отцом семейства, советским инженером (или кто он там был?) Глупая история. Зрелище это производило во мне какую-то странную, извращённую работу: если бы происходящее являлось сказочным гротеском, изящной иронией, спектаклем на банальное ха-ха, я бы понял и принял. Но всё было как бы всамделишное, и мне ничего не оставалось, как презирать их обоих: и Бармакова за незрелый снобизм, и Бережнёва за абсолютно неоправданно принятое на грудь унижение. Что тяжелее всего, – мне кажется, Лёня (Бережнёв-сын) стоял чуть-чуть в сторонке и наблюдал за происходящим с какой-то восковой полуусмешкой и полуприщуренными глазами, стойко и недвижимо.
Бережнёв-папа ещё, как на зло, раза четыре ронял «яйцо» и заново принимался за этот свой унизительный раскоряченный путь. Все как будто даже устали от происходящего. Я вскользь наблюдал за лицами Бармакова, Руднева-младшего, Шумерина и прочих своих одноклассников. Жалость там, в оттенках, где-то глубоко, возможно, и присутствовала, но преобладала отчётливая, значимая, молчаливо-садистская полуусмешечка.
Ситуацию разрядил явившийся неожиданно, как снег на голову, Руднев-старший.
– Чем занимаетесь? футбол?
– Играем в «очко», – в обычной своей развалисто-ленивой манере полунадменненько рёк Лёха Бармаков.
– А-а. Это на ноге надо набивать? Кто больше набьёт?
– А вы что, как будто умеете набивать? – лениво вскинул взор издевательский Лёха.
– Ну, не знаю. Может и умею. Ты чего, Лёха, ас в этом деле, что ли?
– Ну ас – не ас, а набью, – так же лениво, как перекормленный кот, промурлыкал Лёха.
– Давай, кто быстрее до 100 добьёт, – безапелляционно рыкнул на Бармакова, по-царски сидящего на зелёном горбыльке, Руднев.
Лёха привздёрнул презрительно к глазу правую скулу:
– Дава-айте, коль не шутите.
– Ты первый.
Бережнёв-старший передал своё любимое «яйцо» Лёше Бармакову.
– Смотрите все, как это делается! – возгласил Лёха на пол-леса и треть реки.
Он стал набивать. Шло ровно. Вообще, техника у этого дела загадочная: в некий вдохновенный момент ощущаешь, как будто угол между голенью и стопой выбран оптимальный, тело тебя слушается и мяч тоже, – тогда процесс выглядит однотипно и просто: ты как будто повторяешь одно и то же движение, мяч поднимается ровно, не вихляет, сантиметров на 40, легко и мягко возвращается, и кажется, что ты можешь набивать бесконечно, на манер фантастического футбольного робота, почти не переступая и не сходя с места. Но вдруг!.. Мяч идёт вверх немного косо, и ты вынужден переступать, менять силу, угол и направление, и вот тут может пойти абы как: обычно начинаешь дёргаться, нервничать, и, в конце концов, мяч улетает на землю. На 13-м ударе у Лёхи как раз случилось это обычное: мяч пошёл не так, как надо. Затем – два отчаянных, догоняющих из последних сил касания, и всё, земля. 15. Неплохо. Мне и Бережнёву-старшему, к примеру, так вот, с ходу, и не снилось!
– Ну давайте! – промяукал весело-флегматичный Бармаков Рудневу.
Руднев взял мяч. Дальше случилось нечто необычайное и для меня незабвенное.
С первого удара стало понятно, что футбольная техника у Руднева никакая. Не сказать, что «нулёвая», но очевидно – никакая. Тем более, на нём были не уютные Бармаковские беленькие кроссовочки, а какие-то странные, изношенные коричневые башмаки. Угол между стопой и голенью варьировался как придётся, до смешного, и всё это, в целом, напоминало некую насильственную фантасмагорическую клоунаду, а не футбол. И, тем не менее, на наших глазах свершалось чудо! Ударе на двадцатом я подумал: «как?! неужели это возможно? как долго он так протянет?!.» Руднев скакал, бегал, носился по всей поляне. Казалось, не он управляет мячом, а мяч управляет им. Иногда он ударял по мячу не изгибом стопы-голени, а едва ли не носком своего уродливого ботинка. Тогда мяч летел отчаянно куда-то далеко вверх и вбок, но упрямый Руднев его настойчиво догонял, умудрялся выравнивать ударов на пять, таких же безыскусных, разболтанных, и вновь: мяч летел невесть куда, в дальние кусты, но Руднев и там догонял его. Вся наша братия благоговейно притихла. Только дамы у костра ухмылялись, как всегда ехидно, с глубоко-потаённым чувством власти над всем подобным, с нашей, детской, точки зрения неимоверным.
Ударе на 70-м кого-то из нас, включая меня, начал разбирать смех. Зрелище было величественным, невообразимым и комичным. Как будто Руднев одновременно преподносил нам урок, смеялся с нами и над нами, учил жизни, показывал, что значит быть взрослым и при этом смотреть на жизнь так же свежо, как ребёнок.
Иногда казалось, что это просто невозможно: мяч шёл по такой траектории, что принять и выровнять его уж никак не получится, даже у заправского футболиста, не то что у этого нескладного бородатого комика в неспортивных ботинках. Но Руднев неизменно догонял и выравнивал. Мы перестали смеяться и наблюдали вновь благоговейно. Было как будто Руднев ритмично зациклил нас. Как будто на 120-м ударе мы бы вновь принялись смеяться.
Тем не менее, до самого конца, до 100-го удара, ни одного из зрителей не покидало удивительное в своей закономерности ощущение, что мяч так долго удерживается в воздухе именно случайно; было очевидно, что Руднев кто угодно, но ни разу не футболист. Всё это – исключительно его целеустремлённость, борьба и… случайность!
Но вот, 99-й удар. Руднев подбросил мяч немного повыше обычного. Сотым ударом он отправил его высоко-высоко, за пределы верхушек сосен. Мяч ненадолго там завис и отправился падать куда-то в лес.
Руднев повернулся к Бармакову и засмеялся легко-бородато, мол, вот так, смешно, да?!
Бармаков флегматично улыбнулся, но промолчал. Кто-то из нас, ребят, помчался за мячом в чащу.
В некий момент на другом берегу, вдалеке, на обрыве показались тоже какие-то походники. Руднев с друзьями скричались с ними. Какие-то знакомые. Руднев с одним из друзей отправились на тот берег. Кажется, к тому моменту взрослой компанией было «употреблено»; взрослые были веселы и как-то по-особому эмоционально интенсивны.
Под занавес сумерек Руднев с другом вернулись, заливисто, наперебой хохоча. Выяснилось, что, переходя Вужиху по деревянному мостику, Руднев споткнулся и упал в речку целиком. Дамы поддержали веселье. Журили виртуозного футболиста, бородача, во-всей-одежде-незадачливого-ныряльщика. Почему-то именно этот инцидент был для компании особенно весел. Наверное, если папа-Бережнёв и был здесь заодно с компанией, то уж мама с бабушкой точно сие загадочное веселье не поддержали бы.
Потом сделалось темно. Детей отправили спать, но не сказать, что жёстко отправили. Мол, не хотите спать – не спите, только взрослых не утомляйте.
Взрослые же уселись вокруг костра на больших горизонтальных брёвнах и стали беседовать, разрисованные оранжево-чёрными костровыми бликами. Иногда смеялись чему-то не надрывно, аккуратно, отстранённо от нас, детей. Поднимали иногда кру́жки, выпивали, брали гитару и пели негромко. Потом снова о чём-то беседовали.
Лёха Бармаков затесался во взрослую компанию и был там благодушно принят. Я видел, стоя у палатки, как он сидит там, маленький, такой же оранжево-костровый под Рудневским крылышком, одесную. Крутит веточкой в костре, иногда подключается к разговору. Взрослый круглый малыш. Я не то чтобы ему завидовал, – просто не понимал, как можно так легко сновать из мира детей в мир взрослых и обратно? Остальные шесть моих одноклассников решили жить в этом походе своей детской жизнью и к взрослым на манер Бармакова не подлизываться. Я предпочёл оставаться с большинством. Мир взрослых у костра казался мне странен, я не чувствовал ни тяги, ни побуждения быть единым с ним.
В детском мире было интересно подпалить в костре конец веточки до ало-жёлтого угля, а потом крутить ею в темноте, следя за формирующимися инерционными огненными кругами, восьмёрками и зигзагами, а потом закрывать глаза и наблюдать те же фигуры в темноте глаз.
Интересно было и залезть всем в ночную палатку. Не затем, чтобы спать, а чтобы переговариваться в загадочной темноте, прислушиваясь, как по левую руку со стороны костра доносится невнятное бормотание взрослых. В какой-то момент было обнаружено, что Мишка Руднев (сын) не включается в разговоры. Уснул, «салага».
Компания решила над ним подшутить. Шутка была, мягко говоря, глупой. Все вылезли наружу, подошли гурьбой к тому боку палатки, где, завернувшись в спальник, сладко сопел Руднев-младший и пнули его в бок избранной ногой. Мишка сонно выматерился, угрудился в другую сторону и снова засопел. Будить Мишку перестало быть интересно.
Мы пришли всей толпой к костру и расселись в разных местах на брёвнах. Взрослые переключились на нас.
– Что, дети, не спится?
– Не-а, – мы лезем длинными тонкими палочками в угли.
– А Мишка где?
– А он спит.
– Он знает… – глубокомысленно протянул Руднев-старший. Другие взрослые подхихикнули.
Меня щёлкнул его ответ.
Кто-то из детей спросил:
– Чего он знает?
– Ну он-то в большие походы ходил. Уже знает, что значит перед переходом не выспаться.
– Да уж, – поддакнули другие взрослые и ударились в какие-то малопонятные воспоминания.
Я представил себе маленького, курносого Мишку, который с этими страшными взрослыми ходит в дальние загадочные походы, знает, что это значит. И ничего такой, вполне обычный паренёк. Спит вон в палатке, плюнул на всех. Странно. Какие разные кругом люди, занимаются загадочными вещами. А с виду вроде обычные.
ПП 0.7.
Как ушёл спать и как засыпал, не помню. Утром – светлая внутри палатка. Всё же свет снаружи ею глушится и трансформируется во что-то почти уникальное: тихое, одиноко-комарино-пищащее, осторожно-тусклое, обманчивое, в высшей степени уютное.
Народ снаружи как-то по-другому, не по-вечернему, бубнил, кто-то из детей что-то визгливо выкрикивал. Голоса были многочисленны, распределены в пространстве неравномерно и как бы непредсказуемо.
Я лежал в палатке вдвоём с только что, как и я, проснувшимся Серёгой Шумериным. Покинутые прочими одноклассниками матрасы и спальники валялись круго́м в досадном беспорядке. Я посмотрел на хмурого Серёгу: голова отчаянно взлохмачена, лицо угревато-угрюмо-припухшее. Он был светло-рус, почти до блондинности. Черты лица какие-то грубо-округло-желвачные, как будто приобретённый алкоголизм родителей передался ему по наследству. Что-то во всём виде головы его было бывало-шофёро-забулдыжное, несмываемое, как печать. Сам он тоже плотненький, среднего роста, эдакий бульдожек. Как раз с этим вот пареньком я просидел за одной партой 6-й и 7-й класс. Интересный такой сосед, неординарный.
Про его родителей я точно ничего не знал и не знаю. Казалось только, что там было явно что-то не особо благополучное; и об этом даже и в классе кем-то из учителей во всеуслышание объявлялось. Не уверен, являлся ли Серёга однозначным хулиганом. Скорее, его на эту стезю затянуло, – сказать что ли «отчаянно-обречённо»? – ну да, так, видимо, как-то. В нашем классе были и другие хулиганы, не такие как он, – действительно, какие-то грязные, злые, почти подло-опасные, двое-трое таких. Они смотрели на жизнь «умно́», по-зверячьему, как будто они знают уже ей цену, изучили её и поняли, что теперь стоит только поступать с жизнью и со всеми теми, кто наполняет её, так же подло, зло и бездушно, как жизнь поступает с ними.
Серёга Шумерин был не совсем такой, а может быть, и совсем не такой. В нём ощущалось гораздо больше простого тепла и душевности, он вовсе не был глуп, и порой смотрел на меня, своего умненького очкастого соседа по парте, не просто как на того, у кого можно списать, а и как на того, с кем можно порой поделиться чем-то тёплым, душевным из той-самой мизерной «сокровищницы» тепла и душевности, что сохранялась в нём. Например, делясь со мной подробностями своей ранней половой жизни, он, я видел, не хотел просто щегольнуть передо мной на манер Сашки Маслова («Маслухи»), который со вкусом и оттяжкой щеголял этим перед всем классом. И не издевался. Он просто как этакий бескорыстный «змей» тепло завлекал меня. Нашёптывал мне на ухо на каком-нибудь уроке физики: «А ты знаешь, это правда приятно с бабами. Поставишь бабу рачком, вот так», – он делал странную конфигурацию из указательного и среднего пальцев и ладони, как будто его правая пухлая, покрытая угрями и бородавками, жёлтая от курева кисть стоит на коленях на нашей парте, – «вот так поставишь рачком», – он как будто смаковал эту нелепую, такую, видимо, на его взгляд, вкусную фразу, – «вставишь, и это так хорошо, так приятно!» Поэт от жизни, Серёга Шумерин! Ни дать, ни взять.
И всё время покрывали его эти прыщи, крупные, налиты́е. На быковой шее, на щеках, подбородке, лбу. Он был всегда как будто облит потом, и каждый раз мой взгляд примагничивала эта желтизна его бородавчатых, слоящихся пальцев. Мне казалось странным, что вот, существуют же «бабы» на свете, которые вполне охотно позволяют такому мужикообразному, нечистоплотному, как бы без вони даже воняющему Серёге Шумерину «ставить их рачком», в то время как я, его ровесник, такой чистенький, умненький, опрятненький, хоть и худой как глиста, даже помышлять в этом направлении боюсь.
А так, да. В основном, я был нужен Серёже Шумерину, чтобы списывать у меня. Он не хотел учиться. Видимо, в жизни ему было достаточно сигарет, податливых, небрезгливых «баб» и общения с кем-то себе подобным. Однажды, на уроке музыки нас заставили писать сочинение о наиболее понравившемся музыкальном произведении из тех, что нам ставили тут, на уроках, в течение четверти или полугода. К счастью, кроме классики и «Пети и волка» нам прокрутили Мирей Матье «Ciao Bambino, Sorry» и «Битлз» «Because». Я стал писать про битлов. Мне было приятно иметь сию скудную возможность излить свою любовь где-то вот тут, в советско-школьной рок-н-ролльной пустоте. За пять минут до конца урока Серёга Шумерин стал наскоро передирать моё сочинение. Я покосился на его грубые, округлые, алкоголически-дрожащие, паретически спускающиеся к концу строчки на нижележащую строку каракули. Я прочёл первое предложение: «Я люблю групу Битлас». Почувствовал что-то вроде содрогания от поругания над святыней в трепетном сердце моём. Но что ж тут поделаешь?..
Оклемавшись от сна и выкарабкавшись из спальника, Серёга Шумерин почему-то стал бороться со мной. Он сделался какой-то полувменяемый. Вначале мы просто весело прыгали и перекатывались на этом просторном воздушно-матрасовом лежбище. Но потом Серёга стал толкаться, наваливаться на меня и душить. Я отбрыкивался. Упорно отбрыкивался. Смотрел на Серёгу и никак не мог взять в толк: это у него сейчас обычное шутливо-детское бузение или он серьёзно намерен помериться силами со своим доходягой-соседом. И эта глупая возня продолжалась мучительно долго, пока не раздался снаружи задорный клич к завтраку. Только сейчас, в момент пробуждения старой памяти, мне пришло в голову: а не было ли это со стороны Серёги чем-то вроде неумелой гомосексуальной игры, кто ж теперь скажет? Но мне было в очередной раз жутко не по себе тогда, как всегда, как почти во все эти восемь лет в 12-й школе.
После завтрака рассветился летний день, и устроился детский футбол. Никогда не любил играть в футбол, и мне было неприятно наблюдать, как носится, куражится-бесится Бармаков, как орут, ссорятся и сцепляются другие одноклассники. Я всего этого понавидался на уроках физкультуры и предпочитал подобного сторониться. Очарование походной обстановки от такого рода повседневщины стухало, тускнело и даже становилось таким же обыденным, фальшивым. Это было воистину неприятно.
Подметил я, что и супруги Рудневы впали вдруг в некую мрачно-молчаливую конфронтацию. Женщины поутру сделались более говорливы, мужчины – попритихли. Возможно, вся эта «взрослая» дисгармония сыграла и на том, что футбол вышел таким невесёлым, глупо-драчливым, и солнце, растворясь в нём, сделалось каким-то почти городским, жарко-пыльным, квадратным, а девственная, застенчивая Вужиха едва не превратилась в ту самую «речку-вонючку».
ПП?.?.
Обратную дорогу в город не помню.
На этом бы данную историю и закончить. Но я вот о чём подумал. Поступлю-ка как авторы книгофильма «Парфюмер». Там, если некие знакомые главного героя переставали быть в его жизни актуальны, уходили из его жизни, то они «уходили красиво» (кто знает – знает в чём ирония). Вот и в этих двух историях случились кое-какие персонажи, которые впредь, в новых походных историях фигурировать не будут. Ну так скажу, что с ними сталось и поведаю вкратце о некоторых других наших встречах.
Об обоих Рудневых и Бармакове, уверен, речь впереди ещё польётся. Хотя в «полноценные» походы ни с кем из них я в дальнейшем не ходил.
А вот, Женя Кипятков из прошлой истории. Он, сдаётся мне, стал «водилой», по стопам родителя, и, думаю, до сей поры проживает в том домике у леса, отграниченного от города гигантскими горизонтальными трубами. Я году в 2015-м, 8 лет назад, оказался на его улице. Соседи сказали: та́м он. С женой и детьми. Меня почему-то смущало идти к нему. Всё же я позвонил. Вышел кто-то из детей, сказал: «папы нет дома». Я не стал приходить второй раз.
Я виделся с Женей последний раз году в 1995-м. Мне было 22, я был женат тогда на Полине, мы жили у моих родителей. Пришёл Женя. С чего бы? В 1988-м он ушёл в свой техникум водительский, а я доучился в старших классах и поступил в медицинский институт. Мы вышли с ним в подъезд на площадку, туда, где почтовые ящики. Я курил, он – кажется, нет. Какая-такая вдруг ностальгия его пробила? Мы и друзьями-то были сомнительными, условными. Рассказал, что Маслуха женился. Родил сына, и Женя был на «обмывании ножек». Тогда я в первый и единственный раз встретился с таким наименованием постродовой пьянки, – наверное, у нас, «институтских», «интеллигентов», подобные простонародные жаргонизмы были не в ходу, презирались. Мне было не по себе, но я не показал виду, покуривая и скупо, ровно отвечая на вопросы Жени о моей жизни. «Не по себе», потому что женой Маслухи сделалась Дина, моя первая отчаянная любовь. И сначала Юра Стеблов, а теперь вот и Кипятков пришли с вестью, что Дина вышла замуж за Маслуху, чтобы «отомстить» мне. За то, что я отказался жениться на ней и ушёл. Юра прямо сказал об этом. А Женя как бы между делом намекал. Было неприятно. Как будто это сама Дина подослала ко мне их обоих, мол, скажите ему, а потом передайте мне, каким было выражение его подлого лица. Я выкурил пару сигарет, пожал Жене руку, и он ушёл. Всё о нём.
Лёня Бережнёв. В старших классах он ушёл в «Б», «педагогический» класс, а я из-за отсутствия инициативы был отправлен в «А», где почти не оказалось моих бывших одноклассников, чему я был несказанно рад. Лёня тоже сдал экзамены в медицинский институт. Только я, Шигарёв и Вестницкий поступили на лечебный факультет, а он – на педиатрический. Помню, однажды, в 1989-м, мы катались с ним в институт на подготовительные курсы. По дороге, в троллейбусе, Лёня рассказывал мне про то, что ныне крутят в видеосалонах – я в то время ещё не был приобщён к этой новой «культуре». «Тутси», интересный фильм, а так, в основном «боевики» (на тот момент – новое для меня слово), «Том и Джерри».
В институте я с Лёней почти не соприкасался. Позже узнал, что он работает на «Скорой помощи». В 2002-м ко мне на приём в 8-ю поликлинику (я в то время работал физиотерапевтом) пришла девушка по фамилии Бережнёва – его жена, как выяснилось, – тоже, кажется, из медиков. Довольно красивая, стройная. Я расспросил, мол, как дела у Лёни. Оказалось, что они разводятся. Жена Лёни выглядела печальной и удручённой, но как бы крепилась и со мной была открыта, жива и едва ли не доверчива.
В какой-то момент 2010-х я неожиданно повстречал Лёню в продуктовом магазине на проспекте Строителей. Его было трудно узнать. Он стал каким-то радостно-ожиревшим, обрюзгшим и парадоксально раскрепощённым. Лицо Лёни сделалось акцентированно уродливым, поверх были дополнительно пугающие серо-голубые очки. Голос же остался всё тот же – гнусавый, странный, полуженский, как бы потусторонний, – более того, сделался даже утрированным в этих смыслах (я по-врачебному связал это с давлением жира на шее на гортань). Сказал мне с припо́днятой, довольной интонацией, что распрощался с медициной, работает в рекламе. Нравится. Женился на Ларисе Сёмгиной, единственной красавице нашего старого «В» класса. У Лёни не срослось с его первой женой, у Ларисы – с Максимом Мальковым – необычным, но добрым с виду парнем, с которым Лариса все старшие классы просидела за первой, центральной партой, постоянно, неразрывно и влито́ держась с ним под партой за руки. А теперь вот – всё хорошо. Дети, правда, сводные, по двое, от предыдущих браков, но это ничего. Всё! (про Лёню).
Серёга Шумерин. С ним проще. Он иногда скрипозубуче бурчал мне, что родственники, учителя и прочие милиционеры собираются отправить его в «дурку». Потом он что-то там серьёзно набедокурил и исчез. В тюрьму-не в тюрьму, я не уточнял. В 8-м классе со мной за партой сидел новоприбывший мальчик по прозвищу «Киргиз». Но здесь о нём, пожалуй, не буду.