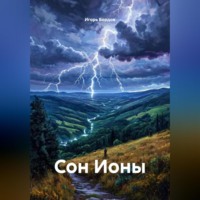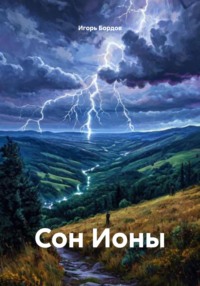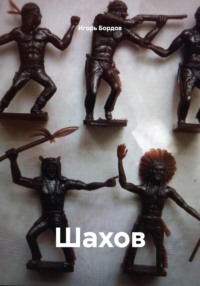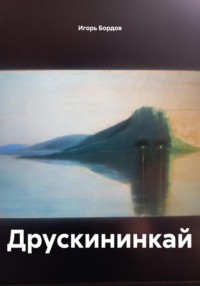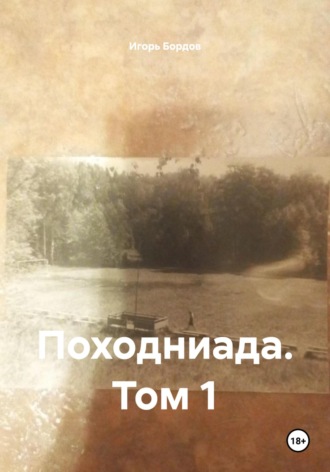
Полная версия
Походниада. Том 1
Так или иначе, дискотека всё-таки состоялась. Английские мальчики из магазина домашних животных выручили.
Собственно сама история 3 (недопоход)
Вино и ковёр. Взрослость. Я и Мишка Руднев. Я и «банкротство». Осень. Пустые разговоры.
Андрей Полозов (Чита) зазвал нас на свою пустынную дачу в одну из осенних суббот. В рядах прошепталось, что хорошо бы каждому по сусекам поскребсть и предоставить компании чего-нибудь алкогольного. На тот счастливый момент я с алкоголем ещё не был дружен. Родители однажды на Новый год плеснули мне шапмпанского, и сей опыт оказался кисл во всех смыслах. Мне и так хотелось спать, а от этой дряни не случилось никакой эйфории, напротив – как-то неприятно затосковалось. Однако я знал, что алкоголь людей меняет и зачастую делает их весёлыми и добродушными (таковым, к примеру, являлся мой дедушка Сеня, проживавший в деревне под Раздольем, – трезвым он был строг, серьёзен и сосредоточен; хлебнувши же делался приятен, маслян и даже напевен). Видел я и нехороших пьяниц, каковые, например, в солнечном троллейбусе 8-го марта во всё горло монотонно ежеминутно выкрикивали поздравления женщинам, и женщин это, очевидно, не радовало. Такие пьяницы ничего и никого не боялись, глаза их были красно-стеклянные, подбородок кактусово-небрит, одежда неопрятна, и мне было понятно, почему женщины не радуются: создавалось впечатление, как будто в троллейбусе с празднично-тюльпанными солнечными людьми едет не человек, а некий зверь, наподобие паршивого бездомного пса и препротивно лает. Я, естественно, не думал, что, потребляя алкоголь, когда-либо таковым пьяницам уподоблюсь.
У нас дома была большая бутыль черноплоднорябинового самодельного вина. И я порешил часть его потихоньку скрасть. Рано утром в субботу, затемно, прокрался в бабушкину комнату, где стояла бутыль, с пустой стклянкой из-под лимонаду и стал азартно переливать. Обидно пролил некоторое количество этого чёрно-бордового ужаса на светлый пушистый ковёр. Образовалось нехорошее пятно. Я применил к нему водяную тряпку – пятно расползлось, сделалось бледно-досадно-розовым, но исчезать категорически отказывалось. Тогда я решительно сместил ковёр так, чтобы преступление моё оказалось хотя бы на три четверти под диваном. Сунул добычу с неуместной теперь этикеткой «Буратино» в рюкзачок с мамиными бутербродами и фотоаппаратом и – долой наружу, в осеннюю предупредительно-холодную, чуждую всем маленьким детям темноту. Я уже, кажется, не был ребёнком. Не быть им было одновременно страшно, непривычно и ответственно. Непривычность особенно подавляла. Я пошёл на эту авантюру с вином вовсе не из-за того, что мне хотелось испробовать алкоголю: я просто очень сильно хотел стать настоящим другом для своих новых друзей. При этом я всё-таки чувствовал некоторую их слепо-немую отделённость от меня и ничего не мог с этим поделать.
Я зашёл за Владом, мы уехали на автовокзал, и там всей компанией залезли в автобус, который ещё затемно умчал нас куда-то в направлении Полозовской деревни. Кроме меня было человек шесть: Андрей Полозов, Влад, Венчук, кто-то ещё из «гэшников» и почему-то Мишка Руднев – он как-то сразу проник в компании обоих классов – и «Б», и «А». Думаю, именно из-за него поездка для меня получилась хмурная. Дело в том, что Мишка был из бывшего «В» и знал, что я всегда занимал там положение угнетаемого и презренного – о чём не знали «гэшники», мои новые друзья. Руднев и сам относился ко мне с плохо скрываемым пренебрежением. Помню одну нашу беседу. 8-й «В» в январе 1988-го отправился почти всем скопом в Ленинград. Парни тратили данные им родителями деньги на что-то «взрослое», я же приобрёл себе красивые канцтовары – дивную, затейливую ручку, чтобы писать книги про индейцев и великолепную общую тетрадь, – а также сливы в подарок родителям. Парни вовсю шутили и как умели флиртовали с случайными девочками-попутчицами, а я чувствовал себя «чужим на этом празднике жизни»* (* – цитата из «12 стульев» Ильфа и Петрова) и, даже лёжа на верхней полке в молчании, кажется, всем был помехой. Не помню каким образом, но я даже повёл себя тогда неадекватно и чуть ли не агрессивно в некий момент, чем спровоцировал в свою сторону волну презрительных нареканий со стороны как милых попутчиц, так и одноклассников.
На другой день мы завтракали к вагоне-ресторане. За окном пейзаж был уныл. Нас потчевали кофе и яйцом, разрезанным, сложенным в виде гриба и политым майонезом. У нас дома соблюдалась некая диета, и майонез я ни разу в жизни на тот момент не пробовал. Вкус показался мне вдохновляющим, тоже каким-то «взрослым». Мишка Руднев завтракал напротив меня. Он заговорил со мной по-отечески, наставительно. При этом всё-таки тон у него был не издевательский, а ровный, опытно-философский, с оттенком едва ли не доверительным. Учуяв это оттенок, я был склонен поддержать беседу.
– Ты, Игорь, не приспособлен к взрослой жизни.
Я подумал, что он имеет в виду моё вчерашнее поведение на виду у милых дам. Я с видом весёлого снисхождения к самому себе принаклонил левое ухо к плечу:
– Ну-у, наверное, я не созрел ещё. Рановато к женщинам соваться.
– Не. Я не об этом, – сказал Мишка, поедая майонезный гриб и лениво глядя на Рыбинское водохранилище. – В тебе нет чувства банкротства.
– Чего?
– Чувства банкротства.
Я вспомнил, как ребята вчера смеялись над моими «странными» покупками. Мне нечего было ответить Мишке. Он, и правда, говорил, как взрослый. Я даже и подумать не мог, что ко мне и моей жизни можно сейчас или когда-нибудь в будущем применить такое величественное слово, как «банкротство».
Конечно, уже что-то поменялось. Даже наше гитарно-выпендрёжное сотрудничество с Рудневым уже многое значило. Но Мишка не стремился стать моим другом, и, кажется, по-прежнему «знал мне цену». Не знаю, было ли заметно его отношение ко мне «гэшникам». Во всяком случае, я уже не мог при нём быть таким же с новыми друзьями, как без него.
Но дело было не только в этом. Вот такой же дух всезнайства, мнимой опытности и назидательности Мишка применял не только ко мне, но и к «гэшникам». У тех смех был детский, а у него – сатирический (опять же, «взрослый»). Ребята из «Г» Мишку принимали, прислушивались к нему, подстраивались. Хотя и не прогибались особо под него. Но в этом процессе я был вытеснен и пребывал, как мне было привычно, на обочине.
Дача Полозова, и правда, оказалась редким захолустьем. До неё ещё от дороги пришлось идти километра два полями и перелесками. Было в природе осенне-промозгло и, хоть и сухо, и жёлто-берёзово, но скучно, неродно́. Андреев домишко – скудный, подзаброшенный, и едва ли не одинокий. Только природа, и рядом – два умерших хозяйства. Кроме меня вина принёс ещё кто-то один. На всех вышло мало до неощутимости. Да и вино-то оказалось слабое. Но меня от души похвалили за самоотверженную партизанщину. Была гитара. Мишка слабал «Улицу роз» «Арии» и ещё что-то попсовое. Я не совался. Попинали мяч. Что-то придумали с едой и воплотили.
Совершенно не помню, о чём велись разговоры. О чём-то несомненно малозначимом, праздном (видимо, я не способен такое запоминать). На обратном пути осень показалась мне ещё жёстче. Безветрие; но недоброе, призывающее уже зиму, зимнее запустение. Травы ещё зелены, но блёклы. Так, под праздные разговоры мы и убрались оттуда.
История 4. Межино. Июнь, 1989
4.1. «Ашники»
Если все пятеро ребят, перешедших в 9-й «А» из «Г» класса, славились общительностью, шутовством и беззаботностью, то «ашники» на их фоне выглядели разнородными, смурными и каждый-себе-на-уме.
Про Андрея Ржановского «Спонсора» уже вскользь упоминалось. Да, он был странен. Поговаривали, что в средних классах он гонялся за одним из обидчиков с циркулем в руке. В нашу компанию он, естественно, не входил, но всё время оказывался как будто неподалёку. Так он и стал «Спонсором». Апогей его «странности» случился по весне 1988 года. Тогда была популярна телевизионная программа «600 секунд», и Андрей вдруг стал «фанатом» Невзорова, её ведущего. Тот скакал на коне Гласности, ничего не боялся и обличал всё и вся в стране с безапелляционной жёсткостью и саркастическим юморком. Взгляд Невзорова был немигающ.
На волне всего этого однажды Спонсор явился в школу в чём-то таком дон-кихотовом. Его школьный пиджак был обрезан и заправлен в брюки под ремень, вместо обычного «мужского» галстука на резинке на шею была повязана аналогия галстука пионерского, но какого-то невнятного, крапчато-коричневого цвета, а с лацканов пиджака свисали на металлических под медь цепочках брелоки с некими лозунгами, написанными криво разноцветными фломастерами. Всё это дико напоминало известную поговорку про «дурака и фантики». Уверенно пройдя в таком виде внутрь образовательного учреждения «Средняя школа N12», Ржановский поместил на большом информационном стенде собственную статью, озаглавленную: «Школе – новую форму и реформу!!!». Статья была написана весьма небрежно, пачкающейся ручкой, с орфографическими ошибками. Листок со статьёй Спонсор неаккуратно вырвал из обычной ученической тетради в клетку. Детали реформы, предлагаемой учеником 9-го «А» класса Андреем Ржановским, я припомнить вряд ли смогу. Что-то такое про значительное расширение властных полномочий обычного старшеклассника, выборы учителей, классных руководителей и школьной администрации. В конце содержалось что-то вроде анкеты с данными самого автора. Среди прочего обозначалось, что его любимый телевизионный ведущий – Александр Невзоров, а любимый фильм – «А ну-ка, девочка, разденься!»
Статья провисела на стенде весь тот учебный день. Удалить её оттуда, видимо, не решались по причине того, что Перестройка, и правда, требовала гласности без ограничений (и, кстати, в вечерних телевизионных программах и транслируемых фильмах в то время всё чаще стали появляться элементы эротики). На переменах взрослые и дети подходили к стенду, прочитывали Спонсоров шедевр и, в большинстве своём, потешались. Андрея Венчука в тот день смех бил без остановки, на уроках ему делались замечания. Сам Ржановский был, как обычно, молчалив и сверх обычного улыбчив. Однако на уроке математики наша классная руководительница Ольга Сергеевна Тимашова пренебрегла установками времени и строго выговорила ему. Ольга Сергеевна была хорошим человеком на все времена. Одновременно строга, мягка, простодушна и непримирима ко всему неэтичному. Всё это, по мнению моих весёлых товарищей из бывшего «Г» класса, граничило с банальной глупостью, над которой, как и над поступками Спонсора, стоило бы от души посмеяться.
Выговаривая Ржановскому, Ольга Сергеевна в конце концов сделала внушительную паузу и, не отрывая от переставшего наконец улыбаться нарушителя испепеляющего взгляда, искажённо и акцентированно-пристыжающе повторила на свой лад название любимой Спонсором кинокартины: «Пойди, девочка, раздевайся!» В тишине класса всем было слышно, как упала на парту голова беззвучно хохочущего Венчука.
Ещё одним моим новым одноклассником, ведущим своё происхождение из бывшего «А»-класса был Миша Бородин, за глаза прозываемый «Бородатычем». Он также был сыном учительницы начальных классов. (Вот ведь, как оказывается: в моём классе собрались аж четверо потомков учительниц 12-й школы! Как будто все эти дамы почему-то решили забеременеть в один год, ровно через 10 лет после разрешения Карибского кризиса. Мама Миши Бородина вела «Г»-класс, мама Максима Малькова – «В» (ко мне она в то время хорошо относилась), мама Андрея Ржановского – класс детдомовцев, а ещё с нами училась дочь самой Ольги Сергеевны, нашей классной.) Бородатыч был квадратен. Имел квадратную могучую фигуру, квадратную почти блондинную голову, громкий грубый голос с как бы неизменно конфликтующими со всем окружающим миром, обиженными нотками и внезапно не идущие ко всей этой квадратности светло-голубые женские глаза с белёсыми ресницами. В целом, похож он был на самого обыкновенного русского медведя.
Мы с Бородатычем не особо жаловали друг друга. Руку Миша при пожатии, в отличие от Венчука, имел вялую. Он был уверенным в себе, как бы «понявшим жизнь» парнем; смотрел на всё то ли непроницаемо, то ли полупрезрительно, то ли с молчаливым вызовом, то ли всё это сразу. Из всего бела-света, кажется, он любил только свою собаку, эрдельтерьера, ему самому, Мише, по пояс. В баскетбол не играл; общался не столько с нами, сколько с 10-классниками из своего двора.
Следующие два персонажа будут слишком часто фигурировать в сей поэме, поэтому постараюсь сказать о них сейчас насколько возможно лаконично и сразу же перейду к межинской истории (о первом более-менее взрослом, хотя и безобразном, походе).
Мишка Шигарёв, «Шуга» – прозвище-производное-от-фамилии, против которого он нимало не возражал. Классе в 7-м нам с ним случилось поучаствовать в некоем выездном не то пионерском, не то меценатском мероприятии (кажется, что-то связанное с посещением лошадиного манежа на улице Сакко). Шигарёв показался мне тогда – как и много раз позже – личностью отталкивающей. Он был черняв, смугл, достаточно высок, худощав, лицо постоянно сгруженно-озабоченно-нахмуренное, не как у Бородатыча монотонно-презрительно, а этак с перманентным возмущённым вызовом. Он слишком много, неконтролируемо матерился и, почти не скрываясь, уже тогда покуривал. Создавалось впечатление, что его раздражает всё на свете и, при этом, – одномоментно. И он не ленился высказывать своё раздражение любому попавшемуся собеседнику, и делал это громко. Голос его всегда перекрывал любые другие голоса. Тихая речь, впрочем, была ему доступна, но прибегал он к ней крайне редко.
Смахивал Шуга на этакого вечного домашнего бунтаря, яшкался с разного рода полухулиганами и, возможно, если бы не Тимоха Вестницкий, с высокой долей вероятности куда-нибудь «туда» неизбежно скатился. К учёбе он всегда был хладен и учился кое-как на «тройки». Меня озадачивало то, что такой откровенный оболтус произошёл из интеллигентной семьи: его папа был уважаемым в К… урологом (правда, он умер, когда Мишке было совсем немного лет), а мама – чрезвычайно талантливым стоматологом. Воспитывался Мишка мамой и бабушкой – женщиной строгой и тоже, как видно, в высшей степени интеллигентной. Мишку прочили в медицинский институт, невзирая на его очевидные ограничения в плане усидчивости и прилежания.
Так вышло, что Тимоха Вестницкий и Шуга были дружны с детства. И получился из этого занятный симбиоз: Шигарёв увлёк Вестницкого за собой в медицину, а Вестницкий всю свою жизнь опекал Шигарёва, регулируя его характер, поступки и склонности (так, по крайней мере, мне это виделось и продолжает отчасти видеться).
Тимоха Вестницкий на определённом этапе моей жизни сделался для меня лучшим другом. Но знакомство наше тоже не проходило гладко и одномоментно. Как и прочие «ашники», Тимоха казался серьёзным, неприступным, подчас даже суровым. Он был невысок, кругл и как бы с виду мягок на ощупь, но всё это своё физически невзрачное и даже вроде бы слабое с лихвой компенсировал вот этой своей суровостью. Позже правда открылось, что в минуты вовлечения в общее доброе дело – такое, к примеру, как баскетбол, минуты расслабления и забвения воюющих с ним комплексов, Тимоха делался обаятельно смешлив, открыт, радостен и высшей степени приятен. Даже искусно впадал в очаровательную, бегающую смешно на носочках и тыкающую тебе смешно пальчиком в бок детскость. Смех его был благозвучен, разливист и радужен – он как будто раскрывался подобно вееру карт в руке. Если Венчук смеялся над глупостями, то Тимоха добавлял к такому смеху нечто возвышенно-интеллигентное (родители же Тимохи медиками не были и высшего образования, кажется, не имели; отец одновременно прост и затейливо-весел, мама же – скорее вседневно озабоченно-озадачена). Если, скажем, Мишка Руднев больше натягивал на себя личину взрослости, то Тимоха Вестницкий именно выглядел и казался не по годам взрослым. О вещах, значимых с точки зрения здравой прагматичности, Тимофей высказывался уверенно, хлёстко, зло, наотмашь, без колебаний. Про себя в такие минуты думалось: «Да-а-а, с виду вроде такой обыкновенный мальчонка-пухляшок, а задвигает идеи, как будто ему за 40». Трудно сказать, что сделало Тимоху таким. Возможно, воспитание, а возможно – взваленная самим на себя роль Шигарёвского опекуна.
Мне памятны только два эпизода из той ранней поры нашего знакомства.
Эпизод 1. «Знаешь какой он?!»
Думаю, это случилось ещё тогда, осенью 1988-го, когда было ещё тепло и жёлто-берёзово. Мы оказались однажды вечером с Вестницким на пороге 12-й школы. То ли мы куда-то собирались, а другие ещё не пришли, то ли, наоборот, все разбрелись, а мы с ним остались. Тимофей в тот момент был в фазе сосредоточенной, молчаливой сердитости. Речь зашла о Шигарёве, о его необязательности и разгильдяйстве. Видимо, это каким-то боком подходило к ситуации. Вряд ли я пытался Шугу оправдать, скорее просто задал некий уточняющий вопрос. И вдруг Тимоха взорвался. Он неожиданно вперился в меня негодующим огнепыхающим взглядом и жестикульнул правой рукой интригующе-проворно: «А ты знаешь, какой он, Шигарёв?!!» И Тимоха стал мне рассказывать случай из жизни, видимо, с его позиции, характеризующий Шигарёва максимально отчётливо. Я не запомнил той Тимохиной истории, но меня ошарашила эта фраза: «Знаешь какой он?!» Я впервые встретился с подобным. Можно ли так сказать о каком бы то ни было человеке? Можно ли сформулировать что-то такое настолько лаконичное про какого бы то ни было человека?.. Я уже давно сам про себя судил тех или иных людей, но никогда бы не подумал, что возможно вот так легко, как Тимоха Вестницкий, вычленить из многогранного характера человека нечто одно, ярко обозначить это одно и уверенно и безапелляционно сказать: «Вот он какой!» Я не подумал в тот момент, что Тимоха неправ, что он судит однобоко, что судить о людях – особенно вслух и за глаза – вообще нехорошо. Я просто поразился этой Тимохиной черте: неужели он настолько опытный и взрослый, что может небоязненно вычленять из целого нечто главное и говорить об этом громко и уверенно?.. В тот момент мне показалось, что Тимофей с Шугой недолюбливают друг друга, и уж никак они не друзья. Только спустя время я узнал, насколько на самом деле тесна и нерушима эта труднообъяснимая с первого взгляда жёсткая связь между ними.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.