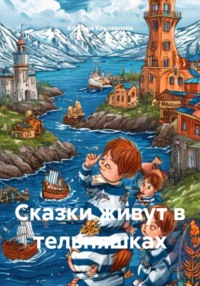Полная версия
Подлодка «Курск» (К-141). От очевидца событий
Глава 5. 2000 год. Хронология событий
Торпеда все-таки упала при погрузке
Почему все-таки? Потому что военные эксперты утверждают, что этого не было. Я знаю о падении торпеды из первых рук, но фамилию человека, который видел это собственными глазами, назвать не могу.
Погрузка торпед производилась в несколько этапов. В результате подводная лодка К-141 была вооружена 24 крылатыми ракетами «Гранит» и 22 практическими торпедами и 2 боевыми торпедами 65-76 А. Подводные лодки проекта 949А «Антей» оснащены шестью торпедными аппаратами: две – 650 калибра и 4 – 533 калибра.
Ракеты «Гранит» с дальностью 550 км способны развивать сверхзвуковую скорость на высоте более 20 км., они предназначены для уничтожения вражеских кораблей, но на учениях используются муляжи ракет.
Практическая торпеда – это обычная серийная торпеда, в которой вместо боевого зарядного отделения устанавливалось практическое отделение. В нем размещалась регистрирующая аппаратура, которая записывает работу приборов и системы самонаведения торпеды в период ее движения. После прохождения заданной дистанции практическая торпеда всплывает.
3 августа со стеллажа торпедного аппарата К-141 сняли боевую торпеду 65-76 А и загрузили толстую практическую торпеду 65-76 ПВ в торпедный аппарат № 4.
На погрузочной площадке у одного из кранов, не прошедших проверку ГОСТа, оборвалась цепь, и торпеда упала на металлический настил. Ее подняли и загрузили в лодку.
Не исключено, что погрузка проводилась опасным способом – сразу на оба борта, что уменьшает время работы. На «Курске» подобная практика проводилась и раньше, к примеру, перед последней "автономкой", за что была объявлена благодарность старшему мичману Абдулкадыру Ильдарову.
7 августа лодка вернулась в Видяево. По некоторым данным упавшая торпеда начала «травить» уже в то время. Торпедист Олег Сухарев (один из шести членов экипажа, оставшихся в живых) осмотрел торпеду, сделал запись в судовом журнале и… ушел в запой. Именно поэтому он остался жив – вопреки заявлениям некоторых журналистов в подводную лодку не грузят пьяных с тем, чтобы они отрезвели во время плавания.
После этих событий встретиться с Олегом Сухаревым не удалось: настолько он испуган (или запуган?).
8 августа начальник штаба Седьмой дивизии Владимир Багрянцев, который шел старшим по борту на К-141, подал рапорт на имя исполняющего обязанности командира дивизии Виктора Кобелева о том, что торпеда неисправна. Тот в свою очередь – на имя командира Первой флотилии Олега Бурцева. Дальнейший путь сей бумаги неизвестен, исчез он в дебрях флотской бюрократии.
8 августа вечером я видела Геннадия Лячина в своем дворе, он как будто кого-то ждал, потом медленно пошел в сторону своего дома. Непривычно было видеть его таким – подавленным, растерянным, в черном пиджаке вместо военной формы или спортивного костюма.
10 августа 2000 года корабль ушел в Лицу и в тот же день на ПЛ была загружена еще одна практическая торпеда 533 калибра, но с экспериментальной аккумуляторной батареей – УСЭТ-80. Считалось, что торпеда самая обычная, но в ней использовались новые компоненты. Торпеду сопровождал представитель завода Мамед Гаджиев и представитель военной приемки Арнольд Борисов. Специалисты завода «Дагдизель» из Каспийска заменили керосин и перекись водорода аккумуляторами. Взрывчатых веществ в "толстой" практической торпеде не было, а вместо них в боевую часть был заложен хлористый калий с парафином.
В заданный район «Курск» прибыл к 10 часам следующего дня (11 августа) и совершил одну ракетную стрельбу крылатой ракетой «Гранит».
12 августа К-141 должен был произвести две атаки практическими торпедами 65-76 ПВ и УСЭТ-80, которые находились в торпедных аппаратах № 2 и № 4. «Курск» должен был в 9:40 начать подготовку, а с 11:40 до 13:40 осуществить учебную атаку по авианесущей группе кораблей.
Напомню, что обе торпеды были практическими, в них не было боевого заряда, то есть, как уверяют военные, они не представляли серьезной опасности. Стрельбы УСЭТ-80 приравнивались к контрольно-серийным испытаниям в связи с тем, что она была укомплектована аккумуляторной батареей новой разработки.
Два нижних торпедных аппарата предназначены для торпед 650 калибра, верхние и боковые – для торпед 533 калибра (в них были торпеды УСЭТ-80). Одна боевая торпеда 65-76 А извлечена из торпедного аппарата и вместо нее установлена практическая торпеда 65-76 ПВ. А что было в другом нижнем торпедном аппарате650 калибра? Куда делась ранее загруженная боевая торпеда 65-76 А? По одной из версий она находилась на стеллаже возле торпедного аппарата. А зачем ее тогда загружали на борт К-141? Официальное заключение впоследствии пришло к выводу, что стрельбы торпедой 65-76 ПВ произведены не были, но именно эта торпеда стала началом трагедии – та самая, упавшая при погрузке.
– Считалось, что находящиеся на борту торпеды безопасны, хотя безопасных торпед просто не существует, как не может существовать и безопасной военной службы, – подводит итог капитан 1 ранга Виктор Краснобаев.
Сбор-поход и тонны лжи
Учения планировались как сбор-поход кораблей Северного флота. 12 августа был последний день флотских учений, все стрельбы прошли успешно, оставалась учебная атака АПРК «Курск».
12 августа в 11 часов 28 минут 26 секунд по московскому времени произошел один взрыв, через 2 минуты 15 секунд – другой. Моряки с «Петра Великого» рассказывали, что корабль был буквально подброшен вверх – такова была сила второго подводного взрыва. По официальной версии «Петр Великий» вошел в район торпедных стрельб в 11.37, он выполнял поставленную задачу цели для стрельб практическими торпедами с К-141. Во время взрыва он находился на расстоянии 10-15 километров, не более. Атаки К-141 ждали до 14 часов. В 16 часов 35 минут (время сеанса связи с «Курском») «Петр Великий» начал вызывать лодку, но ответа не получил.
12 августа в 17 часов 30 минут была объявлена боевая тревога спасательному судну «Рудницкий». В 18.31 спасательный буксир СБ-523 вышел в море. В 23.00 АПЛ должна была выйти в эфир на резервный сеанс связи. Не вышла. В 23.20 все барокамеры на «Рудницком» приведены в боевую готовность. «Петр Великий» оставался в районе учений.
13 августа (второй день) в 00.55 «Михаил Рудницкий» отошел от причала. На борту два спасательных аппарата – АС-32 (для обследования) и АС-34 (для спасения подводников), их спешно готовят к спуску. Еще два аппарата – АС-15 и АС-36 – готовят к переброске.
В 7.45 суда «Адмирал Харламов» и «Адмирал Чабаненко» начали обследовать район. В 8.59 «Михаил Рудницкий» пересек границу района. В 9.20 спасательный буксир СБ-523 прибыл в точку поиска. В 11.40 ТАВКР «Адмирал Кузнецов» вышел в район поиска (эк, сколько адмиралов собралось в одной точке – А.К.). Кроме этого, туда уже шли спасательное судно «Алтай» и плавкран.
"В 15.30 мы приступили к подготовке к спуску подводного аппарата АС-34 ("Бриз"), – рассказывает в интервью газете "Североморские вести" 22 сентября 2000 года начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота, капитан 1 ранга Александр Тесленко. – В 16.15 он был выгружен на воду. В 17.48 экипаж доложил об обнаружении на курсовом угле 60 градусов правого борта на дистанции 1890 метров работы лодочной станции. Аппарат пошел на сближение. В 18.32 аппарат произвел аварийное всплытие. По докладу командира на ходу 2-2,5 узла он ударился о стабилизатор лодки".
В 22.00 АС-32 ушел в воду и приступил к поиску затонувшей подлодки.
14 августа (третий день) в 00.50 АС-32 всплыла из-за аккумуляторных батарей, а в 4.00 в воду опущен АС-34. В 6.34 аппарат вышел на кормовую комингс-площадку, но не смог присосаться. В 16 часов погода резко ухудшилась. В 16.00 в район спасательных работ прибыл плавкран с аппаратом АС-36, но выгрузить его не удалось. В 18 часов волнение моря увеличилось.
«14 августа с 4.55 до 07.48 спасательный аппарат «Бриз» работал на аварийной ПЛ. Четыре раза экипаж выходил на комингс-площадку, два раза садился, пытался «присосаться», но безрезультатно, – сообщил в том же интервью Александр Тесленко. – У нас появились подозрения: что-то с аварийным люком или шлюзовой камерой не в порядке. На спасательных аппаратах работали опытные подводники».
14 августа была предложена помощь: США – спасательную подлодку "Мистик"; Англия – спасательную подлодку LR-5; Франция – сверхмалую лодку "Сага".
15 августа (четвертый день) работы продолжались ночью и днем – то зарядка, то присоска, все неудачно.
16 августа (пятый день) командир аппарата АС-34 наводил его на комингс-площадку четыре раза, но присоса опять нет. В 8.12 АС-34 получил повреждения корпуса и механизмов и поднят для ремонта.
17 августа (шестой день) в 17.40 АС-34 начал свою работу. К 20 часам он совершил 6 подходов и посадок, но присосаться не смог.
18 августа (седьмой день) то АС-36, то АС-15, то погружение, то заряд батарей. В 11.24 АС-36 начал тонуть, его подняли для ремонта. В 22.13 АС-32 начал погружение.
19 августа (восьмой день) в 13.45 АС-36 произвел погружение. Снова 5 попыток присоса не дали результата. К 22 часам АС-34 сделал несколько попыток присосаться.
Так и хочется спросить: это спасение или светский раунд? 14, 15, 16, 17, 18, 19 августа «Бестеры» и «Бризы» начинают новые «па», пытаясь выполнить невыполнимое, уже первые спуски показали, что комингс-площадка деформирована, что у лодки сильный крен. Почему руководство не искало альтернативные варианты спасения 13 августа? Руководство флота уже 13 августа знало, что живых подводников нет и спасать некого. Зачем же нужна дымовая завеса в виде имитации спасения? Чем на самом деле занимались специалисты спасательных аппаратов? Почему не привлекли водолазов? По всей видимости за этими действиями скрывалась государственная или военная тайна. Или спасение адмиральским погон?

Следствие в дальнейшем пришло к выводу о низком техническом состоянии подводных аппаратов и спасательных судов. С момента государственных испытаний, проведенных в 1996 году, эти аппараты вообще не использовались.
20 августа (девятый день) началась работа норвежских спасателей. Весь день норвежские водолазы пытались открыть люк, было ясно, что живых на АПЛ нет.
21 августа (десятый день) в 7.45 была вскрыта верхняя крышка злополучного люка, он был залит водой. В 12.52 открыта нижняя крышка аварийно-спасательного люка.
Российская работа по спасению требовала присутствия международных наблюдателей, которые бы подтвердили, что живых в лодке нет. Это было оправданием перед обществом, вдовами и матерями. Норвежцы нужны были, как адсорбент в грязной игре политиков. Они свою роль выполнили. Их пригласили вовремя – когда страсти накалились до предела.
О спасении подводников
В самые первые дни и часы один из подводников на вопрос о спасении сказал мне:
– Все мы смертники!
– Почему? – ужас звучал в моем возгласе.
– Потому что нечем спасать!
Об этом же кричали женщины на том собрании в Доме офицеров. Это правда, на российском флоте полностью отсутствовали средства спасения подводников. И они, подводники, знали об этом. Что это? Патриотизм? Бессмысленный героизм? Русское «авось»? Нет, все просто – безвыходность по типу поговорки «назвался груздем – полезай в кузов».
Каждое подводное судно у нас в стране оснащено всплывающей спасательной камерой (ВСК). Но, к примеру, экипаж АПЛ К-141 во время аварии не смог воспользоваться камерой из-за того, что центральный отсек был уничтожен. Подводники с К-278 («Комсомолец») смогли задействовать ВСК, однако в нее попали только пять человек. Кроме того, при всплытии разницей давления вырвало люк, и камера начала набирать воду. Одного подводника выбросило вслед за люком, еще один смог выбраться – трое других, включая командира корабля, утонули вместе с ВСК.
Получается, что без помощи аварийно-спасательной команды и специальных средств спастись очень трудно.
На «Курске» работали четыре спасательных аппарата, буквально на пределе своих возможностей. Спасательные аппараты «Бриз» и «Бестер» совершили 14 посадок на аварийную лодку, из них 10 с «присосом». Все это в сложнейших условиях.
«Очень трудно было работать экипажам аппаратов: точно сесть на комингс-площадку, – говорит Александр Тесленко. – Дело в том, что выполнена она на сгоне корпуса лодки, то есть, под наклоном. Кроме этого, сама аварийная ПЛ имела крен и дифферент. Сильно ограничивали маневренность аппаратов кормовые стабилизаторы лодки – заходить на нее спасатели могли только со строго ограниченных секторов. И как раз в этих направлениях шли подводные течения, которые менялись в зависимости от прилива-отлива моря».
Других спасательных средств на Северном флоте в 2000-м году не было.
А буквально за три года до этого на флоте был уникальный спасательный комплекс «Ленок», который в 1997 году был списан. «Ленок» мог лечь на дно рядом с аварийным судном, спасатели могли выходить из него на грунт, работать на дне и снова возвращаться на лодку-спасатель для отдыха. «Ленок» был оснащен глубоководным водолазным комплексом для работы на глубинах до 200 метров. Кроме того, там было два подводных автономных аппарата, которые могли садиться на аварийную лодку с креном, снимать терпящих бедствие и доставлять их на лодку-носитель.
Но… все стареет в нашем старом мире, и настало время ремонта спасательного комплекса. В 1997 году для ремонта «Ленка» требовалось 50 млн. рублей, но денег в стране не нашлось.
Что же могло сделать спасательное судно «Михаил Рудницкий»? Практически ничего. На переоборудованном из лесовоза корабле не было самого главного – декомпрессионных камер, где спасенные подводники могли пройти декомпрессию прежде, чем выйдут на поверхность. В противном случае они погибнут от кессонной болезни.
Справедливости ради стоит сказать, что именно «Курск» стал отправной точкой для улучшения работы спасательных служб: в настоящее время есть спасательные глубоководные аппараты, способные погружаться на глубину 1 000 метров, есть судна-носители, уникальное спасательное судно с барокамерами, водолазным колоколом и т.д.
Если бы все это было в 2000-м году. Удалось бы спасти часть экипажа? Сколько времени жили подводники в затопленной лодке? По некоторым данным, стуки были слышны до 16 часов 13 августа, то есть, подводники жили в девятом отсеке еще около 30 часов. Стуки, похожие на сигналы «SOS», слышали на «Петре Великом», подводные удары и стуки наблюдали на корабле «Адмирал Харламов» и спасательном судне «Михаил Рудницкий».
Позднее адмирал Вячеслав Попов сообщил: «Стуки были. Однако последующий глубокий анализ на аппаратуре показал, что они не могут быть однозначно признаны сигналами того аварийного прибора, которые стоят на наших подводных лодках». Конечно, не могут, это были просто стуки внутри корабля, может быть и в соответствии с международной системой сигналов бедствия: 4 удара – "слушайте сигналы по таблице № 1", 1 удар – "как вы себя чувствуете?", 3 двойных удара – "поднимаем лодку".
Никто из ребят не дождался ответа. Да они и не ждали, они готовились к выходу на поверхность, но новая трагическая случайность оборвала 23 жизни подводников. Там, в глубине любимого ими моря, в родной лодке мальчишки задыхались без воздуха. Они уже тогда знали о жизни больше, чем мы сейчас. Стуки не могли не быть. Потому что Алеше Коркину было 19, а мать увидела его совсем седым. Он жил, он ждал, он надеялся… Виктор Кузнецов умер от кислородного голодания, об этом говорит цвет его кожи. Он тоже жил.
Слабые и беспомощные декорации спасения не смогли бы убедить страну. И только плотный занавес в виде молчаливого согласия родственников сумели придать этому чудовищному спектаклю видимость сыгранной пьесы.
Глава 6. Дневник уходящего лета
Эссе «Там, за туманами…»
Там, за туманами остались наши ребята. Пусть берегом родным станут для них наши воспоминания. Почему они ушли от нас?
Сегодня, в суете бесконечных разъездов, в ритме буден мы не поймем Великое горе, соединившее нас вместе. И Великие души тех, кто остался погребенным в титановом саркофаге. Они вместе! Мы – нет! Но мы вернемся. Мы вспомним друг о друге. Потому что вместе несемся в том поезде, что зовется Историей.
День стремительно отлетает назад. Поезд лишь притормозил на полустанке. Кто-то вышел из вагона. Кто? Недосуг оглянуться. Эти лица, события, явления – они вспомнятся потом. Как в немом фильме. И лишь потом мы поймем, почему судьба раскинула свои карты именно так. А могла – иначе… А могла проскользнуть мимо. И ты никогда не поймешь, почему она выбрала тебя.
Недопетая песня Любви, недопитое вино Жизни, недочитанная глава Романа и дописанная Книга уже навсегда связали нас вместе. Получилась светлая, искренняя и чистая книга о любви невернувшихся мальчишек, о достоинстве зрелых мужей – и об их мужестве. А также о матерях, чье горе навсегда останется с ними.
Каждая страница книги омыта моими слезами. Я знаю, что они не стоят тех слез, что пролили матери, жены и любимые… Столько слез не бывает на свете! Я бы собрала каждую слезинку и превратила ее в памятник. Он будет громче колокола и выше ростральных колонн.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.