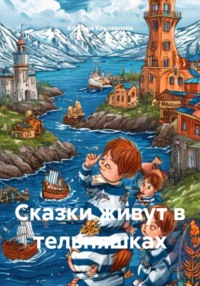Полная версия
Подлодка «Курск» (К-141). От очевидца событий
И церковь заработала, назвали ее Свято-Никольской, в храм потянулись люди, батюшки, правда, по-прежнему не было. А какие праздники там устраивали – у Кати, безусловно, организаторский талант. Помнится, что мы дома тоже лепили баранчиков из ваты для театра.
Позднее в гарнизоне открылась воскресная школа, и мои дети тоже ее посещали. Работала она… в квартире Багрянцевых. Екатерина Дмитриевна всегда старалась накормить ребятишек.
– Вам не мешают занятия? – как-то спросила я у Владимира Багрянцева – занятия проходили по выходным.
– У нас же три комнаты, да еще лоджия, – смеялся он.
Настоятель храма, отец Сергий появился в гарнизоне только летом 2000 года – едва ли не накануне трагедии. В те дни, когда вся страна молилась о здравии моряков, церковь была открыта почти все время, службы проводились несколько раз в день.
Никогда не забуду, как истово верили матери – на коленях, ползком через весь храм. Катя держалась стойко, она ведь верила, что Бог спасет ее мужа. Несколько раз она говорила: "Володя такой намоленный, такой намоленный…" – Багрянцев в прошлом был из церковной среды.
Новый храм построили буквально за несколько дней. Он и теперь стоит. Рядом кто-то разбил клумбу в виде подводной лодки – сейчас ее нет.
Екатерина Дмитриевна была очень активна в дни трагедии, старалась всем помочь прийти в церковь, вернее, к церкви.
Довольно скоро они уехали в Санкт-Петербург, где получили квартиру, и где живет ее мама. Год спустя мы встречались с ней в Санкт-Петербурге. Екатерина словно поселилась в Серафимовском храме, на кладбище которого похоронен Владимир Тихонович. Этот храм любил и Владимир Багрянцев. Теперь она здесь работает: готовит еду, моет посуду, убирается.
– Мне неважно какую работу выполнять, – говорит Екатерина Дмитриевна. – Главное, что муж тут рядышком. У моего Володи был свой духовный отец – Василий. Сейчас он мой наставник.
На поминальные мероприятия на Серафимовское кладбище в 2001 году Екатерина Дмитриевна опоздала, но словно свет возник при ее появлении, хотя света и так было много – день стоял удивительно жаркий для Питера. Все кинулись ее обнимать, целовать. Прошло какое-то время, прежде, чем очередь дошла до меня. Мы обнялись очень тепло и сердечно. Вот и все.
Игорь Багрянцев, сын
– Мама! А где Америка? – спросил мой маленький сын.
– А вон там, за речкой! – ответила моя сестра.
За речкой клубились дымки из открытых форточек, за речкой стояли сравнительно комфортабельные дома. Улица Заречная уходила вверх. В гололед машины плавно сползали на нижнюю площадь, где и оставались стоять до лучших времен.
На самом высоком месте гарнизона – школа. За ней – дом, где жили Багрянцевы. У них третий этаж, на втором – командир 7 дивизии Михаил Кузнецов.
Возле этого "кузнецовского" подъезда сопка круто обрывалась вниз. Позднее в одном из домов мне тоже дали квартиру. Через два дома от нас – квартира Лячиных. Склоны сопки поросли высоченными зарослями Иван-чая и крошечными, вровень с кустами, березками. Это живописное место любили дети. Зимой здесь самая замечательная горка. А летом тут и там среди камней мелькают детские головки. На площадках, устроенных природой, дети играют в "дом", в "гости", в "подводную лодку".
Здесь и подружился мой сын Сережа с Игорем Багрянцевым. Обоим было по 12 лет. Наш дом от дома Багрянцевых стоял на расстоянии 50 метров в длину и на таком же – в высоту. И целый день ватага мальчишек носилась туда-сюда: в Видяеве редко закрывают двери.
– Игорь, знаешь, какой справедливый! Игорь сказал…Игорь придумал..,– взахлеб рассказывал мой сын.
Игорь действительно отличался от своих сверстников. В нем не было застенчивости, свойственной подросткам. Кто-то назовет мальчишку дерзким, а мне нравилось, что со взрослыми он общался на равных. Но при этом он мог проявить редкую воспитанность и такт. За этим открытым веселым взглядом угадывался характер.
К тому времени я уже знала Багрянцева, как строгого начальника штаба нашей дивизии, но мне и в голову не приходило, что Игорь – его сын. Мне казалось, что сын капитана 1 ранга должен быть более рафинированным, что ли. Игорь-же, скорее, походил на уличного мальчишку – мог и подраться.
Багрянцев обожал своего младшего сына. Они были очень похожи – то же обостренное чувство справедливости, та же бесшабашная смелость. Мне казалось, что Игорек был смыслом жизни для Владимира Тихоновича.
Начальник штаба редко бывал дома – либо в море, либо в командировке. Мальчишки уже дружили, но самого главу семьи сын никогда не встречал.
– Завтра папа приедет! – радостно сообщал Игорь, и мы в такие дни запрещали детям приходить к ним, понимая, как редки встречи Багрянцева с семьей.
Познакомился Сережа с дядей Володей неожиданно. Он шел по нашей нескончаемой лестнице вверх.
– Ты – Сережа? – спросил его спускавшийся военный. – Что же в гости не заходишь? Приходи завтра в обед.
Оказалось, Багрянцев пригласил не в обед, а на обед. Праздничный, с накрытым в гостиной столом, с ножами и десертными тарелками.
Помню такой случай. У Багрянцевых часто ломался замок, сосед – каплей Сергей Григорьев помогал его чинить, рассказывал, что у них дверь иногда была нараспашку.
Однажды Катя прибежала сама не своя:
– Игорь у вас?
–Нет! А что случилось?
– Его нигде нет, мы ему сказали сидеть дома, ключ не взяли.
Мы побежали искать Игоря в разные стороны. Когда я вернулась – Владимир Тихонович быстро ходил возле подъезда, подбежала Катя:
– Его нигде нет! Ну сделай же что-нибудь…
По-прежнему спокойно Багрянцев вошел в подъезд. На площадке разбежался и выбил квартирную дверь плечом. Дверь сорвало с петель – в прихожей испуганный Игорь. Оказалось, что он ждал родителей и заснул в коридоре, а звонков не слышал.
– Опять сломали! – вздохнул Григорьев и пошел спать.
Надо было видеть, как засветились глаза Владимира Тихоновича, когда он увидел сына.
Игорь рассказывал, что с папой можно делать все на свете.
– Во-первых, он все понимает, – рассказывал мальчик. – А во-вторых, все разрешает.
Екатерину Дмитриевну уместнее назвать строгой мамой. Однажды мы с гостями-шефами на буксире вышли в открытое море. За штурвалом стоял Владимир Шевчук, отец позднее погибшего Алеши Шевчука. На борту – весело и грустно. Вода тихая и яркая. Корабль плывет вдоль мрачных скал, усеянных птицами. На палубе поет контр-адмирал Михаил Кузнецов. Вообще-то он хорошо поет, но тут его никто не поддержал, и была в этом какая-то неловкость. Мы с Катей встали рядом и стали подпевать. Но даже в это время Екатерина Дмитриевна не переставала следить за Игорем, поминутно делая ему замечания:
– Игорь, отойди от борта! Игорь, не наклоняйся низко!
Игорь подчинялся неохотно.
– Ну что, жертва воспитания, – спросила я у него, – ни шагу без инструкций?
Он заулыбался.
В самом начале лета к Багрянцевым приехали гости. Рано утром прибегает младший их сын:
– Тетя Аля, можно ваш Сережа поедет с нами на катере?
– Да ты что, Игорек? Будет он там мешать! У вас же гости!
– А папа сказал, чтобы я Сережу позвал.
– А, ну если папа…
– Сережка, на море холодно, ветер такой. Есть ничего не бери, мы уже все взяли, одевай скорее теплую куртку, сапоги, – скороговоркой говорил Игорь, помогая одеваться – мой сын инвалид с контрактурами рук.
Они ехали в Ара-Губу, место дислокации нашей дивизии, это семь километров горного серпантина.
– Дядя Володя посадил нас всех в машину, – рассказывал мой сын. – А самому места не хватило, мы с Игорем сидели у взрослых на коленях…
– И сел в другую машину, – подсказываю я.
– Нет, пошел пешком, – уточняет сын.
– Как? Там же далеко!
– Да он потом на попутке доехал, – беспечно машет рукой Сережа.
Впечатления о той поездке поистине оказались незабываемыми для моего сына – как они выходили в открытое море, как ловили рыбу, как готовили ее на костре, как лодка чуть не перевернулась, когда дядя Володя навалился на борт.
Багрянцевы все верующие, но, я бы сказала, умеренно верующие. Уже после гибели "Курска" в прессе появлялись "сенсации," что младший сын готовится в семинарию. Конечно, это было неправдой. Дима, старший сын, тогда учился в военном училище, Игорь тоже собирался стать военным. В семье трепетно относились к общему образованию – когда Дима сдавал выпускные экзамены в школе, вся семья ходила на цыпочках, чтобы не мешать.
Но, разумеется, какая-то часть жизни мальчишек была связана с церковью. Они помогали ее обустраивать, выступали на концертах, участвовали в конкурсах. Все это не мешало им быть просто мальчишками – озорными, веселыми, беспечными.
Игорь закончил Калининградское военно-морское училище, сейчас старпом на одной из субмарин Северного флота. Мой сын изредка переписывается с ним по электронке, и поэтому я в курсе событий.
Я потом звонила Багрянцевым в Санкт-Петербург, Екатерины Дмитриевны дома не было.
– Как Сережа? – спросил Игорь, потом помолчал и вздохнул. – Таких друзей, как в Видяево, у меня уже не будет. Здорово все было…
Беззаботные улыбки, детские головки, мелькающие среди зарослей Иван-чая… Летнее незаходящее солнце… Багрянцев, который пытается подтянуться на нашем турнике… Игорь смотрит на него и хохочет…
Мы были счастливы тогда.
Геннадий Лячин
– Судьба правильно распорядилась, что мы оказались здесь! – сказал однажды Геннадий Лячин на летнем берегу озера во время одной из многочисленных встреч с шефами.
Мы с Геннадием Лячиным были знакомы "наспех". Пробегая по длинному штабному коридору, кивали друг другу головами и разлетались дальше – что мы знали о планах судьбы?
У нас не было точек соприкосновения. Звездная судьба! Звездный командир! Таких в дивизии было немного. Лячина считали везунчиком, корабль его удачливым, а сама служба на его АПЛ приравнивалась к приличной аттестации на флоте. Да и вообще Геннадий Лячин был немногословным, сдержанным человеком. Мне пришлось немало потрудиться, прежде чем он согласился на интервью.
Лячин стал командиром "Курска" 19 декабря 1996 года. Был такой странный зигзаг в его судьбе. В 6 дивизии он был командиром корабля. После реформирования ему предложили учиться в академии, но он отказался и пошел старпомом в 150-й экипаж Сергея Ежова, это был второй экипаж "Курска" и "Воронежа".
И только через несколько лет снова стал командиром. Поговаривали об этом всякое… Мне же нравился его гражданский поступок, поэтому наш разговор я начала с вопроса, о том, почему он так поступил, все же академия – это серьезный шаг для карьеры.
Он ответил неожиданно просто (оставляю стилистику нетронутой):
– Для меня это была возможность освоить атомные корабли новейшего типа, такие как "Воронеж" и "Курск". "Стополсотый" их и обслуживал. Получилось же все случайно. Когда дивизию пустили "под нож", мне предложили пойти в академию. Поехал в Питер, посмотрел – вопросы жильёобетования не решены, зарплату задерживают. А мне семью кормить надо. Принял решение – служить дальше.

Алексей Коломийцев и Геннадий Лячин.
"Курск" стал особенным кораблем именно при Лячине – его строгость, его требовательность, доходившая до педантизма, его чувство справедливости быстро принесли свои плоды. Экипаж вышел в передовые и скоро стал заметен не только в дивизии, но и на всем Северном флоте.
Геннадий Лячин казался человеком строгим, чуть ли не суровым. Его неразговорчивость мешала сделать хороший репортаж, поэтому для интервью я закинула пробный шар, задав общий вопрос: считают ли Лячина жестким командиром?
Ответы неожиданно оказались разными.
– У, строгий, – ответили матросы. – Но поговорить с ним можно хоть о чем. Что он особенно не любит, так это, когда слабых обижают. Если подозревает что-то, может заставить раздеться до трусов и спросить, откуда эти синяки.
"Дедовщины" на "Курске" не было. Как гордились ребята, что служат на таком корабле. В письмах писали, что у них самый лучший командир и самая лучшая подлодка. Туда даже переводили на перевоспитание "плохих" мальчиков из других экипажей.
– Жесткий ли командир? Конечно, – ответил начальник отдела кадров Андрей Калабухов. – Жестким и должен быть командир. Если даст слабину, сначала ему сядут на шею, потом на голову, потом вообще ни во что не будут ставить. Геннадий Петрович – первоклассный командир! Если экипаж занимает первые места?! Если бытовые вопросы решаются? Если документация в порядке?! Конечно же, жесткий!
– Ну что вы? – заулыбался Саша Шубин. – Я бы так не ставил вопрос, никакой он не жесткий. Он требовательный командир. Таких командиров, как Геннадий Петрович на Северном флоте больше нет!
Теперь нет уже не только на Северном флоте!
Спросила о том же и самого Лячина.
– Считаю, что, если стал командиром – честно выполняй свой долг, – ответил он. – Тогда и обязанности гармонично вытекают одна из другой.
– На экипаже появился человек с проблемами? – продолжаю я свой "допрос". – Что делаете вы: избавляетесь? перевоспитываете?
– Стараюсь увидеть ситуацию. Иду мимо – человек глаза прячет, значит, что-то не так. Конечно, помогаю. Но если предал, подвел – без сожалений расстаюсь.
Под водой – как на войне: все в единой подводной связке.
– Ваш экипаж считается сильным и хорошо подготовленным. Как вам этого удалось достичь, Геннадий Петрович?
– Профессиональное обучение – это раз. Создание единого организма – это два. Я много работаю в этом направлении. Стараюсь приучить каждого к мысли, что за каждый поступок следует и наказание, и награда.
– Что для вас важнее: семья или работа?
И тут он неожиданно засмеялся:
– Конечно же, семья! А разве бывает иначе? Хотелось бы больше времени проводить с семьей. Но командирская работа – она такая особенная, отнимает много времени.
– Происходило ли в вашей жизни что-нибудь необычное?
Я думала, он расскажет о дальних походах, во время которых под водой заклинивает атомный контур или о приключениях на суше.
А он помолчал и сказал:
– Вот хотя бы это: мы с женой дружим со школьной скамьи.
– Вы друзья с женой?
– Я думаю – да.
Его жена Ирина в то время работала в Ура-Губинской администрации, а до этого – в Видяевской школе учителем информатики. Я часто видела их вместе. Дома на нашей Заречной улице были выстроены в виде буквы "Г"– за ними начинались сопки, болота, лес. По вечерам Ирина с Геной и своим шустрым пуделем шли по одному и тому же маршруту: по нашему двору, огибали наш дом и вдоль речки возвращались к своему дому. Если Геннадия не было, Ирина общим привычкам не изменяла – точно по тому же маршруту и в одном направлении. Меня эта приверженность традициям несколько удивляла.
Оба Лячины – рослые, красивые, статные, их нельзя было не заметить. По вечерам всегда в спортивных костюмах.
Правильно ли распорядилась судьба? Нам до конца друг друга не понять. Человеку и судьбе! Она просто распорядилась и все: его жизнь растворилась во мгле времени.
Татьяна Карпова, сестра.
После этих событий я получила письмо от сестры Геннадия – Татьяны. Я писала отцу, но ответила она, сказала, что отец не любит писать письма.
"Какой он был, наш Гена: сын, брат, зять, племянник? – пишет Татьяна. – Попробую обрисовать его."
Она пишет, что в их семье дети рождались исключительно в январе и ровно через четыре года.
Виктор – 1-го января 1951 года.
Гена – 1-го января 1955 года.
Таня – 15-го января 1959 года.
"Как это удалось родителям, понятия не имею, – пишет сестра Геннадия. – Захочешь специально такое сделать – не получится."
"Семья у нас была простая – рабочий класс, – пишет Татьяна. – У родителей – неоконченная школа: у отца – 5 классов, у мамы – 7 классов. Но дети получились "хорошие". У всех – высшее образование. И воспитывали как-то легко, без нравоучения, наказаний, мы даже считали, что нас и не воспитывают вовсе, а мы так, сами по себе растем. Я даже помню, как в старших классах мы с Геной спорили, и я ему возьми, да и скажи: "Какой воспитали, такая и есть!" А он: "Да кто тебя воспитывал? Улица, да школа!" Сейчас я думаю, что всех бы так воспитывали".
Старший сын Лячиных Витя был по нынешним понятиям "ботаником" – спокойный, старательный отличник, увлекался радиоделом. Позднее стал радиоинженером.
"Гена в отличие от Вити рос другим: живым, подвижным, неусидчивым, вспыльчивым, – пишет Татьяна Петровна. – Спортом увлекался, благо, раньше в школе были секции, какие хочешь, а ростом и здоровьем Бог его не обидел. Играл за школу в хоккей, футбол, волейбол, баскетбол. Дружил с ребятами старше себя, музыкой интересовался, тогда у нас уже был магнитофон "Днепр". Фотографией занимался довольно серьезно, закроется в кладовке – перезаряжает фотоаппарат "Смена", в ванной была фотолаборатория. Короче, нормальный парень рос – увлечения, рыбалка, улица. Учиться было некогда".
Геннадий Лячин учился неровно: выручали память, внимательность. Послушает на уроке, ответит. А потом появилась у Гены мечта – он хотел учиться в Ленинграде. Тогда он и взялся за уроки не понарошку, а всерьез и дело пошло на лад.
Отношения между детьми были очень теплыми, но Виктор уехал учиться, когда Танюшка была во втором классе, а Гена – в шестом.
"Потому все мои детские воспоминания связаны с Геной, – пишет Татьяна. – В школу водил, косы заплетал, задачки решал, с улицы загонял домой, жалел и не спал ночами, если у меня болел зуб – все это Гена! Когда меня спрашивают о нем, я всегда отвечаю, что это был настоящий старший брат!"
Геннадий покинул дом после школы, и сестра с братьями стали встречаться только во время коротких каникул. "Приедет такой большой и мягкий, "сгребет" тебя в охапку, приподнимет и ласково поцелует". Обязательно всем подарки привозил. Посидит молча, осмотрится, чего нет, что разбилось – и по магазинам. Приходит нагруженный покупками.
"Вы знаете, он ведь умел абсолютно все, – пишет Татьяна. – Бывают же такие мужчины! Шить – пожалуйста! Девчонкам – юбки, деду – штаны. Варить, стирать – запросто. Наклеить обои, покрасить – мигом. Ну а что касается мужской работы – здесь даже говорить ничего не надо: глаз у него хозяйский был". В училище – он был старшиной – его рота заметно отличалась: форма подогнана тютелька-в тютельку.
Она рассказывает, как была удивлена, когда приехала на Север и увидела, что Гена в курсе всех домашних дел, хотя дома-то редко бывает. Он без всяких напоминаний заглянул в холодильник и купил продукты, каких не хватало, потом собрал детские вещи и постирал. Он был очень аккуратен и требователен к другим в этом вопросе.
"А какое трепетное у него было отношение к женщине: жене, сестре, теще, дочери!" Он вообще любил людей. Когда приезжал в отпуск, соседка по дому говорила: Вон идет мой красавчик!"
«Гена – это часть меня, – пишет Татьяна Карпова. – Я всегда знала, что у меня есть родной, дорогой человек, будь он рядом или далеко. Это те широкие сильные плечи, на которые я могу опереться. Когда умерла мама, я шептала ему, что мне страшно. Когда я осталась одна с маленькой дочкой – он снова был рядом. И все души не чаяли в нем. Его нет. А жизнь продолжается… Какой ужас! Да, вы правы: столько слез не бывает на свете!"
Александр Шубин.
Мы встретились с Сашей Шубиным последний раз летом 2000 года. "Куряне" возвращались из отпусков. Загорелые, окрепшие подводники, наполненные энергией лета, – а в Видяево в это время еще снег на сопках лежит.
Ребята готовились к "автономке", они хотели выйти в море. "В море хорошо, – сказал один подводник. – За кормой остаются проблемы. И что-то большое входит в твою жизнь".
Шубина я поймала "на лету".
– Э-эй, зам! – крикнула я ему. – "Куряне" последними остались для книги. Когда мы встретимся?
– Да мы все выходим на следующей неделе! – из машины улыбнулся Шубин и улетел на своей вездесущей "девятке".
И вот на следующей неделе я в каюте капитана 2 ранга Александра Шубина – здесь много вымпелов, призов, наград. Кстати, сам он к тому времени был награжден пятью медалями, но не сказал об этом.
Александр Анатольевич – инженер-ядерщик, закончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище. Там же, в Севастополе он познакомился со своей будущей женой Ириной, выпускницей школы с углубленным изучением английского языка. Родом он из Ростовской области. В 1981 году Шубин получил направление в Видяево, где семья прожила 19 лет. После теплого ласкового моря попасть за полярный круг – испытание нелегкое. Понятно, почему Ира любила жару, как она написала мне позднее. У нас было поверхностное знакомство, я знала Ирину как бухгалтера ОМИС, это что-то вроде домоуправления в гарнизоне. Чисто деловые отношения не переходили во что-то более глубокое, бытовые проблемы нас не сталкивали: ОМИС – это царь в гарнизоне, он дает квартиры, воду, тепло.

Александр Шубин, последний справа.
У Шубиных уже тогда подрастали две дочери: Алина – ее назвали в честь бабушки и Александра.
К тому времени Алина училась в Санкт-Петербурге. Последний раз она виделась с отцом весной, когда он проездом из Видяево в Севастополь заехал к старшей дочери. Весь день они провели втроем: папа с двумя дочками – младшую Сашу Шубин вез к бабушке. На обратном пути отец с Алиной гуляли по городу, зашли в Исаакиевский собор, где билетерша приняла Александра за иностранца. И все было так безоблачно, так надежно, что не верилось в трагический исход.
У капитана 2 ранга Шубина – обычная биография моряка: К-62, "Буки"-68, плавмастерские. Потом, когда завод по ремонту подводных лодок сократили, Александр Шубин остался не у дел. Поехал в гарнизон, где служил на атомной подлодке "Пантера". Ездить достаточно далеко, а переводиться вообще – проблематично.
Так Александр Анатольевич Шубин стал заместителем по воспитательной работе на "Курске". Он не очень хотел снова идти на подлодку – заставили обстоятельства.
Конечно, Шубин мне этого не рассказывал. Это друзья. Уже потом.
– Как же Вы попали в "красные"? – пошутила я во время нашего разговора.
– А это Дьяконов виноват, – смеялся Шубин. – Он первым мне предложил в замы. Еще на плавмастерских. Он внимательно относился ко мне. Помню, что приказ о досрочном присвоении звания был подписан 1 апреля. Александр Геннадьевич лично позвонил и поздравил.
Шубин замолкает, вспоминая что-то свое. Как все застенчивые люди, он становится неловким, когда рассказывает о себе.
– Интересно работать?
– Мне с людьми всегда интересно, – серьезно отвечает Шубин. – Кто чем дышит, кто, о чем думает, какие обстоятельства в семье – все это надо знать. Словом, жить среди людей, знать их интересы, это смысл моей работы.
И он начинает рассказывать о своих замечательных братьях-подводниках и о замечательном командире Лячине.
– Таких командиров нет на Северном флоте! – так и сказал Шубин.
– Строгих? – спросила я.
– Справедливых! – ответил Саша. – С ним легко работать, он сразу все понимает.
А потом – про Беляева. Он тоже замечательный. Все, оказывается, на этом корабле люди совершенно необыкновенные. Про Хафизова, Кичкирука, про других.
– А как вы в походе работаете с людьми? Ну в смысле поддержания боевого духа.
– Существует план работы в автономном походе, который включает в себя многие аспекты деятельности. Это не только развлекательные мероприятия в свободное от вахт время. Наши ребята любят познавательные мероприятия, сами их придумывают.
– Я видела на кассете, это по типу телевизионных передач.
– Ну да, только они обыгрывают все с юмором, получается интересно.
– Трудно быть замом? – пытаюсь я раскрутить Шубина на "личный" разговор.
– Ну, как будто вы не знаете нашу работу? – смеется Саша.
Это правда, я знала его работу. Мы встречались на утренних совещаниях или проработках, как их называли. И хотя Александр Анатольевич считался сильным "политруком", а "Курск" – стабильной командой, все же и Шубину нередко перепадало от начальства.
А он лишь улыбался своей застенчивой улыбкой, да отшучивался порой, я никогда не видела его сердитым, недовольным или обиженным.
Ирина Шубина. Сильная, независимая, умная. Несмотря на то, что она всегда говорила, что чувствует себя с Александром, как за каменной стеной, при первом взгляде на семью сразу становилось ясно, кто здесь главный – пусть это будет не в упрек Саше, чуткому и отзывчивому человеку. Он очень любил своих дочерей – Алину и Александру. Это имя для семьи Шубиных носит знаменательный характер.
Живут Шубины в Санкт-Петербурге, в общем, сбылись мечты Александра Шубина о лучшей доле для своих девочек.
Мы сухо раскланялись, когда встретились на Серафимовском кладбище, ни о чем не говорили, хотя по электронной почте переписывались активно. А после этого Ирина написала: " Впервые за прошедшие десять лет захотелось на Север… в Заполярье…в сопки…». Или в ту…свою жизнь?