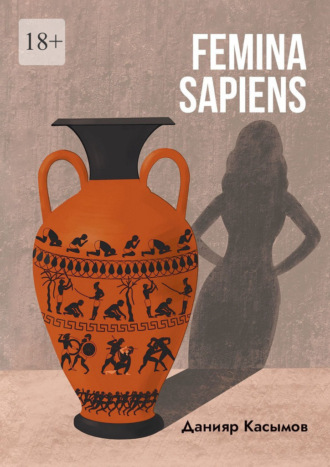
Полная версия
Femina sapiens
– Большая звезда в небе!
– Верно. И что день и ночь всегда сменяют друг друга, потому что Земля постоянно вращается вокруг себя, и когда она поворачивается одной стороной к Солнцу, то на этой стороне планеты день, а на другой, соответственно, ночь; и Гатэя тут ни при чем.
– Но мне нравятся истории про всяких богинь.
– О-о, мне тоже. Так вот, точно так же люди думали в свое время, что земля – это мама, мать всего живого на земле; отсюда, кстати, и выражения «мать-земля», «земля-матушка». И люди верили, что урожай зависел исключительно от ее настроения. И в знак поклонения Матери и признания ее верховенства они подносили ей кровь будущей мамы – мамы человека, как бы прося, чтобы земля была плодородной, а урожай хорошим…
– Но Айка еще маленькая, чтобы быть мамой, – перебил Дамир, вмиг связав эти слова с услышанным днем ранее.
– Конечно, ей еще ой как далеко до этого, но у девочек есть определенный момент, когда тело подает знак, что оно начинает созревать и в скором времени готово будет физически создать и носить ребенка в животе. И вот таким знаком служит кровь, которая начинает немного течь из влагалища девочки, когда она достигает определенного возраста.
– Кровь??? Из влагалища… откуда дети рождаются? – сконфуженно выдохнул пораженный Дамир, указывая на гениталии матери. – Как из раны?
– Да, отсюда. Но это не рана, это совершенно нормальная вещь у девочек и женщин. Это примерно так же, как… как когда ты простудишься и у тебя из носа течет и течет. Так же и у девочек, но это вовсе не болезнь, а особенность женского организма. И не всегда, а иногда, примерно раз в месяц.
– А это больно?
– Нет, не больно, скорее неудобно. Так вот, такую кровь раньше считали священной, потому что она была знаком того, что девочка становилась способной стать матерью. Но только та кровь, которая появлялась у девочки в самый-самый первый раз. Поэтому у некоторых народов, если весной у девочки появлялась такая первая кровь, это считалось очень хорошей приметой, и люди верили, что таким образом земля посылала знак, что она добра к людям и что урожай будет хорошим. В ответ они брали такую кровь и обрызгивали ею землю в благодарность за ее доброту и в знак поклонения. Другие народы верили, что такая кровь, именно первая, обладает волшебной силой: если побрызгать ею землю, та станет плодородной и даст хороший урожай. Были и такие, что считали, что такая кровь обладает целительными свойствами, и ею врачевали больных, ну, лечили их. А к таким девочкам все народы относились почти по-королевски в такой момент, чуть ли не на руках носили. Так они думали в те далекие времена, потому что многого не знали. Не знали, что урожай зависит от многих вещей: от почвы, от погоды, от обилия дождей и снега, и что кровь на деле ничего не решает.
– У Айки сейчас течет кровь в первый раз?
– Да, у нее менархе было на прошлой неделе. Менархе – это первая менструация, а менструация – это ежемесячное кровотечение у девушек и женщин. Скоро в школе вы будете подробно изучать все эти особенности и отличия организмов девочек и мальчиков.
– Тогда я должен носить Айку на руках! – выпалил Дамир, вызвав сияющую улыбку матери. – Я сильный, я могу! – почти гаркнул он, приняв типичную позу культуриста, но, вспомнив вчерашнюю драку, сник и, пристыженный, выбежал из дома.
Айгуль выглянула в окно и позвала дочь, чтобы поведать об этом разговоре, дабы брат не застал сестру врасплох.
Анабельский лауреат
Темная-темная вода, глубокая. Шум воды и чей-то крик. Тускло, туманно и нестерпимо влажно, аж трудно дышать. Что-то сковало грудь, слова застряли в горле… Ноги вдруг почувствовали песчаное дно берега, но оцепенели, и все усилия сдвинуть их с места напрасны, а двигаться-то нужно, ой как нужно… Женский пронзительный крик в ушах: «Вижу! Вижу!» Руки неподъемны, скованы чем-то. Но чем? Взор медленно опускается и видит липкую, густую тину на руках, она-то и тянет их вниз и не дает идти, а идти-то ой как нужно… Голову пронзает мысль: «Не может этого быть!»
Слегка дернулась нога, он проснулся. Стояла глубокая ночь.
Он продолжал лежать с открытыми глазами, не двигаясь. Хотел окончательно проснуться, прежде чем заснуть снова: еще в далекой-далекой юности подметил, что, если ночью проснуться и в полудреме тут же заснуть, можно увидеть продолжение прерванного сна. А этот сон он видеть не хотел, хотя снился он ему часто. Его не покидало ощущение, граничащее с твердой уверенностью, что, когда он будет отходить в мир иной, именно этот сон или его подобие будет последним фрагментом в его сознании. В последнее время мысли о смерти посещали его часто, вернее, покидали редко. Должно быть, потому, что подходил к концу восьмой десяток жизни. Восьмой десяток, из которых последние сорок были бурными на труды годами, бурными, но… одинокими. Видимо, то была цена за такую жизнь. Он почти ни о чем не жалел. Вот только этот сон…
Проснувшись рано утром, за завтраком принял фундаментальное решение, что ездить теперь никуда не будет. Все, хватит! Все эти поездки, перелеты его сильно изматывают. Сесиль права: в таком возрасте не пристало так часто колесить по свету, особенно в дальние и длительные командировки. Хотя он был убежден, что именно активная трудовая деятельность и путешествия продлевают жизнь и держат его тело и разум в тонусе (в основном разум). Ясности его ума действительно завидовали многие. «Да и количество лекций в университете пора бы сократить, старый уже, – продолжал размышлять он, окуная овсяное печенье в чашку подогретого молока, – не пожилой, не в преклонном возрасте, а именно ста-а-арый». Как назло, с улицы донесся устрашающий вой сирены машины скорой помощи, будто бы намекая на верность хода его мыслей, он аж замер, задумавшись (застывшее на полпути печенье капнуло молоком).
Утро было его любимым временем суток. Звуки просыпающегося города бодрили его, обещая продолжение дня, суля бессмертие. Утро дарит надежду. Видимо, поэтому все люди в преклонном возрасте встают спозаранку.
Закат его жизни наступал стремительно, он это чувствовал. Ощущал сие не пресловутым шестым чувством, а всеми фибрами тела, души и разума, видел это в зеркале, в общении с людьми, в их участившихся снисходительных взглядах.
Будучи весьма наблюдательным человеком, к тому же склонным к самоанализу, он стал замечать, что если раньше во время обязательных утренних прогулок планировал свои дела, как личные, так и рабочие, то в последнее время больше предавался воспоминаниям и размышлениям: о том, что было, чего не было и что могло быть, если бы однажды жизнь не привела его туда, куда причалила около сорока лет назад. Вся его жизнь была отчетливо поделена на до и после того события, будто в течение одной жизни две разные судьбы прóжил, двумя разными людьми пóбыл; и даже сейчас, оглядываясь назад, не мог с уверенностью сказать, какую бы в итоге выбрал.
Было время, было человеческое счастье, простое, как у всех. Был рядом любимый человек, близкий и душой и телом, которому ты был нужен и с кем делил все радости, заботы и грандиозные планы на жизнь, на всю жизнь. Было умиротворяющее чувство быть нужным кому-то, быть свидетелем чьей-то жизни и знать, что и твоя крохотная жизнь в этой огромной вселенной не проходит незаметно, по крайней мере еще для одного человека. Было время, когда смотрел на мир двумя парами глаз, когда ловил на себе по-хорошему завистливые взгляды окружающих, знакомых и незнакомых, наконец, время, когда стремление к личному счастью, столь естественное по природе, определяло все в жизни: мысли, мечты и поступки. И казалось, оно будет длиться вечно. Все это было.
Было и другое время, тянущееся по сей день: когда свидетелями твоей жизни являются очень многие, а значит, никто по-настоящему, когда личное счастье безвозвратно забыто, и теперь оно лишь определение в словаре прошлого. И забыто не по своей воле, а просто стало невозможным; много лет назад он понял это и, крепко смежив веки, проглотил от безысходности, проглотил как пищу, что противна на вкус. Эта глава его жизни была посвящена не ему, но другим, в ней он был забыт, в ней его попросту не было.
Нынче и вспомнить не мог, что именно толкнуло его в тот переломный момент встать на этот тернистый путь: тщеславие ли, профессиональный эгоизм или стремление к вселенской справедливости, а может, и безрассудство. Пожалуй, все вместе. И действительно, оглядываясь назад, он находил на тропе «второй» жизни следы и тщеславия, и эгоизма, и безрассудства, и жгучего желания изменить мир к лучшему; на том или ином этапе то одно чувство преобладало, то другое, неуклонно толкая и толкая на продолжение нелегкого пути, пока он не добрался до точки невозврата, когда свернуть уж поздно. Местами топал по инерции, и такое было. В последние же годы топливом для двигателя все больше служил банальный страх смерти, страх забвения. Немудрено, в его-то годы. Как люди, что на закате лет с головой погружаются в религию в поисках иллюзии продолжения бытия, он погрузился остатками сил в единственное, что у него было, – труд, чтобы им ухватиться за все удаляющийся поезд жизни. Оставить что-то после себя, остаться в памяти других – не это ли бессмертие?
Пора сбавлять обороты, твердо решил он, собираясь на работу, пора и о себе подумать, хотя от себя уже ничего не осталось. Да и что он будет делать, чем займется? Ничем? «Ничем» пугало его. Безделье и свободное время в первый же день обнажат пустоту его личной жизни, точнее, ее полное отсутствие. Без своей работы он – заброшенный вокзал на отшибе цивилизации, куда не ходят ни поезда, ни автобусы, не летают самолеты, куда дорогу безнадежно замело временем и которого уже нет на новых картах жизни; заплутавшие путники и те туда не забредают, разве что Сесиль, его младшая сестра, наведается иногда, и то из чувства долга.
Такие мысли все чаще и чаще посещали по утрам Магнуса Кельда – известного историка, ученого, почетного профессора двух престижнейших университетов мира, писателя, автора многочисленных научных трудов, общественного деятеля и, наконец, лауреата Анабельской премии.
В то утро, войдя – нет, ворвавшись – в свой кабинет, профессор Кельда излучал решимость, несвойственную почтенным годам. Впервые не притронувшись к свежим газетам и не испив кофе, с чего неизменно начиналось его рабочее утро в университете, он вызвал Яна Агния, своего ассистента, работавшего бок о бок с профессором почти десять лет.
Едва тот переступил порог кабинета, профессор энергично произнес:
– Ян, голубчик, будь добр, распечатай и принеси мое расписание. – Хлопок в ладоши. – Полное расписание: лекции, выступления, поездки, встречи, – в общем, всё!
– Только подтвержденные вами или предварительные тоже?
– Голубчик, всё!
Ян удалился, мигом уловив необычное настроение профессора и поняв, что грядут перемены. «Ой-ой-ой», – разволновался он, шагая по коридору. Последний раз похожий решительный настрой профессора закончился переездом в этот город, в этот университет, лет шесть назад. «Неужели что-то подобное?» – занервничал ассистент. Он прикипел и к городу, и к стенам университета, ему здесь определенно нравилось. К тому же здесь он встретил Клару.
Едва он добрался до своего места, зазвенел телефон.
– И вот еще что… – неуверенный голос профессора на том конце. – Хотя нет, ничего, ничего. – Гудки в трубке. Ян пожал плечами.
Больше часа ассистент с профессором провели над расписанием и планами, где первый наблюдал, как второй энергично что-то обводил, что-то подчеркивал, что-то зачеркивал, а где и вовсе ставил жирный-прежирный крест, по ходу комментируя и давая указания на будущее. Ян едва поспевал записывать, стараясь ничего не упустить и не переспрашивать. Упаси мать переспрашивать профессора в таком состоянии!
Когда с делом было покончено, профессор бросил помощнику вслед:
– Еще раз, милок, на будущее: только важные дела, только важные! Прошу тебя. Остальное можешь смело отметать, решай сам по своему усмотрению, даю тебе в этом полный карт-бланш. Только отказывай почтительно, сошлись там на… плотный график, личные обстоятельства всякие, или… стой! Нет, лучше сошлись на здоровье, да, на здоровье. Так поверят, поймут. В общем, сам, голубчик, сам.
– Понял, профессор.
Для Яна последнее поручение не составляло особого труда, ибо он действительно понимал, что именно профессор вкладывает в понятие «важные дела».
День обещал быть тяжелым в плане внешних коммуникаций. Еще бы, ведь профессор отменил половину подтвержденных им ранее мероприятий, среди которых были и встречи с влиятельнейшими политическими особами, фамилии которых регулярно мелькают в средствах массовой информации. По пути в свой кабинет, пусть и соседствующий с кабинетом профессора, но до которого нужно было топать и топать ввиду замысловатого архитектурного решения сделать коридор длиннющей буквой «П», он обдумывал, с кого начать и как лучше провернуть все это дело с отменами без лишней нервотрепки. Отменить – лишь полдела, вторая половина – стойко выслушивать просьбы, жалобы, уговоры, а порой и угрозы на том конце провода и, главное, отбивать любой ценой попытки «поговорить с господином Кельда напрямую». Как верный сторожевой пес, Ян ревностно оберегал спокойствие своего руководителя, что, собственно, и было частью его работы, до профессора такие организационные передряги не должны были доходить. «Ничто не должно отвлекать Магнуса Кельда от поистине важных дел!» – таков был девиз Яна Агния. Впрочем, в последнее время отмены и отказы удавались легче, не без удовольствия отмечал он, и негодовали уже немногие: похоже, начали-таки принимать во внимание возраст человека.
Взор упал на жирно обведенное профессором мероприятие на донельзя исчерченном листе. Сегодня же нужно связаться с госпожой фон Армгард и передать пожелание профессора участвовать в конференции в ином формате, нежели было ею предложено. Собирался с духом. Он свяжется, разумеется, с Юсуфом – ее ассистентом, но бывало, что фон Армгард сама следом перезванивала за уточнениями или объяснениями, и тогда Ян безнадежно терялся, лихорадочно бормоча что-то в ответ. Женщина была крайне вежлива в общении, но спокойный и одновременно властный голос чиновницы попросту сковывал его. Бедняга пробовал даже заранее отрепетировать ответ на случай звонка – без толку: едва слышал ее голос, все забывал. А при личной встрече и того хуже. Дважды ему выпадало сопровождать профессора на мероприятия, где была фон Армгард, так он в ее присутствии, казалось, дышать забывал. В первый раз Магнус даже подумал, что тому откровенно нездоровится. К тому же Ян не особо жаловал эту особу, что добавляло порцию нервозности в его поведение; недолюбливал, однако, не по какой-то конкретной причине, а просто потому, что профессору та была не по душе. Он был настолько интегрирован в профессиональную жизнь своего руководителя, в том числе эмоционально, что любовь или нелюбовь профессора к тому или иному человеку невольно передавалась и ему. Да и фон Армгард не помогала делу: она, как казалось Яну, отвечала профессору «взаимностью», пусть и неизменно выказывала последнему должное почтение. Сам профессор иллюзий на этот счет не питал, обронив однажды Яну, что фон Армгард его на дух не переносит, и сказал он это не без гордости. В разговорах с помощником Магнус нередко называл ее бестией, причем в устах профессора это могло быть и ругательством, и выражением подлинного восхищения, в зависимости от контекста. Пусть и недолюбливал профессор бестию, но уважал безмерно. Симону Китри фон Армгард невозможно было не уважать. Не-воз-мож-но.
В итоге решил не откладывать и начать именно с фон Армгард. «Нечего оттягивать или готовиться, – рассудил Ян, – все равно она уже балбесом меня считает, так что не страшно. К тому же этот вопрос в приоритете для профессора. Да, вот это – важное дело».
Родимое пятно
Вернувшись домой после отпуска, Айгуль чувствовала себя отдохнувшей и была полна сил. Они ей были нужны, так как ближайшие месяцы на работе обещали быть напряженными.
Она работала в департаменте социальной интеграции казахского министерства социального развития, в компетенцию которого, помимо прочего, входили вопросы национальных и сексуальных меньшинств, социально изолированных групп и гендерная тематика. Ей был вверен пилотный проект по так называемой активной гендерной корректировке, целью которой было массовое вовлечение представителей мужского пола в политическую жизнь страны, куда те не особо стремились. Предрассудки были сильны: власть и политика испокон веков считались епархией женщин. Пришедшее к власти либеральное правительство, пристыженное отсталостью страны в этом вопросе, барахтающейся в середине второй сотни стран по гендерному равноправию, было настроено весьма решительно в изменении ситуации.
Одной из главных инициатив, рассматриваемых рабочей группой, возглавляемой госпожой Турсынай, было внедрение гарантированной квоты мужчинам на занятие мест в законодательных органах, абсолютное большинство в которых исторически занимали женщины. Во многих странах данная мера была в той или иной форме использована и доказала свою состоятельность: пусть не сразу, но она побудила-таки мужчин со временем выдвигать свои кандидатуры и быть в целом более активными на политической арене. Банальная агитация и информационная работа по призыву мужчин, используемые на протяжении последних лет, не дали желаемых результатов. Мужское население по-прежнему сторонилось политики, как чего-то чуждого и недосягаемого, обделяя вниманием и науку с искусством, по старинке повально подаваясь в более «приземленные» профессии. Так уж сложилось.
Айгуль не сразу оказалась здесь. Путь сюда был тернист, мечты были другие.
С юных лет обнаружив в себе склонность и интерес к гуманитарным наукам, после школы она пошла получать юридическое образование. В университете ее заинтересовала сфера защиты публичных интересов, а именно служба государственного обвинения, где она и отучилась. По получении диплома ей без труда удалось устроиться на работу по своей специальности, но проработала она там недолго. Все шло хорошо, карьера обещала быть и обещала не заставить себя долго ждать. Айгуль была уверена, что оказалась на своем месте, отчего трудовые будни, какими бы сложными они ни были, не были в тягость, наоборот, доставляли ей немалое удовлетворение. Однако профессиональной идиллии вскоре пришел конец. Скалой, о которую разбился шедший на всех парусах корабль «Айгуль – будущая прокурорша», стало одно уголовное дело, поставившее крест на прокурорской стезе.
Оглядываясь нынче назад, Айгуль рассудила, что именно то дело послужило своего рода отправной точкой – поворотом, приведшим ее туда, где она была сейчас. И по прошествии многих лет воспоминания о тех событиях угнетали ее.
С отличием окончив юридический факультет по специальности «правосудие», она успешно прошла конкурс в департамент защиты государственных интересов и публичного порядка. Будучи младшей сотрудницей, молодая Айгуль бóльшую часть времени, как и подобает начинающим, работала с архивами в отделе кодификации. Далее последовал перевод в интересовавший ее отдел государственного обвинения на должность ассистентки. Однажды экстренно подменив приболевшую помощницу государственной обвинительницы Акмарал Гульден и проявив в том деле небывалое усердие и пытливость ума, она, по ходатайству самой госпожи Гульден, была принята на младшую должность государственного обвинения. Профессиональное рвение вкупе со здоровыми амбициями не осталось незамеченным, ей кулуарно пророчили быстрое продвижение по карьерной лестнице; впрочем, она и сама это чувствовала. Проработав чуть больше года на этой должности, она так набила руку, что уже самостоятельно от а до я готовила дела государственного обвинения, причем столь скрупулезно, что порой прокуроршам попросту нечего было добавить в полученные от нее материалы. Дошло до того, что прокурорши охотились за Айгуль, желая заполучить «звездочку» в помощницы по своим делам, используя для этого все приемы бюрократической машины; но Айгуль об этом не знала. Лично ей было интересно работать у все той же госпожи Гульден, дела которой отличались эдакой «взрывоопасностью», так как маститой прокурорше неизменно поручали дела крайней сложности или скандальности, вызывавшие повышенный интерес общественности и, как следствие, средств массовой информации.
Одним из таких было дело об изнасиловании гражданки Анели Нагима. На скамье подсудимых был гражданин Серик Махаббат.
Данное дело, как и любое дело об изнасиловании, вызвало немалый резонанс в городе. Грабежи, кражи, разного рода мошенничества и прочие преступления, включая убийства, случались нередко, но не изнасилования. Это преступление считалось особенно омерзительным, и помимо общего негодования, порождаемого любым преступлением, вызывало еще и глубокое презрение к насильнику, осмелившемуся осквернить женщину. Причем для абсолютного большинства было совсем не важно, какой именно вид насилия имел место над женщиной, будь то совокупление с женщиной против ее воли с применением физической силы (самая тяжкая форма данного преступления), или сношение с женщиной, находившейся в состоянии алкогольного (или иного) опьянения, пусть и с ее согласия, но когда уровень опьянения настолько высок, что ставит под сомнение самую способность дать осознанное согласие, или совокупление без презерватива, когда женщина полагала, что он используется, или же половой акт, начатый с согласия женщины, но продолжившийся вопреки возникшему желанию прервать его, пусть хоть и в самую последнюю секунду. И это лишь некоторые вариации данного состава преступления, и все это считалось изнасилованием в контексте уголовного права. И если юридически подкованные люди понимали, что в этом смысле насильник насильнику рознь, то простой люд клеймил всех одинаково.
И почти ни одно такое дело не обходилось без пристального внимания средств массовой информации и радикально настроенных консервативных политических партий, члены которых кружили в судах в большом количестве, неотрывно наблюдая за ходом судебного процесса, оказывая таким образом давление на судей. Консерваторши не упускали возможность использовать такие дела и в политических целях. Озабоченные либеральными веяниями в политике и все чаще сталкиваясь с вопросом о необходимости вовлечения мужчин в управление государством – «Что за бред!» – те нещадно эксплуатировали дела об изнасилованиях в публичном медиапространстве. Ходили и всюду трубили об изнасилованиях как наглядном доказательстве мужской «душевной темноты», «природной кровожадности», «склонности к насилию», «варварской вспыльчивости», – черты, «совершенно неприемлемые в делах государственных», где требуется рассудительность, благоразумность, хладнокровие, дальновидность, «присущие женской натуре». Во избежание давления и шумихи подобные дела порой рассматривались в закрытых судебных заседаниях.
Подсудимый обвинялся в том, что во время полового акта с гражданкой Нагима, воспользовавшись ее невнимательностью, вызванной легкой степенью алкогольного опьянения, не использовал презерватив. Потерпевшая подтвердила, что секс был по обоюдному согласию и что половых актов было два. И если в первый раз она проследила за тем, чтобы он предохранялся, то во второй раз положилась на партнера, обронив, однако, чтобы он воспользовался противозачаточным средством. Позже женщина обнаружила лишь один использованный презерватив и никаких следов второго. По всему выходило, что у подсудимого в тот вечер был лишь один презерватив, и за неимением второго он, утаив сей факт от партнерши, совершил повторный акт не предохраняясь, «поставив таким образом под угрозу здоровье гражданки Нагима».
Айгуль провела безукоризненную подготовку обвинительного дела, что вкупе с опытом госпожи Гульден и результатами соответствующих экспертиз не оставило шансов адвокатессе подсудимого, разнеся позицию защиты в пух и прах. Впрочем, адвокатессе нужно отдать должное, она до последнего умело защищала подсудимого, используя все «серые зоны» данного дела, делая упор на то, что секс без презерватива был якобы с согласия женщины. Потерпевшая отрицала согласие. Слово женщины против слова мужчины: исход очевиден.
Что до подсудимого, то выступал он мало, выглядел отрешенным, подавленным, сидел, понуро опустив голову. Потерпевшая же, наоборот, сидела с высоко поднятой головой, вела себя уверенно, местами бросая осуждающие взгляды на подсудимого, а когда нужно было описать подробности любовной встречи, делала это спокойно и без заминок, голос женщины был тверд.
Задолго до завершения процесса многие были уверены, что сторона обвинения выиграла дело, и открытым, по их мнению, оставался лишь вопрос меры наказания. Ему грозило до двух лет лишения свободы с выплатой потерпевшей денежной компенсации. Адвокатесса давила на смягчающие вину обстоятельства, пытаясь выбить мягкий приговор, в идеале – условный срок без отбывания подсудимым наказания в местах лишения свободы; похоже, понимала, что это максимум, что она может сделать для своего клиента.

