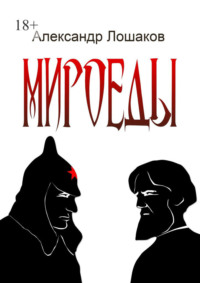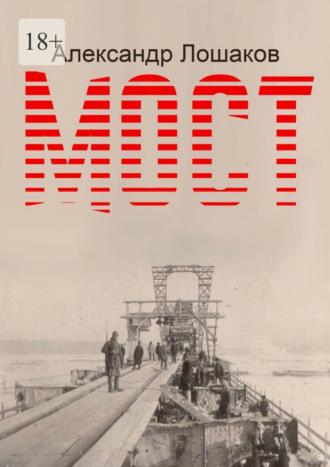
Полная версия
Мост
Задержки в графике строительных работ объяснялись сложным рельефом на участке от Чернушки до Красноуфимска, где железная дорога пересекает северную оконечность Уфимского плато и Сылвенский кряж. Местность изрезана глубокими логами, промытыми в мягких известковых породах. Строительство мостовых переправ через лога велось тяжело.**

Современное фото озера промытого в известковых породах на Уфимском плато.
Именно на устранение сложностей со строительством мостов и была направлена работа Дъяконова: он переезжал с участка на участок, решал большое число инженерных задач. Погружение в работу было глубоким настолько, что иной раз он забывал поесть и выспаться.
Всё это сказалось на его здоровье. Вернулась чахотка.
Все время нахождения на Урале Павел мысленно возвращался к Анастасии. Их расставание в январе шестнадцатого года давало ему повод найти её в Москве, но также он понимал, что просьба о помощи будет свидетельством его слабости.
Время его пребывания в древней столице подходило к концу, и он всё же решился на встречу.
Найти свою знакомую ему удалось не сразу, она была занята на практике по лечению больных, и всё же, проявив определённую настойчивость, он добился своего.
Ближе к вечеру теплого сентябрьского дня Павел увидел девушку. Она была все так же прекрасна, как и в день их первого знакомства. Милая головка, живые глаза, острый, чуть вздёрнутый носик.
– Анастасия, – окликнул Павел свою знакомую.
Та, услышав, что её зовут, остановилась и обернулась к нему. Девушка сразу узнала Дьяконова и обратилась к нему по имени.
– Павел, это Вы?
– Я, – несмело ответил инженер.
– Рада, что Вы нашлись, хотела уже сама вас искать, – заинтересованно произнесла Анастасия.
– Вот как? – настало время удивиться Павлу. – Я думал, вы про меня забыли сразу после моего ухода.
– Нет, я Вас не забыла, как видите, – улыбнулась девушка, – как ваше самочувствие?
– Честно, неважно, болезнь снова обострилась, – откровенно посетовал Дьяконов.
– Это плохо, – задумчиво ответила молодой медик, -надо постараться Вам помочь.
– Кажется, что мне нельзя помочь, болезнь моя не лечится, – с грустью ответил инженер.
– Тут Вы ошибаетесь, – возразила девушка, – конечно, сейчас нет средств для полного её излечения, однако, науке сегодня известно, что является причиной возникновения туберкулёза, и мы точно понимаем, что нельзя делать при этой болезни и как замедлить её развитие.
– Вы имеете в виду исследования профессора Шнауберта по Коховской Лимфе?8 – проявил неожиданную осведомленность Павел.
– Нет, я имею в виду последние исследования Гона9, – парировала Анастасия.
– Но этот австриец не предлагает действенной методики лечения, – продолжал спорить инженер.
– Он предложил методику определить самим врачам, и этим мы занимаемся.
– Мы, это кто? – не успокаивался Дьяконов.
– Мы – это группа, в которой я работаю, – снова невозмутимо ответила Бужелева.
– И что предлагает ваша группа?
– Лечение, дорогой Павел Иванович, – улыбнулась молодой врач.
– Лечение – это хорошо и даже отлично, но оно, как я понимаю, требует времени, а у меня его нет, мне нужно строить мосты, – ответил инженер.
– Сколько Вы ещё будете в Москве? – всё так же заинтересованно, как и во время первой встречи, уточнила Анастасия.
– От силы неделю, – произнес разочарованно Павел.
– Этого, конечно, мало, но кое что можно сделать, – бодро начала строить планы девушка.
– Приходите завтра сюда к восьми утра. Мы кое-что придумаем, а сейчас, простите, мне нужно идти, – решительным тоном заявила Анастасия и быстро удалилась в сторону небольшого городского парка.
Дьяконов остался стоять около Орловской лечебницы, погружённый в раздумье.
Он понимал, что неделя – это тот срок, за который никаким чудесным образом ему не поправить здоровье, но с другой стороны неожиданная встреча с молодой энергичной девушкой, о которой он постоянно думал, вселяла надежду, и он решил испросить у начальства небольшой отпуск для лечения.
Всё сложилось как нельзя лучше, в правлении ему пошли навстречу и дали на поправку здоровья целый месяц.
Это время он целиком посвятил восстановлению здоровья. Каждый день под руководством молодого врача он проходил процедуры по методике профессора Остроумова10.
Ещё более целебными оказались совместные с Анастасией прогулки по осенней Москве.
Во время этих прогулок говорили о многом: о политическом устройстве в России, о войне, о справедливости.
Павел рассказывал о своей жизни, иногда читал девушке любимые стихи. Во время одной из прогулок он решился прочесть ей «Стих о Москве» Марины Цветаевой:
«По улицам оставленной МосквыПоеду – я, и побредете – вы.И не один дорогою отстанет,И первый ком о крышку гроба грянет, —И наконец-то будет разрешенСебялюбивый, одинокий сон».
Москва лето 1916 года
Анастасия неожиданно ответила:
«Москва! Какой огромныйСтранноприимный дом!Всяк на Руси – бездомный.Мы все к тебе придем».– Вы тоже любите творчество Марины? – спросил инженер.
– Мне трудно её не любить, ведь мы даже лично с ней знакомы, – ответила Бужелева и тут же задала вопрос:
– Павел, у вас нет ощущения, что очень скоро в России всё изменится?
– Это ощущение у меня давно, – искренне ответил Дьяконов.
– Тогда я спрошу Вас более открыто. Вы из семьи священника, но в наших разговорах о религии высказывались нечасто, а если и говорили, то весьма нейтрально. Вы в Бога верите? – девушка задала этот вопрос и пристально взглянула в глаза своему спутнику.
– Для меня это очень сложно, – после паузы ответил Павел.
– Отчего же? – удивилась Анастасия, – тут нет ничего сложного – либо да, либо нет.
– В своё время я ушёл из семьи со скандалом. Меня осудили мой отец и мой дед. Причина тому – нежелание продолжать их дело, отказ учиться в духовной семинарии.
Хотелось созидать конструкции, решать сложные математические задачи, и у меня это получалось. Наконец, в стремлении обрести единомышленников. Я узнал много новых интересных людей, они верили больше не в Бога, а в науку, хотя атеистами не являлись. Многое и я пересмотрел в своих взглядах на устройство мира.
– И к чему же Вы пришли? – очень серьёзно спросила Бужелева.
– К тому, что вера в Бога не гарантирует справедливости в мире, – ответил инженер.
– Значит, Вы теперь верите в справедливость? – не унималась девушка.
– Как раз нет, я хочу справедливого мира, но слепой веры в то, что он возможен, у меня нет.
– Я Вас так и не поняла, – Анастасия взяла своего спутника под руку и решила добиться четкого ответа. – Во что Вы всё таки верите?
– По своим убеждениям я больше материалист.
– Вы, очевидно, забыли добавить, что вы ещё и марксист, – с едва уловимой иронией оценила ответ девушка.
– Этот вывод Вы сделали из того, что я читал Вам стихи? – рассмеялся в ответ Павел.
– Нет, этот вывод я сделала из того, что Вы долго жили за границей, не имея право на въезд в Российскую империю, и вернулись домой только после того, как для некоторых участников революционного движения сделали послабления.
– Я так много рассказал о себе? – не скрывая наигранного волнения, ответил Дьяконов.
– Мне тоже хочется вам открыться, – начала Анастасия, не обращая внимания на его иронию, – многое в жизни пришлось пройти и осознать, я даже была арестована.
– Меня арестовали за участие в революционном движении.
– Позвольте, – не смог удержаться Дьяконов, – Вы так молоды, что участвовать где – либо не могли.
– Сколько мне лет по вашему? – ничуть не удивилась несдержанности собеседника Бужелева.
– Двадцать, не более.
– Двадцать три, – уточнила девушка, – арестовали меня в девятнадцать. Слышали вы о Ленских расстрелах?11
Павел молчал, обдумывая, что ответить. Конечно, он был знаком с событиями на приисках золотопромышленного товарищества «Лензолото». Больше того, находясь за границей, он написал статью, которую тогда приняли не только его наставники – Луначарский и Базаров, – но даже Ленин написал об авторе «Ленских заметок» как о «трезвомыслящем теоретике в рядах Богостроителей»12
Сказать девушке, что он революционер со стажем, тем самым подвергнуть возможной опасности её он не мог. Да в текущем моменте он состоял в РСДРП, а вот кто была она, это оставалось вопросом.
Ответ прозвучал уклончиво:
– Извините меня, смутило Ваше знакомство с Гаабе, мне показалось, что по убеждением он монархист, – наконец ответил инженер.
– Володя мне не жених, я старше его, и интересы у нас разные. Знакомы мы с ним через родителей, его отец и мой папа давно дружны. Когда мы были маленькими, играли вместе. В шутку нас сватали, вот он и решил, что я его суженая.
– А это не так? – с надеждой в голосе уточнил Павел.
– Конечно, не так, -щёки девушки полыхнули румянцем, и она решительно продолжила, – если бы было хоть немного так, я бы не гуляла с Вами целыми вечерами.
Её эмоциональный ответ прозвучал как признание если не в любви, то в симпатии, и Дьяконов решился.
– Простите меня, Анастасия, – он замялся, но, собравшись, продолжил, – Вы мне очень нравитесь….
Возникла пауза, девушка молчала и смотрела в сторону, поэтому он не мог судить о её реакции, но на свой страх и риск продолжил:
– Нет, нравитесь, этого мало, я люблю Вас, и это чувство сжигает меня изнутри, ни одной минуты, секунды я не мыслю своей жизни без Вас.
Анастасия резко повернулась к Павлу и приложила руку к его губам. Тому ничего не оставалась, как только замолчать.
– Дайте мне время осознать свои чувства, – сказала она, – я дам вам ответ позже.
Девушка повернулась и стала быстро удаляться от своего спутника, давая понять, что нуждается в одиночестве.
– Но как же? – закричал ей вслед влюблённый инженер, – мне послезавтра уезжать, как же я узнаю ответ?
– Позже, – крикнула Бужелева, быстро исчезая в тени одетого в желтый осенний наряд клёна.
На следующий день расстроенный Павел Иванович собирался в дорогу. У него оставалось ещё одно важное дело. По линии революционной работы ему следовало встретиться с московскими товарищами, для этого он отправился на адрес явочной квартиры.
Пройдя для страховки дворами и проверив, нет ли за ним слежки, он вышел к небольшому дому недалеко от Всехсвятской рощи (Сокольники).
Там его ждали знакомые по подпольной работе товарищи. Войдя в дом, сняв верхнюю одежду, Дьяконов присел к столу.
Его собеседником был московский революционер Гуревич (Борисов):
– Паша, – начал он, – мы накануне больших событий, в правительстве назревает кризис, в Думе идет грызня. Ленин в своём обращении к большевикам оценивает обстановку как «архисложную». Мы должны усилить агитацию. У нас мало сторонников, многие записываются в эсеры, нам надо, чтобы на Урале было на кого опереться.
– Я понимаю, товарищ Гуревич, но Вы и меня поймите, на строительстве дороги мало пролетариата, в основном работают необразованные крестьяне, к тому же много стало пленных австрийцев, немцев, венгров.
– Нам это на руку, надо начать работу среди них.
– Как же? – не скрыл своего изумления Павел.
– Среди пленных много недовольных войной, на этом и следует сыграть, – продолжил инструктаж опытный большевик.
– Я, немецкого, венгерского языка не знаю и потом, хорошо ли это в наши дела привлекать иностранцев? – отрицательно замотал головой инженер.
– Мы интернационалисты, нам нужна не просто революция, нам нужна мировая революция, не зря же создавался Интернационал.
– Тут я как раз не очень согласен, – снова возразил Дьяконов, – напомню, я не большевик. Да член РСДРП, но не большевик.
– Павел, – продолжал настаивать Гуревич, – подумай сам, ты столько сделал для общего дела, столько пострадал от власти, ты просто не можешь не быть большевиком.
– И всё же, я не большевик. -Что надо, помогу, но агитировать австрийцев не буду.
– Хорошо, – согласился московский подпольщик, – не агитируй, но помоги нашим товарищам внедриться на строительство.
– Помогу, – немного поразмыслив, ответил Павел Иванович, – кому помогать?
– Прежде всего, как вернёшься, найди машиниста Баранова Григория Алексеевича. Надо его приблизить к себе и дать возможность свободно перемещаться на всех участках строительства.
– Хорошо, – согласился инженер.
– Ну, а другое дело немного сложнее, – заговорщически продолжил ставить задачу Гуревич, – у пленных австрийцев при каждом их лагере есть небольшая больничка. Надо устроить в их врачебную часть нашего человека, пусть она и занимается агитацией.
– Она? – снова изумился Павел.
– Да она, – весело ответил революционер, – не беспокойся, проверенный человек, надежный, я Вас сейчас познакомлю.
– Анастасия, – позвал Гуревич.
В комнату вошла Бужелева. Дьяконов от неожиданности привстал, но потом обессиленно сел на место.
– Знакомьтесь, – радостно произнёс большевик.
Однако, увидев реакцию молодых людей друг на друга, сам изумился.
– Вы знакомы? – произнёс он.
– Да, – ответила Настя и, обращаясь к Павлу, сказала:
– Паша, я тоже люблю тебя, и если ты не против, то поеду на Урал, не просто как товарищ по партии, а как твоя жена.
Понимая, какой эффект произвели её слова, она, смутившись, добавила:
– Выглядит всё довольно странно, но так, наверное, будет лучше, если из моих уст прозвучит предложение о нашем союзе.
Смущенный услышанным инженер молчал, не менее удивлённый молчал и большевик. Наконец, счастливый Павел обрёл дар речи:
– Я не мог и мечтать, что всё так счастливо сложится.
– Ну, вот и ладно, – наконец пришёл в себя и Гуревич, – значит, будет у нас отличная большевистская семья. Совет Вам, как говорится, да любовь. На том и порешим.
Сказав это, московский революционер осознал, что он третий лишний и поспешил удалиться из комнаты.
Счастливые влюблённые долго сидели рядом, не говоря ни слова. Впереди их ждало счастье, так думали они.
Глава 4
конец февраля 1917 года
четвертый участок строительства
железной дороги Казань – Екатеринбург.
ст. Куеда
Павел Дьяконов обрёл в лице Баранова очень надёжного и грамотного помощника.
Прибыв с молодой женой в Екатеринбург в декабре шестнадцатого года, он направился в контору участковых агентов по строительству железной дороги, где ему подсказали, как найти нужного специалиста. Их первая встреча состоялась на станции Куеда, где Павлу Ивановичу предстояло потрудиться над строительством временных переходов и мостов через лога между станциями Куеда и Чернушка.
Начальником участка был Евгений Николаевич Лавров, а участковый инспектор – Федор Иванович Сергеев. Оба были хорошо знакомы инженеру, поэтому, когда они узнали, что в помощники Дьяконову нужен именно Баранов, то заметно расстроились.

Четвертый участок строительства Казанбургской железной
дороги.
Оказалось, что Григорий Алексеевич слыл чуть ли не местной легендой, как грамотный и толковый машинист он часто выручал всю стройку. Однако, спорить с представителем инженерной службы правления Акционерного общества, коим теперь являлся Павел Иванович, не стали.
Баранов оказался подвижным, полным энергии человеком в возрасте около сорока лет. Черты лица его были резкими, но правильными, волосы русые, глаза серые, лицо вытянутое, но в меру.
Одевался он немного странно. На голове носил высокую, почти полковничью папаху с гербом железнодорожника.
Такой головной убор делал его похожим на генерала, за глаза его так и звали: «Жора-генерал». Ещё более странным был полушубок белого цвета, который он подпоясывал широким кожаным ремнём. Странен был, конечно, не полушубок сам по себе, а цвет, при работе машиниста, где кругом пыль и грязь, белое смотрелось вызывающе.
– Жора, – представился он Дьяконову при первом знакомстве.
– Паша, – в тон ему ответил инженер.
Так и началась их совместная работа. Несмотря на то, что Баранов был ярым большевиком, начальство об этом не догадывалось, свои убеждения он умело скрывал, и Павел Иванович быстро оценил правильную конспирацию.
По характеру харизматичный и даже задиристый в житейских вопросах, Григорий Алексеевич был сдержан, часто проявлял осторожность, что только укрепляло его авторитет среди простых рабочих.
В профессии машиниста ему, действительно, равных не было, он отлично знал все паровозы, которые использовались в строительстве и умело работал с ними, а главное, он был рассчётлив и внимателен, на стройке это было очень ценно.
В конце февраля потребовалось переехать со станции Куеда на станцию Чернушка. Для чего решено передвигаться на маневровом паровозе финского производства Vr1.
Как он появился на Казанбургской железной дороге – история загадочная. Великое княжество Финское, несмотря на то, что являлось частью Российской империи, такие паровозы в центральную Россию не поставляло, не говоря уж про Урал.
Поговаривали, что «маневровый» реквизировали для фронта случайно из подвижного состава финнов, когда те перегнали его в Петербург ещё до начала войны.
Осознав ошибку, продали акционерному обществу Московско-Казанской железной дороги, с условием загнать его, куда подальше, с глаз долой. Скорее всего, испугались исков от владельцев и осложнений с финским правительством, решив спрятать паровоз за Уралом.
Доставляли «реквизированного»13 по рекам. Вначале до Сарапула, потом по построенным участкам дороги, дотащили в Куеду, где как выяснилось, что управляться с ним никто не умел.
Локомотив новый, четырнадцатого года. Производитель финская компания Suomen Valtion Rautatiet (VR). Инструкций к нему не было.

Финский тяжёлый маневровый паровоз Vr1 компании Suomen Valtion Rautatiet (VR) Произведён 1914 году. экспонатом финского музея стал в 2000 годах.14
Освоить финскую технику взялся Баранов, и ему это удалось.
Так машинист обзавёлся «персональным» паровозом.
Дьяконову в его работе приходилось много перемещаться, «маневровый» оказался кстати.
Использовать паровоз как личный авто, конечно, нельзя, поэтому просто так никогда не выезжали. Всегда брали грузы для дороги или развозили артели рабочих. В этот раз решили перегнать платформу гружённую рельсами и шпалами, за Чернушку на участок «Казарм 1314», там пленные австрийцы укладывали железнодорожное полотно. Погрузка заняла пол- дня, выезжать решили утром 23 февраля.
Рано поднялись и обнаружили, что всю ночь шёл сильный снег, температура поднялась до нуля. Оттепель. Такое на Урале случалось и не раз, поэтому никто сильно не удивился.
Только Баранов, выйдя на улицу, с тревогой поднял с земли мокрый снег и принялся его разглядывать.
– Что за сомнения, Григорий Алексеевич? Снег белый, небо тёмное, всё как и должно быть зимой, – решил пошутить Павел.
Но машинист ничего не ответил, только позвал своего помощника Мишку – «Шляпника».
«Шляпник» – это было прозвище молодого весёлого паренька, работающего в бригаде Баранова, получил он его за то, что к месту и не к месту повторял поговорку «дело в шляпе».
– Миша, платформу будем толкать впереди себя, потому смотри там, со сцепкой не намудри, – распорядился Жора-генерал.
– Сделаем, Григорий Ляксеевич, «дело будет в шляпе», – сказал своё обычное Мишка и принялся выполнять распоряжение начальства.
Павлу такое решение машиниста показалось странным, и он спросил:
– Алексеич, тянуть разве не лучше, чем толкать?
– Если пути повело и возможен сход с рельсов, то пусть вначале платформа свалится, – не очень охотно ответил Баранов.
Действительно, оттепель могла привести к подвижкам почвы и плохо уложенные участки рельсов разошлись в стыках, тогда вероятность выскочить из зацепления вполне реальна.
Когда все работы были закончены тронулись в путь. Ехали очень медленно, не спеша. Снег усиливался.
На подъезде к Осиновой горе машинист добавил хода, подъем нужно было преодолеть не останавливаясь, «внатяг», чтобы избежать пробуксовок на мокром и скользком пути.
– Мишка, давай, дуй на платформу. Смотри в оба, перед мостом особливо. В горку зачнём подниматься, будка рабочего там. Ежели с мостом что не так, он сигнал должен подать. Тады кричи, маши руками, если тормозить требуется.
– Иваныч, – обратился он уже к инженеру, – встань на механический тормоз. Ежели скажу, «крути ручку на себя», закручивай, да смотри бодро крути, как бы тут нам в лог не свалиться.
Между тем метель разыгралась не на шутку, Платформу, а вместе с тем и Мишку, видно почти не было.
Баранов начал давать гудки, чтобы рабочие у моста, если они там были, знали, что идёт состав. Маневровый хорошо разогнался, спускаясь к логу, перекрытому временным деревянным мостом. Мимо окна паровоза промелькнула сторожевая будка с дежурившим там рабочим, который, насколько удалось разглядеть, мирно спал на своём посту.
– Чёрт, его дери, – выругался машинист и, высунувшись в окно, со всего горла заорал, – Миша, что там видать!!!!
– Тормози, мост обвалился, – проорал в ответ «Шляпник» и кинулся к паровозу.
– Вертай ручку, Паша, нето гробанёмся! – закричал Жора-генерал.
Разглядеть, в какую секунду платформа нырнула в черный провал лога, Павел Иванович, конечно, не мог. Он только услышал скрежет тормозов и грохот металла.
Это потом он узнал, что помощник машиниста успел снять нехитрую сцепку, освободив паровоз от платформы, и перепрыгнуть на локомотив.
Баранов же остановил паровую машину буквально в нескольких метрах от обвала и спас всех своих товарищей.
От напряжения пережитого все трое молчали, наконец, машинист сказал:
– Надо отъехать до будки и ждать, пока посветает. Глянем тогда, что да как. Заодно морду набьём этому горе-дежурному.
Паровоз снова ожил и потихоньку, задним ходом, стал отъезжать от места аварии. Наконец, достигнув сторожевого поста, остановился. Однако никакого дежурного там не было, только следы ног на свежевыпавшем снегу уводили взгляд в тайгу.
– Убёг, – разочарованно сказал Мишка, но тут же поправился, – счас я его вытащу на свет божий.
Схватив лопату, он спрыгнул с маневрового и кинулся преследовать беглеца. Примерно минут через двадцать он уже волок за шиворот несчастного.
– Кто таков? – строго спросил рабочего Жора-генерал.
– Иван Зырянов, я из артели Федора Белобородько.
– Откель ты родом, Ваня? – продолжал допрос машинист.
– Зачем вам знать, откель я? – с подозрением к вопросу, отнёсся мужик.
– Весточку пошлём родным твоим и близким, как героически погиб рабочий Ивашка.
– Бить будете? – просто спросил Зырянов.
– Ещё как будем, – поддержал начальника Мишка, – ты же, скотина пьяная, нас чуть не загубил.
– Так он ещё и пьяный что ли? – уточнил Григорий Алексеевич.
– Перегаром прёт за версту от сукина сына, – горячился Шляпник.
– Змерз, вот и выпимши был. Крестьянин я, из деревни Волковская, Каменский уезд. Детки у меня малые. Голодно нам, вот и подался на заработки. Не убивайте, господа-начальники, – взмолился пьяница, стремясь вызвать жалость к себе, но вызвал лишь отвращение. Мишка не стерпел и начал лупить черенком лопаты Зырянова по спине. Тот завыл. За него вступился Павел Иванович:
– Миша, оставь этого негодяя, а то, неровен час, преставится. Отдадим на суд его товарищам, они пусть решают, как наказать, а нам надо посмотреть что с мостом и грузом.
На том и порешили. Увидеть, что же случилось в логу, было сейчас важнее. Пешком отправились туда, где потеряли платформу. Пока дошли, стало совсем светло, снег прекратился, чувствовалось, что начал крепчать мороз.
Картина аварии прояснилась. При оттепели с одной стенки лога сошла шапка снега. Она усилила давление на деревянную опору временного моста и подкосила её. Рельсы разошлись, при этом полотно моста увело в сторону и наклонило, получилось, что оно как бы пошло небольшим винтом.