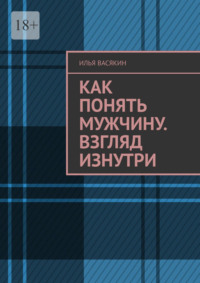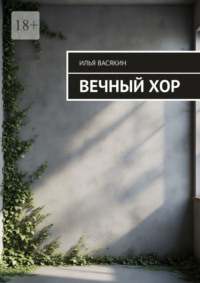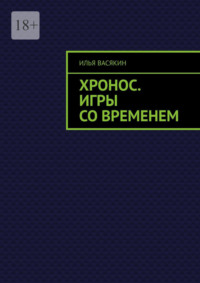Полная версия
Кровь вместо румян
Холод. Он проникал сквозь тонкую ткань пальто, впивался иглами в кожу, заполнял легкие влажным, промозглым туманом, поднимавшимся от черной воды канала. Оливия стояла на скользком, грязном берегу, в зловещей полутени под мостом Старого Порта. Воздух был густым от запаха гниющей древесины, мазута, тины и… чего-то еще. Чего-то сладковато-приторного, неестественного. Запах смерти.
Ее привез сюда Вольф. Вернее, его водитель. Директор театра появился в ее гримерке через полчаса после того злополучного звонка. Без эмоций, как автомат, сообщил: «Полиция подтвердила. Велански. Канал. Тебе нужно быть там. Как партнеру. Для протокола.» Не спрашивал. Приказывал. Она не сопротивлялась. Оцепенение, наступившее после слов Лены, все еще держало ее в ледяных тисках. Она машинально села в длинный лимузин Вольфа, который несся по мокрым улицам к порту, как катафалк.
Теперь она стояла за желто-черной лентой полицейского оцепления. Синие мигалки машин бросали судорожные блики на мокрые камни набережной, на лица мрачных полицейских, на фигуры людей в белых комбинезонах. Сцена была освещена тускло, как дешевая театральная подделка под ночь. Центром этого адского спектакля было оно. Тело. Завернутое в грязный брезент, но нога в мокром, некогда дорогом, а теперь безнадежно испорченном туфле вывалилась наружу. И рука. Бледная, восковая, с синеватыми ногтями, безвольно лежащая в грязи.
Оливия не хотела смотреть. Но не могла оторваться. Ее взгляд, остекленевший, притягивался к этому месту с мазохистским ужасом. Один из людей в комбинезоне осторожно отогнул край брезента у головы. Вспышка фотокамеры ослепила на мгновение, выхватив из полумрака лицо.
Марк.
Но не Марк, которого она знала. Не красивый, одухотворенный юноша с живым блеском в глазах. Это была маска. Бледная, как мрамор, с синевой под глазами и в уголках губ. Волосы, его светлые, чуть вьющиеся волосы, были темными, слипшимися от тины и воды, прилипли ко лбу и вискам. Глаза закрыты. Веки казались неестественно тяжелыми. На щеке – ссадина, заполненная грязью. Из полуоткрытого рта сочилась темная жидкость, смешиваясь с илом на берегу.
Шок. Он ударил Оливию с физической силой. Ее сердце сжалось, потом бешено заколотилось, пытаясь вырваться из грудной клетки. Воздух перехватило. Она судорожно вдохнула, и этот вдох принес с собой не только холод, но и тот сладковато-гнилостный запах, исходящий от завернутого тела. Тошнота подкатила волной, горьким комом к горлу. Она зажала рот ладонью, чувствуя, как дрожь сотрясает все ее тело. Нет. Нет. Нет. Мысль билась, как птица о стекло. Не может быть. Не он. Не так.
В глазах поплыли черные пятна. Она зажмурилась, но образ бледного лица в грязи стоял перед ней ярче, чем при вспышке камеры. Вина. Она накатила следом, тяжелая, удушающая, как черная вода канала. Ее расписка. Ее поручительство, которое втянуло его в долговую кабалу Вольфу. Ее холодность в последнее время, ее отстраненность, потому что он напоминал ей о ее собственной уязвимости, о той слабости, что заставила когда-то подписать ту бумагу. Она могла помочь больше? Могла защитить? Не дать ему уйти вчера вечером? Шепот: «Долго ли продлится ее век?» теперь звучал как приговор, приведенный в исполнение над ним. Первым.
– Мисс Стерн? – Голос рядом заставил ее вздрогнуть. Она открыла глаза. Перед ней стоял детектив в помятом плаще, лицо усталое, с глубокими морщинами. Он держал в руке прозрачный пластиковый пакет с каким-то предметом внутри. – Оливия Стерн? Вы были его партнером по сцене, верно?
Она кивнула, не в силах говорить. Горло сжал спазм.
– Ужасное дело, – пробормотал он без особого сочувствия. Профессионально. – При нем почти ничего не было. Ключи, мелочь в кармане… И вот это. – Он поднял пакет поближе. – В нагрудном кармане пиджака. Видимо, берег.
В пакете лежала газетная вырезка. Смятая, промокшая, края расползлись, но текст и фотография были узнаваемы. Фотография ее. Оливии Стерн. А рядом – заголовок рецензии на прошлогодний спектакль с участием молодых солистов. Ее рецензия. Она писала их иногда, по просьбе редактора культурного отдела – резко, талантливо, беспощадно.
Детектив прочел вслух, его голос резал промозглый воздух, как тупой нож:
– «Марк Велански обладает приятным тембром и несомненным потенциалом, однако его исполнение партии графа Альмавивы страдает от недостатка глубины и технической выверенности. На данный момент это талант, явно не доросший до главных партий большой сцены.»
Он закончил чтение. Взгляд его был тяжелым, оценивающим. Не обвиняющим, но… понимающим.
Ужас. Настоящий, леденящий душу ужас обрушился на Оливию. Она почувствовала, как земля уходит из-под ног по-настоящему. Ее опрокинуло этой волной. Ее слова. Ее слова. Критические, резкие, написанные когда-то из лучших побуждений (или из чувства превосходства?), чтобы «подстегнуть», «заставить расти». Он сохранил их. Носил с собой. В нагрудном кармане. У сердца.
«Талант, не доросший до главных партий…»
Эти слова теперь звенели в ее ушах громче полицейских радиостанций. Они обрели чудовищный, невыносимый вес. Он хранил их. Как напоминание? Как укор? Как мотивацию? Или… как свидетельство ее вины? Вины в том, что она сломала его веру в себя? Что ее холодная оценка стала последней каплей в море его бед – долгов, давления Вольфа, отчаяния? Могли ли ее слова подтолкнуть его к темной воде канала?
Вина стала физической. Огромным камнем, придавившим ее к грязной земле. Она сглотнула ком в горле, но он не проходил. Слезы, горячие и предательские, навернулись на глаза, застилая вид мертвого лица Марка и смятой вырезки в пакете. Она отчаянно моргнула, пытаясь их сдержать. Слабость. Смерть здесь. Но как сдержать это? Как дышать?
– Вы… вы узнаете эти слова, мисс Стерн? – спросил детектив, все еще держа пакет перед ее лицом, как обвинение.
Она кивнула снова. Едва заметно. Голос не слушался. Все внутри кричало. Кричало от ужаса, от боли, от осознания чудовищной силы слов, которые могут ранить глубже ножа, убить вернее пули. Она писала их так легко, с высоты своего положения. А он… он унес их с собой в могилу.
Детектив что-то еще говорил – о том, что это не обязательно что-то значит, что люди хранят разные вещи, что расследование только начато. Но его слова тонули в гуле крови в ее ушах, в шепоте вины, в крике ужаса внутри нее самой. Она видела только бледное лицо в грязи и смятые газетные строчки, написанные ее рукой.
Она не выдержала. Резко отвернулась от детектива, от тела под брезентом, от этого кошмарного пакета. Ее взгляд, затуманенный слезами, которые она все же не выпустила, метнулся по набережной, ища спасения, точку опоры, глоток воздуха, не пропитанный смертью.
И увидела его.
Людвиг Вольф. Он стоял вдалеке, у перил набережной, выше по течению, вне зоны оцепления. Не в своем длинном лимузине. Один. Закутанный в темное дорогое пальто с поднятым воротником. Его руки были глубоко в карманах. Он не двигался. Просто наблюдал. Его лицо, освещенное тусклым желтым светом уличного фонаря, было абсолютно каменным. Ни тени шока, печали, удивления. Ничего. Только тяжелая, непроницаемая маска. Его маленькие черные глаза были устремлены не на тело в грязи, а прямо на нее. На Оливию Стерн, стоящую в эпицентре кошмара.
И в этом взгляде, холодном и всевидящем, как взгляд хищной птицы, было знание. Абсолютное, безоговорочное знание. Знание о долгах Марка. Знание о расписке с ее подписью, которую она украла. Знание о том, что случилось прошлой ночью. Знание о том, как тело Марка оказалось в черной воде канала. Знание о ее вине, о ее страхе, о ее панике.
Он знал. Все.
Этот взгляд был страшнее вида мертвого Марка, страшнее ее собственных слов в газетной вырезке. Он был констатацией факта: Игра продолжается. Первая жертва принесена. Она – следующая. И Вольф – не просто наблюдатель. Он – режиссер этой трагедии. И он дал ей понять, что видит ее. Видит насквозь.
Оливия замерла, скованная этим ледяным взглядом через всю набережную, сквозь туман и мигающие синие огни. Вина, ужас, шок – все смешалось в один черный ком. Но где-то в глубине, под этим комом, в ответ на его безмолвный вызов, тлела искра. Искра ярости. Искра того самого холодного рационализма, что спас ее когда-то после роз. Он знал. Значит, он враг. Значит, она должна бороться. Не ради Марка уже. Ради себя.
Но сейчас она могла только стоять. Стоять на промозглом берегу, с лицом, по которому, наконец, скатилась одна-единственная предательская слеза, смешиваясь с холодной влагой тумана. И чувствовать, как взгляд Вольфа, тяжелый и всезнающий, впивается в нее, как шипы в стебель розы. Конец дуэта. Начало войны. И противник обозначил себя.
Дверь гримерки захлопнулась за ней с глухим, окончательным звуком, отсекая промозглый кошмар канала, запах гнили и синих мигалок. Тишина внутри была гулкой, звенящей, как после взрыва. Воздух, пропитанный запахом ее духов и старого дерева, казался вдруг чужим, затхлым. Крепость превратилась в склеп. Склеп для ее последних иллюзий.
Оливия не зажгла свет. Полумрак раннего вечера, пробивавшийся сквозь высокое окно, затянутое пыльной тюлью, был достаточен. Он скрывал дрожь в руках, тени под глазами – следы слез, которые она все же не смогла сдержать до конца там, на набережной, под каменным взглядом Вольфа. Она сбросила мокрое пальто на пол, не глядя. Шаги ее по персидскому ковру были беззвучными, как у призрака.
Она подошла к трюмо. Лампочки по краю зеркала были выключены, и ее отражение тонуло в серых сумерках – бледное пятно лица, темные впадины глаз. Чужое лицо. Лицо женщины, только что видевшей смерть. Смерть того, кого она… что? Пожалела? Использовала? Погубила своими словами?
Рука сама полезла в карман брюк. Пальцы нащупали жесткий, смятый комок бумаги. Расписка. Тот самый листок. Ее подпись под обещанием заплатить за Марка. Ее слабость. Ее рычаг в руках Вольфа. Доказательство связи, которая теперь пахла не долгами, а черной водой канала и гнилью.
Она вытащила его. Бумага была измята ее собственным страхом и недавним сжатием в кулаке на набережной. Она медленно разгладила ее на холодной поверхности трюмо. Строки выступили в полумраке:
«Я, Оливия Стерн, поручаюсь за своевременный возврат Марком Антоновичем Велански суммы в размере 3000 (трех тысяч) долларов США Людвигу Карловичу Вольфу…»
Ее элегантная подпись внизу казалась сейчас нелепой, предательской печатью. Печатью на его смертном приговоре? Или на ее собственной вине?
Рука дрожала. Держала злосчастный листок над бездной раковины, вмонтированной в угол трюмо. Мысли метались, как пойманные в ловушку птицы:
«Сжечь. Сжечь сейчас же. Один взмах руки. Пламя. Дым. Пепел. И связь оборвана. Никаких доказательств. Вольф может кричать что угодно – бумаги нет. Я чиста. Относительно. Моя репутация… Моя безопасность…»
Логично. Холодно. Рационально. Как она поступала после роз. Выживание любой ценой. Уничтожить улику. Защитить себя. Марк мертв. Ему уже все равно.
Но тут же, из самой глубины, из той черной ямы вины и ужаса, что разверзлась на берегу канала, поднялся другой голос. Тихий. Полный невыносимой боли:
«Но это… предать его окончательно? Сжечь последнее, что связывало тебя с ним? Ту ниточку доверия (или глупости?), которая когда-то заставила тебя подписать эту бумагу? Сжечь, как сожгли его тело? Сделать вид, что этой связи никогда не было? Что ты не причастна? Когда его смерть… когда твои слова в его кармане… Когда Вольф… О, Боже, Вольф знал! Знает! Сожги – и ты станешь его соучастницей в сокрытии. Станешь точно такой же, как он. Холодной. Расчетливой. Убийцей памяти.»
Она смотрела на свою подпись. На имя Марка. На цифры. Три тысячи долларов. Цена его свободы тогда? Цена его жизни сейчас? Или цена ее души?
Дрожь усилилась. Листок трепетал в ее пальцах, как живой. Сжечь – и оборвать последнюю нить? Или сохранить – и носить в себе вечное напоминание, вечный рычаг для Вольфа, вечное обвинение?
Внезапно, почти без сознательного решения, ее свободная рука потянулась к изящной серебряной зажигалке, лежавшей среди кистей для грима – подарок какого-то поклонника, никогда не использовавшийся по назначению. Холодный металл обжег пальцы. Большой палец нашел колесико. Щелчок. Первая попытка – колесо проскочило, искра не зажглась. Вторая попытка – резкий, сухой щелчок, и огонь.
Маленькое, дрожащее, сине-желтое пламя вырвалось на свободу. Оно было таким хрупким в полумраке, таким живым. Оно колебалось от ее дыхания, от дрожи руки.
Оливия поднесла уголок расписки к огню. Мгновение колебания – бумага почти коснулась пламени, но не касалась. Она видела, как край бумаги слегка загибается от жара. Чувствовала, как тепло обжигает кончики пальцев, держащих другой конец листа.
«Предать его окончательно?» – эхом прозвучало внутри.
И тогда она сделала это. Резко. Решительно. Как будто перерезая веревку, на которой висела над пропастью.
Она втолкнула уголок бумаги прямо в сердце пламени.
Вспышка. Яркая, но короткая. Огонь с жадным шипением впился в бумагу. Край мгновенно почернел, скрутился, превратился в черный, хрупкий каркас. По бумаге побежала волна огня и тления, пожирая чернила, пожирая слова, пожирая ее подпись, имя Марка, цифры, дату. Огонь пожирал ее колебания. Пожирал слабость прошлого. Пожирал надежду на искупление. Пожирал страх перед Вольфом. Пожирал все, кроме факта. Факта ее вины и его смерти.
Жар ударил в лицо. Дымок, едкий и горький, щипнул глаза. Но она не отводила взгляда. Смотрела, как пламя движется к ее пальцам, сжигая связь, сжигая доказательство, сжигая часть ее самой. Последние сантиметры бумаги, сжимаемые ее пальцами, обуглились. Огонь лизнул кожу – острая, чистая боль. Она вскрикнула, не от боли, а от освобождения и ужаса, и разжала пальцы.
Пепел. Серый, легкий, еще хранящий форму смятого листка, медленно поплыл вниз. Несколько крупных черных хлопьев, еще тлеющих, с искорками внутри. Он падал не на ковер, не на пол. Он падал прямо в белую, холодную чашу раковины.
Оливия смотрела, как последний уголок бумаги догорает у нее в пальцах, превращаясь в пепел, который присоединился к остальным в раковине. Маленькая кучка серой пыли. Все, что осталось от ее слабости, его долга, их опасной связи. Доказательство уничтожено. Связь оборвана. Она сделала выбор. Выбор выжить. Выбор стать каменной.
Она протянула руку к крану. Резко повернула его до упора в сторону синего маркера. Ледяная вода хлынула мощной, шипящей струей. Она ударила по пеплу, смывая его с белой эмали, унося в черную дыру стока. Серые разводы, черные точки тлена – все смешалось, превратилось в грязную жижу и исчезло. Шипение воды заглушило шипение тления. Через несколько секунд раковина была чиста. Пуста. Как и она внутри.
Она выключила воду. Звонкая тишина снова заполнила гримерку. Тишина после свершившегося.
Оливия медленно подняла глаза. К зеркалу. В полумраке оно было огромным, темным окном в другую реальность. И там, в глубине, стояло ее отражение.
Чужое.
Лицо было бледным, как у Марка на берегу канала. Следы слез высохли, оставив грязные дорожки на щеках, смывшие остатки дневного макияжа. Волосы, выбившиеся из тугого узла, черными змеями падали на лоб и виски. Глаза… Глаза были огромными, темными, пустыми. Как два колодца, в которых утонуло все: страх, вина, боль, колебания. Осталась только ледяная, абсолютная пустота. Пустота крепости, чьи стены выстроены из пепла и лжи. Пустота выжившей, переступившей через последнюю черту.
Она смотрела в глаза этому чужому отражению. Незнакомка. Та, что сожгла прошлое и смыла пепел. Та, что теперь знала цену выживанию. Цену, равную душе.
На набережной Вольф показал ей, что знает все. Теперь она знала, что способна на все. На уничтожение. На предательство памяти. На войну.
Ее губы, бледные и сухие, чуть дрогнули. Не улыбка. Не гримаса. Просто нервный тик. Последняя судорога чего-то человеческого, утопающего в пустоте.
Она медленно отвернулась от зеркала. От чужого лица. От пепла. От прошлого.
Впереди была только тьма. И война с тем, кто знал. С тем, кто начал эту игру смертью дуэта. Война, в которой у нее теперь не было слабостей. Только пустота. И ледяная решимость.
Репетиция с Призраком
Холод в зале Городского Театра был особым. Не просто отсутствием тепла от полупустых кресел, а глубоким, промозглым холодом камня, впитавшего десятилетия сырости, неудач и невысказанных обид. Свет рабочих прожекторов, падавший на сцену, не согревал, а лишь подчеркивал мрак оркестровой ямы и гулкую пустоту балконов. Оливия Стерн сидела в десятом ряду партера, закутавшись в шерстяной шарф поверх черной водолазки, но холод проникал сквозь ткань, цеплялся за кости. Она пришла не по делу. Пришла бесцельно, бежать от собственных мыслей, от навязчивого образа Марка в грязи канала, от пепла сожженной расписки, который, казалось, все еще витал в ее гримерке. И нашла себя здесь. На репетиции спектакля, в котором не была занята. Наблюдая за адом.
Ад творился на сцене. Репетировали «Кровавую Сонату» – мрачную, экспрессионистскую вещь, где главная роль, роль Безумной Графини, когда-то принесла славу… Джессике Браун. Той самой. Наставнице, Богине, Жертве.
Теперь Джессика Браун стояла под этими же безжалостными софитами, но в роли крошечной, почти бессловесной старухи-служанки. Ее фигура, когда-то царственная, сейчас казалась хрупкой, согбенной под грузом лет и, как знала Оливия, под грузом несправедливости. Нелепый чепец съезжал набок на ее некогда великолепных, а теперь тускло-седых волосах, собранных в жалкий узел. Лицом в гриме глубокой старости она пыталась исполнить простейшую ремарку: поднять упавшую перчатку Безумной Графини (которую играла молодая, напористая Ирина Волкова, сияющая от сознания своего триумфа) и подать ей.
– Стой! – Голос Людвига Вольфа, сидевшего за режиссерским столиком в первом ряду, прозвучал как удар кнута. Гулкий, металлический, лишенный интонации. – Браун! Что это было? Ты не подаешь, ты швыряешь! Как нищую милостыню! Это же графиня! Графиня, черт возьми! Трепет! Благоговение! В глазах! Где благоговение?
Джессика замерла, перчатка в ее дрожащей руке казалась неподъемной гирей. Она попыталась выпрямиться, но спина не слушалась. Губы под слоем грима шевельнулись, пытаясь что-то сказать, но звука не последовало.
– Не молчи! – рявкнул Вольф, стукнув кулаком по столику. Звонко ударила опрокинутая чашка с кофе. – Объясни! Что ты играешь? Старую развалину? Так ты и есть старая развалина, но служанка – это не ты! Это роль! Покажи мне роль! Снова! С самого входа! И чтобы я увидел в твоих глазах страх перед госпожой, а не тупое отупение!
Оливия сжала руки на коленях так сильно, что суставы побелели. Каждый крик Вольфа вонзался ей в грудь, как нож. Она видела, как дрожат руки Джессики. Не просто дрожат – трясутся мелкой, неконтролируемой дрожью, от которой перчатка вот-вот выпадет снова. Видела, как она пытается вдохнуть, но дыхание срывается на коротких, хриплых всхлипах, заглушаемых гримом. Видела ее взгляд, направленный куда-то в пространство за спиной самодовольной Волковой. Потухший. Как пепелище после пожара. В нем не было ни гнева, ни обиды, ни даже слез. Только глубокая, бездонная усталость и пустота. Пустота человека, у которого вырвали все: славу, достоинство, веру. И Оливия знала, кто вставил первый клин в эту щель. Кто начал разрушение.
Чувство вины. Оно поднялось из самого нутра, черное, удушающее, тяжелее свинца. Оно заполнило холодный зал внутри нее, вытеснив даже ледяную пустоту, ставшую ее броней после смерти Марка. Вина за тот далекий день. За тот ядовитый шепот в ухо Лангдону: «нервное истощение», «непредсказуемость». За то, что она, молодая, голодная до славы Оливия, продала свою наставницу, свою почти мать, за главную роль. За то, что Джессика Браун, чей голос заставлял плакать мрамор, теперь стояла тут, под уничтожающим взглядом Вольфа и ядовитыми усмешками Волковой, дрожащей старухой, неспособной поднять перчатку.
«Я сделала это», – шептало что-то внутри. «Это я начала этот путь для нее. Путь вниз. К этой гримерке второго этажа, к этим унизительным крохам ролей, к этому публичному растоптыванию».
Джессика снова попыталась. Она сделала несколько шаркающих шагов (Оливия заметила, как она почти волочит ногу – старая травма? Или просто слабость?), наклонилась с видимым усилием, подняла воображаемую перчатку (настоящую Волкова уже держала в руке с презрением). Ее рука с дрожащей «перчаткой» протянулась к Волковой. Лицо, под слоем грима, напряглось в попытке изобразить то самое «благоговение». Получилась гримаса страха. Животного, неконтролируемого страха.
– Убожество! – фыркнула Волкова громко, так, что было слышно в зале. Она даже не взглянула на Джессику, обращаясь к Вольфу. – Людвиг Карлович, может, хватит? Она же все равно ничего не сыграет. Только время тратим. Дублерша есть?
Вольф не ответил Волковой. Его взгляд, тяжелый и безжалостный, был прикован к Джессике.
– Страх? – он исказил губы в подобии улыбки. – Это не страх графини, Браун. Это твой собственный страх. Страх нищеты? Старости? Забвения? Вот его и играй. Хотя что там играть – ты в нем живешь. Продолжаем. Со слов: «Ваша светлость, вам дурно…»
Джессика опустила руку. Перчатка (воображаемая) упала бы снова, будь она реальной. Она стояла, поникшая, глотая воздух, как рыба на берегу. Ее плечи содрогнулись. Казалось, еще секунда – и она рухнет прямо тут, на глазах у полупустого зала, у торжествующей Волковой, у каменного Вольфа.
И в этот момент ее взгляд, блуждавший в отчаянии по мрачному залу, случайно встретился с взглядом Оливии.
Он длился мгновение. Меньше мгновения. Но Оливии показалось, что время остановилось.
Это не был взгляд ненависти. Не был взглядом обвинения. Это был взгляд немого, всепонимающего горя. Глубокого, как пропасть, старого, как сама их преданная дружба, и острого, как только что вонзившийся нож. В этих глазах, потухших и пустых секунду назад, вспыхнула вся боль унижения, вся горечь падения, вся тяжесть прожитых в безвестности и бедности лет. И знание. Знание о том, кто начал это падение. Кто предал. Кто стоял у истоков ее нынешнего кошмара.
Этот взгляд был укором. Не громким, не яростным. Тихим. Смертельным. Укором, который говорил без слов: «Посмотри, Оливия. Посмотри, во что ты меня превратила. Посмотри на свою работу.»
Оливия вжалась в кресло. Воздух перехватило. Весь холод зала, вся вина, все ужасы последних дней сжались в один ледяной шар в груди и подступили к горлу. Она почувствовала, как по щекам катятся горячие слезы. Предательские, неконтролируемые. Она резко опустила голову, закрыв лицо руками, но было поздно. Она знала – Джессика увидела. Увидела ее здесь. Увидела ее слезы. Увидела ее вину.
На сцене кто-то что-то говорил. Волкова злобно хихикала. Вольф рявкнул очередную команду. Но для Оливии звуки слились в отдаленный гул. В ушах звенело от того немого взгляда. От этого укора. От осознания, что ее прошлое предательство не похоронено. Оно здесь. Оно живое. Оно дышит, дрожит и смотрит на нее с немой болью со сцены Городского Театра. Призрак ее вины материализовался в лице сломленной старухи с дрожащими руками. И теперь он требовал расплаты.
Сцена ее гримерки, обычно ледяная крепость, теперь казалась клеткой. Стены, увешанные афишами ее триумфов, давили. Отблеск ламп трюмо резал глаза. Оливия стояла перед зеркалом, пытаясь втиснуться в кожу новой роли – Федры, царицы, объятой запретной страстью и обреченной на гибель. Текст партии лежал раскрытым на столе, черные ноты и строки расплывались перед глазами. Слова не цеплялись. Мысли не слушались. Все пространство внутри заполонил один образ: Джессика Браун. Ее дрожащие руки. Ее потухший взгляд. И тот укор. Немой, всепроникающий, вонзившийся глубже любого крика.
«Ваша светлость, вам дурно…» – шептали губы Оливии по тексту, но в ушах звенел голос Вольфа, лязгающий, как цепь: «Убожество!.. Страх нищеты? Старости? Забвения?.. Ты в нем живешь.»
Она схватилась за край трюмо, костяшки пальцев побелели. Федра требовала страсти, безумия, мощи. А внутри была только ледяная пустота, пробитая раскаленным стержнем вины. И стыда. Невыносимого, жгучего стыда.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.