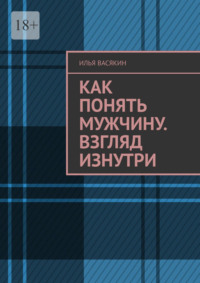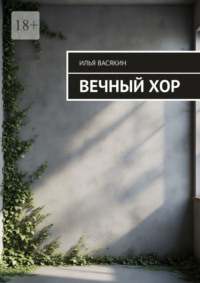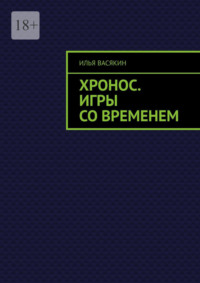Полная версия
Кровь вместо румян
– Это не может случиться… – прошептала она, но голос звучал чужим, полным сомнения. Почему не может? Разве она не доказала, как легко это сделать? Разве закон не гласил: что посеешь, то и пожнешь? Она посеяла предательство и ложь. Теперь пожинала паранойю, страх и этот удушающий букет, пахнущий смертью.
Она схватилась за край трюмо, чтобы не упасть. Мир плыл. Отражение в зеркале двоилось, троилось – Оливия, Глория, Джессика, их лица накладывались друг на друга, сливаясь в кошмарный коллаж женского падения. Кровь с ладони размазалась по стеклу, добавив к хаосу изображений алые мазки. «Долго ли?» Шепот звучал уже не за дверью, а внутри черепа, настойчивый, злобный. «Браво» на клочке бумаги превратилось в насмешливую эпитафию. Глаза Джессики смотрели на нее из каждого угла, из каждой тени, напоминая о конце.
Ей нужно было воздуха. Нужно было сбежать от этого кровавого света роз, от этого отражения с лицом жертвы и палача в одном лице, от призрака наставницы, который теперь, казалось, наполнил ледяную гримерку своим незримым, давящим присутствием. Она рванулась к мини-бару, к «Старому Ворону». Не для того, чтобы согреться, а чтобы оглушить. Оглушить страх, оглушить видение, оглушить этот проклятый вопрос о ее «веке». Ее окровавленная рука схватила бутылку, не обращая внимания на липкость крови на стекле. Она налила виски в стакан, не целясь, проливая золотисто-коричневую жидкость на столешницу, где она смешалась с каплями ее крови в отвратительный темный раствор. Кровь и виски. Кровь и слава.
Она залпом осушила стакан. Огонь обжег горло, ударил в голову, но не принес желанного забвения. Напротив, он сделал видение Джессики еще ярче, а страх – еще острее. Она увидела, как Джессика наконец открывает дверь той старой гримерки. Как делает последний шаг за порог. Как дверь медленно закрывается за ней, навсегда стирая ее из жизни театра. Щелчок замка. Звук был таким отчетливым в ее воспаленном мозгу, что она вздрогнула.
И тогда случилось. Внезапный, оглушительный, режущий тишину звук.
ЗВОН!
Хрустальный, леденящий, бесконечно длящийся в ее сознании звон разбитого стекла. Он прокатился по гримерке, ударился о высокие потолки, вонзился в барабанные перепонки, заставив сердце остановиться на долю секунды.
Оливия замерла, стакан застыл у ее окровавленных губ. Глаза, расширенные ужасом, метнулись по комнате. Что? Где? Это был звук падения? Разбития? Как будто огромный хрустальный шар разлетелся вдребезги о каменный пол.
Взгляд упал на букет. Ваза? Но розы стояли в пене, в пластиковом контейнере, скрытом упаковкой. Ничего не разбито. Пол чист, если не считать упавшей розы и ее кровавого следа. Трюмо? Баночки с гримом стояли на месте. Зеркало? Целое.
Она медленно повернула голову, сканируя каждый уголок ледяного склепа. Ни осколков. Ни источника звука. Только алая масса роз, пугающая в своей совершенной неподвижности, ее собственное искаженное отражение в зеркале, и… тишина. Глубокая, звенящая тишина, которая наступила после того, как эхо воображаемого (было ли оно воображаемым?) звона угасло.
Но звук был! Она слышала его! Так же ясно, как слышала шепот за дверью. Это был не звон в ушах от напряжения. Это был физический, материальный звук разбитого стекла. Или… звук разбитой иллюзии? Звук того самого щелчка замка, закрывающегося за Джессикой Браун, но теперь применимого к ней самой? Звук ее собственного падения, ее конца, ее «века», разбитого вдребезги, как хрупкая ваза?
Оливия Стерн стояла посреди своей роскошной гримерки, залитой кровавым светом сотен алых роз, с окровавленной ладонью и пустым стаканом в руке, и слушала тишину, которая наступила после звонкого краха. Краха чего? Реальной вазы? Или последних опор ее рассудка, ее карьеры, ее тщательно выстроенной, но такой шаткой жизни? Вопрос «Долго ли?» повис в воздухе, не нуждаясь больше в шепоте. Ответом был этот звенящий, леденящий, бесконечно длящийся в ее душе звон. Звон разбитого стекла. Звон начала конца.
Звон все еще вибрировал в костях, в зубах, в самых глубинах сознания, когда Оливия заставила себя моргнуть. Не галлюцинация. Не эхо сломанной психики. Реальность. У ее ног, на персидском ковре, темневшем от влаги, лежали осколки. Десятки острых, искрящихся в кровавом свете роз осколков хрустальной вазы, которую она, должно быть, смахнула в порыве слепой паники, рванувшись к бару. Вода широким, грязным пятном растекалась по узору ковра, впитываясь, смешиваясь с пылью веков и… с каплями ее крови, упавшими раньше. Алые розы, символ триумфа, превращенный в символ угрозы, валялись повсюду – одни целые, но поверженные, другие измятые, с обломанными лепестками, похожими на клочья окровавленной плоти. Несколько стеблей торчали из лужи воды и осколков, как погибшие солдаты на поле боя. Аромат стал удушливым, сладковато-гнилостным.
Она стояла посреди этого хаоса, дыша прерывисто, окровавленная ладонь бессильно опущена вдоль тела. Боль от шипов пульсировала в такт бешеному стуку сердца. Видение Джессики – этих сломанных, пустых глаз – все еще жгло сетчатку. Шепот: «Долго ли?..» – звенел в ушах громче осколков. Конец. Так выглядел конец? Грязь, разрушение, кровь и поверженная красота? Предзнаменование ее собственного падения, столь же стремительного и беспощадного?
Слезы подступили к горлу, жгучим комом. Слезы страха, вины, беспомощности. Она закачалась, готовая рухнуть на колени в эту мокрую, осколочную кашу, зарыться лицом в руки и завыть от ужаса и отчаяния. Джессика… Прости… Я не хотела… Я не знала… Мысль, детская, беспомощная.
«Нет».
Слово прозвучало не вслух, а внутри, холодное и резкое, как удар ножом по стеклу. Оно перерезало горло надвигающимся слезам. Слезы? Слезы – слабость. Слова пронеслись с ледяной ясностью. Слабость – смерть здесь. Здесь, в этом театре, в этих стенах, пропитанных амбициями, завистью и кровью (пусть и метафорической), слабость была не роскошью, а смертным приговором. Слезы сделают ее Джессикой. Слезы оставят ее на полу этой гримерки, сломленной, пустой, готовой к тому, чтобы ее вымели вон, как мусор. Как вымели Джессику.
Что-то щелкнуло внутри. Как сработавший предохранитель. Как опустившаяся маска. Эмоции – этот бурлящий котел страха, вины, паники – были резко, почти физически отрублены. На их место хлынул ледяной поток холодного рационализма. Режим выживания. Активирован.
Оливия выпрямилась. Плечи расправились. Подбородок приподнялся. Дыхание, еще недавно сбивчивое, выровнялось, став глубоким и мерным, как перед выходом на сцену в самой сложной сцене. Боль в ладони? Она была. Но теперь это был просто сигнал, информация. Кровь? Физиологический факт. Беспорядок? Проблема, требующая решения. Вина за Джессику? Неоплаченный долг, который будет ждать своего часа. Но не сейчас. Сейчас – действие.
Она оглядела хаос с новой, безжалостной ясностью. Разбитая ваза. Вода. Розы. Кровь. Осколки. Угроза. Унижение. Все это нужно было убрать. Стереть. Как стирают неудачный дубль. Как стирают улику.
Она двинулась. Резко. Отрывисто. Без лишней грации, только функциональная эффективность. Первым делом – источник опасности. Осколки. Она сдернула со спинки бархатного кресла тяжелую шаль – шелк с вышитыми драконами, подарок какого-то поклонника с Востока. Не раздумывая, бросила ее на пол поверх самой большой концентрации осколков и воды. Не для уборки, а чтобы обозначить зону поражения, предотвратить случайный порез. Потом шагнула в сторону, к шкафу с костюмами. Рывком открыла дверцу. На полке лежали запасы – полотенца, упаковки влажных салфеток, мусорные пакеты. Арсенал уборщицы.
Она схватила рулон толстых мусорных пакетов. Оторвала один. Резкий звук рвущегося пластика прозвучал как выстрел в тишине. Присела на корточки у края шали, осторожно отодвигая ее край ногой в туфле, которую автоматически надела (босой ногой в осколки – слабость, недопустимая слабость). Движения рук были точными, быстрыми. Она собирала крупные осколки, не глядя на их острые грани, бросая в раскрытый пакет. Тинг-тинг-тинг. Звук падающего стекла в пластик был мелодией уничтожения улик. Мелкие осколки, сверкающие, как слезы, она сметала краем сложенного полотенца. Вода впитывалась в шаль и в полотенце, оставляя на ковре темные, бесформенные пятна. Пятна позора. Их тоже нужно будет чистить. Позже.
Каждый кусок стекла, брошенный в пакет, был кусочком ее паники, ее слабости, которую она замуровывала в пластиковый саркофаг. Вина за Джессику? Она сжала ее в кулак вместе с окровавленной ладонью и отодвинула в самый дальний, самый темный чулан сознания. На засов. Подавление. Не отрицание. Признание факта, но отказ позволить ему управлять сейчас. Позже. Если будет «позже».
Розы. Она взяла первую. Не сломанную, а роскошную, алую, все еще идеальную. Шипы впились в незащищенную кожу другой руки, но Оливия даже не поморщилась. Боль была ничто. Фоновый шум. Она грубо швырнула розу в другой, чистый пакет. Затем следующую. И следующую. Не с любовью, не с сожалением, а с методичной жестокостью утилизатора. Лепестки отрывались, падали в воду, плавали, как окровавленные лодочки. Она видела это. Кровь на ее руке смешивалась с влагой на стеблях, с пылью с ковра. Предзнаменование? Возможно. Но она отказывалась его читать. Единственное предзнаменование, которое она признавала сейчас – это предзнаменование ее собственной смерти, если она проявит слабину. Эти розы, анонимные, с их шипами и зловещим «Браво», были оружием. Мусором. Им место в пакете.
Она работала молча, яростно. Дыхание ровное, лицо – каменная маска. Внутри было пусто. Холодно. Как в морозильной камере. Мысли текли скупо, рублеными фразами, как команды самой себе:
Собрать стекло. Быстро.
Выбросить розы. Все.
Вытереть воду. Насухо.
Кровь… Позже. Перевязать.
Запах… Проветрить. Позже.
Джессика… Не сейчас. Заперта.
Шепот… Шепот был реальным.
Это последнее прорвалось сквозь лед. Шепот был реальным. Не плод воспаленного воображения, не эхо прошлого. Живой голос за дверью. «Долго ли продлится ее век?» Кто-то стоял там. Кто-то знал. Кто-то наблюдал. Кто-то желал ее конца. Анонимные розы лишь подтверждали это. «Браво» могло быть насмешкой, началом игры. Игрой, в которой ставка – ее карьера. Ее жизнь. Ее все.
Она швырнула последнюю розу, вернее, то, что от нее осталось – измятый бутон на сломанном стебле, – в пакет. Затянула его, резко дернув пластиковые ручки. Узел получился тугим, уродливым. Пакет с осколками она завязала так же тщательно – смертоносное содержимое не должно никому угрожать. Никому, кроме нее самой, разве что.
Влажное пятно на ковре темнело. Она бросила на него сухое полотенце, наступила ногой, вдавливая влагу. Движения были резкими, почти злыми. Следы нужно уничтожить. Все следы. Внешние и внутренние. Она подняла пропитанное полотенце, швырнула его в третий пакет. Гримерка все еще была в беспорядке – сдвинутая мебель, следы воды, запах роз и крови, – но очаг катастрофы был локализован. Убран. Спрятан.
Только теперь она позволила себе взглянуть на рану. Ладонь была исчерчена полузасохшими дорожками крови, усеяна темными точками проколов от шипов. Несколько ранок глубже – на одной даже виднелась крошечная заноза-шип. Боль была тупой, фоновой. Она подошла к умывальнику, скрытому в углу. Включила холодную воду. Сунула руку под струю. Вода окрасилась в розовый, смывая запекшуюся кровь, обнажая бледную кожу и мелкие, но многочисленные ранки. Жжение. Очищение. Она терла ладонь мылом, не щадя, сдирая корочки. Физическая боль была предсказуема. Управляема. В отличие от той, что грызла изнутри.
Она вытерла руку насухо грубым бумажным полотенцем. Не стала искать бинт или пластырь. Пусть дышит. Пусть болит. Напоминание. Она сжала кулак. Боль усилилась, но рука слушалась. Сильная. Готовая к действию.
И тогда она подошла к трюмо. К островку света в море теней. Отражение, которое она видела раньше – испуганное, размазанное, с глазами загнанного зверя – исчезло. На его месте стояла другая женщина.
Волосы все еще беспорядочно падали на лоб, остатки «Глории» были смыты водой и потом, подчеркивая бледность и тени под глазами. Но это не было лицом жертвы. Это было лицо… крепости. Лицо, высеченное изо льда и гранита. Ни тени эмоций. Ни страха, ни вины, ни усталости. Только холодная, абсолютная сосредоточенность. Глаза, еще недавно огромные и пустые от ужаса, теперь сузились, стали пронзительными, как стальные щепки. В них горел не свет рампы, а холодное пламя решимости. Вся мягкость, вся уязвимость, все ненужное было сметено, как осколки со скользкого ковра. Остался только стальной каркас. Каркас выживающей.
Она смотрела в глаза своему отражению. Незнакомке. Воительнице. Актрисе, игравшей теперь самую важную роль в своей жизни – роль той, кто не сломается. Кто не станет Джессикой Браун.
Губы, бледные и тонкие без грима, чуть тронулись. Не улыбка. Не гримаса. Жесткое движение мускулов. Из них вырвался шепот, тихий, но настолько насыщенный ледяной волей, что он, казалось, мог заморозить воздух в гримерке:
«Надо узнать, кто шептался.»
Не вопрос. Не сомнение. Решение. Приказ самой себе. Первый шаг в новой, темной пьесе, где она больше не была пассивной жертвой обстоятельств или собственной совести. Она была охотницей. Имя на афишах горело ярко, но теперь оно было и именем на карте мишени. Кто-то прицелился. Кто-то спросил: «Долго ли?»
Оливия Стерн держала взгляд своего ледяного отражения. Внешний триумф был прахом. Внутренняя опустошенность – топливом. Шипы славы вонзились глубоко, но они лишь закалили сталь внутри. Слезы высохли. Страх был закован в броню рационализма. Вина заперта в подземелье.
Оставалось только действие. Поиск. Ответ на вопрос, заданный в темноте. Ответ, который, возможно, был ключом к ее спасению. Или к ее окончательной гибели. Но бездействие было хуже смерти. Она знала это по глазам Джессики.
Она медленно кивнула своему отражению. Согласие. Принятие правил игры. Игра началась. И Оливия Стерн не собиралась выходить из нее сломленной. Она собиралась выяснить, чей век подходит к концу на самом деле.
Дверь гримерки закрылась за ней с тихим, но окончательным щелчком. Оливия Стерн стояла в пустом коридоре Городского Театра, и это был уже не побег, а выход на новую сцену. Ту, где она играла не Глорию, а саму себя – версию, выкованную в ледяном горниле страха, вины и подавленной ярости. Безупречная. Холодная. Как лезвие, вынутое из ножен.
Она провела ладонью по бедрам, сглаживая невидимые складки на платье – простом, черном, без единого намека на сценический блеск. Остатки «Глории» были тщательно смыты. Волосы, ее собственные, каштановые и непокорные, теперь были жестко стянуты в тугой узел на затылке, обнажая скулы, резкие как скалы, и шею, напряженную струной. Макияж? Только тушь, подчеркнувшая ледяную пронзительность взгляда, и бледная помада, превратившая губы в тонкую, безжалостную линию. Кровь на ладони затянулась темными корочками – боевые шрамы, спрятанные, но не забытые. Она не стала их прикрывать. Пусть будут напоминанием. О шипах. О цене. О враге, который где-то рядом.
Воздух в коридоре был все тем же – пыльным, затхлым, пропитанным запахом старой древесины, краски и чего-то вечно умирающего. Но теперь он не давил. Он был полем боя. Оливия двинулась вперед. Каблуки ее туфель отбивали четкий, мерный ритм по деревянному полу – стук метронома, отсчитывающего шаги к неизвестному. Звук гулко отражался от стен, увешанных тенями забытых спектаклей. Она шла не к выходу. Она шла сквозь пустоту, выискивая трещины. Следы. Страх.
И он нашелся. Не в шепоте, не в угрозе, а в самом банальном проявлении человеческой натуры. Из-за угла, ведущего к складу декораций, появилась фигура. Молодая хористка. Лет восемнадцати, не больше. Личико, еще не тронутое театральной изнанкой, с остатками наивного восторга. В руках она несла коробку с какими-то бутафорскими безделушками – вероятно, убирала после спектакля. Увидев Оливию Стерн, идущую ей навстречу, девчонка замерла, как кролик перед удавом. Восторг мгновенно сменился паникой.
Оливия не замедлила шаг. Не ускорила. Она просто шла, и ее взгляд, тот самый стальной бур, что она отточила перед зеркалом, нацелился прямо на хористку. Не мимо. Не поверх головы. Прямо в глаза. Ледяной, бездонный, лишенный всякой теплоты или узнавания. Взгляд, который не спрашивал, а допрашивал. Который сканировал душу на предмет лжи, страха, знания.
Хористка ахнула, едва слышно. Коробка задрожала в ее руках. Она попыталась улыбнуться, робко, подобострастно, но улыбка умерла, не родившись, под этим ледяным напором. Щеки девушки вспыхнули густым румянцем, потом побелели. Глаза, широко распахнутые, метнулись в сторону, в пол, куда угодно, лишь бы не встречаться с этим пронзительным стальным взором. Она съежилась, сделала неловкий шаг в сторону, прижимаясь к стене, словно пытаясь провалиться сквозь штукатурку.
– М-мисс С-Стерн… – прошептала она, голос сорвался в писк. – Я… я просто…
Она не закончила. Слова застряли в горле комом страха. Она бормотала что-то совершенно невнятное, бессвязную смесь извинений и ничего не значащих звуков. Потом, не в силах выдержать этот немой допрос, этот ледяной гнет, девчонка рванулась вперед, почти бегом, шаря взглядом путь к спасению, к любому повороту, лишь бы уйти от этого взгляда. Она проскочила мимо Оливии, задев плечом стену, и скрылась за углом. Звук ее торопливых, спотыкающихся шагов быстро затих, растворившись в гулкой тишине.
Оливия остановилась. Не обернулась. Она смотрела туда, где только что была хористка. В пустой воздух, еще дрожащий от ее страха. Страх. Вот он. Осязаемый. Живой. Исходивший не от нее, а направленный на нее. Как яд. Как подтверждение. Тот шепот за дверью не был призраком. Он был плотью и кровью этого театра. Кто-то знал. Кто-то ненавидел. Кто-то желал ее конца. И этот страх хористки был лишь отражением всеобщего шепота за спиной звезды. Шепота, который теперь кричал в ее сознании: «Долго ли?» Ответ был в глазах девчонки – в этом животном ужасе перед ее холодной силой. Страх окружал ее. Неуважение. Зависть. Желание падения. Это был воздух, которым она дышала. Вода, в которой плыла. Почему она не замечала этого раньше? Потому что была ослеплена светом рампы? Оглушена аплодисментами? Теперь свет погас. Аплодисменты смолкли. Остался только страх. Ее собственный – загнанный вглубь, закованный в лед. И страх других – направленный на нее, как копья.
Она медленно развернулась и пошла обратно. К своей гримерке. К своему склепу. К своей крепости. Шаги были такими же мерными, но теперь в них чувствовалась не просто решимость, а тяжелая, неотвратимая поступь судьбы. Она вошла, закрыла дверь. Замок щелкнул, изолируя ее от мира страха, но не от страха внутри.
Гримерка встретила ее знакомым холодом и удушливым, призрачным ароматом роз, который не выветрился полностью, несмотря на открытое на время уборки окно. Хаос был устранен, следы крови с ковра выведены, пакеты с осколками и мертвыми цветами стояли у двери, как мешки с трофеями после битвы. Но на полу, в тени трюмо, валялась одна роза. Последняя. Уцелевшая. Ее не заметили в спешке уборки или не посчитали достойной внимания. Она лежала на боку, стебель слегка погнулся, но бутон оставался почти идеальным – темно-алым, бархатистым, пульсирующим мрачной красотой посреди серости каменного пола.
Оливия подошла к ней. Не спеша. Смотрела сверху вниз. Символ. Последний символ. Восхищения? Угрозы? Той цены, что она заплатила? Она наклонилась. Не присела. Просто наклонилась с высоты своего холодного величия и подняла розу за стебель, чуть ниже бутона, избегая пока шипов. Цветок повис в воздухе, тяжелый, как гиря.
Она поднесла его к свету трюмо. Алый цвет залил ее бледное лицо кровавым отсветом. Она рассматривала бутон – совершенство формы, обещание аромата, скрывающее смертоносные шипы внизу. «Стоила ли эта пустота той цены?» Вопрос висел в воздухе с тех пор, как она стерла последние следы Глории с лица. Вопрос, на который не было ответа. Только пустота. Пустота вместо любви. Пустота вместо доверия. Пустота вместо тепла. Пустота, заполненная страхом и виной.
Ее свободная рука медленно сомкнулась вокруг стебля. Ниже бутона. Прямо там, где начинались шипы. Она почувствовала их остроту сквозь тонкую кожу ладони, еще не зажившую после предыдущих ран. Вдох. Глубокий, ледяной.
И она сжала. Не резко. Не в порыве ярости. Медленно. С почти болезненным удовольствием. Сознательно. Намеренно. Сила ее пальцев была стальной. Шипы впивались в плоть, пронзая кожу, вонзаясь в ткани ладони. Острая, чистая боль пронзила руку, ударила в мозг. Она не остановилась. Сжимала сильнее. Чувствовала, как острия глубже погружаются в ее плоть, как стебель мнется под неумолимым давлением. Бутон дрожал, лепестки сжались.
Хруст. Тонкий, влажный. Не стебель ломался. Лопались клетки внутри стебля. Лопались клетки в ее ладони. Сок и кровь. Теплый, липкий, зеленоватый сок растения смешался с ее собственной, алой, горячей кровью. Он выступил из-под пальцев, стекая по стеблю, по ее запястью, смешиваясь в отвратительный, темный ручей на бледной коже. Боль была интенсивной, почти экстатической в своей ясности. Физическое воплощение той внутренней раны, которую она носила годами. Кровь славы. Сок жертвы. Шипы предательства. Все смешалось на ее ладони в один кроваво-зеленый символ ее жизни.
Она смотрела на это смешение. На свою руку, сжимающую умирающий цветок, из которой сочилась жизнь – ее и подаренная кем-то. На алый бутон, теперь смятый, искаженный ее силой. На стебель, покрытый ее кровью. Вопрос висел в воздухе, жгучий, как боль в ладони: «Стоила ли эта пустота той цены?»
Ответа не было. Только боль. Только кровь. Только сок. Только пустота внутри, ставшая теперь ее единственной реальностью, ее доспехами, ее троном. И осознание: цена заплачена. Обратного пути нет. Есть только путь вперед. Сквозь страх. Сквозь шипы. Сквозь кровь. К ответу на вопрос, заданный в темноте. К концу чьего-то века.
Она разжала пальцы. Смятая роза с окровавленным стеблем упала на каменный пол с глухим, мокрым звуком. Лепестки отлетели. Осталось лишь уродливое месиво из зелени и алого.
Оливия Стерн подняла окровавленную ладонь к лицу. Вдохнула запах своей крови и сока розы. Металл и гниль. Занавес ее триумфа окончательно упал. Начинался новый акт. Темный. Опасный. И она была готова. С пустотой вместо сердца и кровью на руках.
Исчезнувший Дуэт
Тяжелая дубовая дверь кабинета директора Вольфа распахнулась с такой силой, что откинулась на массивный латунный стопор с глухим стуком. Оливия Стерн ворвалась внутрь, не как звезда Городского Театра, а как штормовой ветер, сметающий все на пути. Ее дыхание, обычно поставленное и ровное, срывалось на короткие, резкие вдохи. Каблуки оставили на паркете глубокие царапины – следы ее бега по пустынным утренним коридорам театра, еще пахнущим ночной пылью и отчаянием.
– Вольф! – Ее голос, обычно бархатный инструмент, звучал хрипло, сдавленно, как струна, готовая лопнуть. – Марка нет!
Директор Театра, Людвиг Вольф, не оторвался от толстой папки с бюджетными отчетами. Он сидел за своим импозантным, темным, как скала, столом, заваленным бумагами и единственной изысканной бронзовой статуэткой Мельпомены. Свет от массивной латунной лампы падал на его лысину, блестевшую, как отполированный камень, и на тяжелую челюсть, заросшую седыми щетинистыми волосами. В воздухе витал терпкий запах дорогого коньяка и сигарного пепла – запах власти и полного равнодушия.
– Марка? – пробурчал он, не глядя, переворачивая страницу с шумом. – Какого Марка? У нас тут полсотни Марков бегает, Стерн. Хористы, осветители, статисты…
– Марк Велански! – Оливия ударила ладонью по столешнице. Звук был громким, как выстрел, заставив вздрогнуть даже невозмутимого Вольфа. Он медленно поднял голову. Его маленькие, глубоко посаженные глаза, похожие на две черные пуговицы, уставились на нее без тени интереса. – Мой партнер! Велански! Дуэт в «Лунной Сонате»! Репетиция началась сорок минут назад! Его нет! Никто не видел его с прошлой ночи! Его телефон мертв! Квартиру обзвонили – тишина!
Паника, холодная и липкая, как паутина, сжимала ей горло, колотилась под ребрами. Марк. Надежный, как швейцарские часы. Педант. Никогда не опаздывал. Никогда не пропускал. Их дуэт в новой постановке был нервом спектакля, сложнейшим переплетением голосов и эмоций. Без него – крах. Но сейчас ее терзало не это. Слишком свежи были воспоминания о шепоте в пустоте, об анонимных розах с их кровавыми шипами, о призраке Джессики Браун. Исчезновение Марка пахло не бытовухой, а чем-то… темным. Зловещим.
Вольф вздохнул, словно перед ним поставили неразрешимую задачу. Отодвинул папку. Сложил руки на животе, покрытом дорогим, но слегка потертым пиджаком.
– Велански… – Он произнес имя так, будто пробовал на вкус что-то несвежее. – Ах, да, ваш красавчик-баритон. Ну, что я могу сказать, Стерн? Наверное, сбежал. Обычное дело.