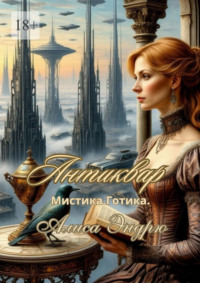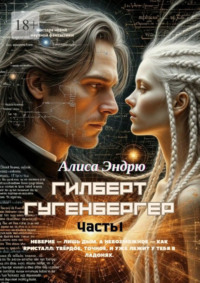Полная версия
Гилберт Гугенбергер. Часть 2
– Наверное, стоит начать с самой загадочной истории.
– Я просто хотела стать знаменитой. Загорелась написать роман с захватывающим сюжетом.
– И тогда я нашла тебя. Вернее твои записи.
– Ты стал моим главным героем Тем, о ком я пишу уже второй год. Так что с тобой я уже давно знакома, чего нельзя сказать о тебе
– Представляешь, что значит увидеть своего героя воочию?
– Когда больше не нужно придумывать за него его жизнь.
– Я не учёная. Я просто писательница.
– И да, можно сказать, что я шагнула сюда незаконно.
– Нарушила кодекс сообщества, потому что они никогда не отпустили бы меня к тебе.
– Ни за что.
– Но я здесь.
– И теперь ты знаешь правду.
– Ты знаешь, что я сделала, чтобы увидеть тебя. Как видишь- это действительно сумасшествие.
Гилберт напрягся, словно воздух в комнате стал тяжелее, будто за окнами собиралась гроза, а не мягкий закат, как сейчас.
– То есть ты хочешь сказать, что видишь меня впервые? – его голос дрогнул, в нём звучала тревога. – В будущем ты меня не встретила?
Алиса опустила глаза, её пальцы скользнули по гладкой поверхности кристалла.
– Мне трудно об этом говорить, – её голос был тихим, но в нём не было ни сомнений, ни лжи. – Трудно смотреть тебе в глаза и говорить это вслух.
Она сделала глубокий вдох.
– Но это именно так, Гилберт.
Она коснулась кристалла, и в воздухе развернулись строки, будто световые ленты, медленно проявляющиеся из пустоты.
Прощальное письмо Гилберта. Он читал его, как будто встретил себя другого, взрослого пережившего трагедию.
Гилберт замер.
Неужели будущее уже решено?
– Мне сложно объяснить, зачем я здесь.
– Наверное, потому что роман связал мою жизнь с твоей.
– Мне больно от этого. Оттого, что ты никогда не увидишь плоды своих трудов.
– Это неправильно. Это словно глупая насмешка времени.
– Во всяком случае, я так считаю.
– Это только моё мнение, и только поэтому я здесь.
– Гилберт.
– Я здесь ради тебя.
Глава27. Трудное решение
Поместье Поля Ланжевена стояло за пределами шумного Парижа, словно спрятанное от времени, укрытое среди зелёных холмов и старых платанов.
Дом смотрелся просто, но элегантно – двухэтажный, с песочным фасадом, поросшим плющом, с тяжёлыми деревянными ставнями, которые в солнечные дни оставались чуть приоткрытыми, пропуская лёгкий ветер. Здесь царила тишина, глубокая, наполненная шелестом листвы и отдалёнными звуками экипажей, проезжающих где-то на дороге.
Деревянные балки старой крыши хранили запах дождя и множества книг, стоявших в изобилии вокруг, каждая стена будто несла на себе отпечаток веков. Внутри – французская простота: массивные комоды, покрытые лаком, резные столы, гобелены с видами прошлого.
На втором этаже располагался кабинет Поля – скромный, но наполненный духом размышлений. Маленькие окна, завешенные короткими занавесками, пропускали лишь размытый свет, который мягко ложился на старинные портреты, висящие на стенах, и на толстые тома, выстроенные в ряд вдоль книжных шкафов.
Французские обои, слегка потемневшие от времени, покрывали стены, словно неслышный фон для мыслей. Камин, выкованный из серого камня, хранил в себе старые угли, а деревянные комоды стояли у стен, словно стражи прошлого.
Это родовое гнездо хранило в себе не только историю семьи, но и долгие годы размышлений, идей, теорий. Здесь Ланжевен мог уходить в свои исследования, оставляя Париж за окном, который жил своим шумным, бурлящим ритмом.
Но в этом доме – в этой тишине – всё было подчинено мысли.
Мысли, которая шагала через века.
Мысли, которая жила дольше, чем сам её создатель.
Мысли, которая однажды могла изменить ход времени.
И, может быть, уже меняла.
Первый этаж дома Ланжевена казался просторным, пропитанным тихой элегантностью, без излишней роскоши, но с явным отпечатком истории.
Несколько спален, каждая со своей историей. В них – массивные дубовые кровати с высокими спинками, покрытые плотными тканями, пропитанными ароматом времени. В углах – старинные шкафы, глядящие молчаливо, словно помнящие давно ушедшие разговоры.
Великолепная кухня, большая и светлая, с широкими окнами, за которыми по утрам шумели птицы. Каменный очаг, медные кастрюли, аромат свежего хлеба, который иногда наполнял дом, когда приходила служанка и готовила ужин. Здесь все было просто, но продуманно – длинный деревянный стол, высокие стулья, полки с посудой, потемневшей от времени.
Жена и дети Ланжевена часто уезжали в их дом в Испании, где проводили недели, а иногда и месяцы. Там было проще, свободнее, дальше от его мира формул и размышлений.
А сам Ланжевен жил один.
– Кто сможет тебя терпеть, Поль, больше двух недель?
– Наверное, я не назову ни одной парижанки…
Так часто говорила Жанна Дезире, его жена, с лёгкой усмешкой, скрывающей усталость.
Она знала, каким он был. Его одержимость наукой, бесконечные расчёты, отсутствие покоя даже во сне.
Париж жил весельем, балами, утренним кофе в шумных кафе.
А Поль жил мыслями, теориями, числами, которые были важнее всего. Исследования полностью захватывали его, он мог часами просчитывать формулы, задумываться о теориях, искать ответы в звуках потрескивающего камина.
В доме оставалась только одна горничная, молчаливая, но преданная. Редкими вечерами, когда Ланжевен вдруг позволял себе отдохнуть, она читала ему французскую классику.
Её голос, неспешный и ровный, звучал в глубине дома, смешиваясь с треском огня.
Ланжевен слушал, не прерывая, а сам дом, словно живой, пропитывался словами, которые давно принадлежали другому времени.
В этом доме, в этой тишине, всё подчинялось мыслям.
Но сегодня Ланжевен ждал гостей.
Конный экипаж, в котором Гилберт с Алисой отправились из Латинского квартала, был настоящим произведением искусства.
Тёмное красное дерево, отполированное до блеска, отражало солнечные лучи, словно драгоценный камень. По бокам – резные узоры, изображающие сцены охоты и изящные виноградные лозы, переплетённые в сложный узор. Крыша экипажа была покрыта чёрным лаком, а ручки дверей отливали золотом, создавая контраст с глубоким оттенком древесины.
Лошади – великолепные гнедые, с гладкими, сильными мускулами, шагали ровно, их копыта мелодично цокали по мощёному кирпичу, сопровождая ритм улиц Парижа. Гривы аккуратно заплетены, кожаные упряжки украшены серебряными пряжками, каждая из которых сверкала в солнечном свете.
Кучер – статный мужчина в тёмном длинном сюртуке, с высоким цилиндром, сидел ровно, уверенно управляя экипажем. Его перчатки из тонкой кожи крепко держали поводья, а взгляд оставался сосредоточенным, несмотря на оживлённые улицы.
Они ехали вдоль узких французских улочек, где запах свежего хлеба смешивался с ароматами кофе и духами прохожих. Париж жил своей жизнью – гулкий смех доносился из кафе, студенты спорили на углу о философии, художники набрасывали быстрые эскизы на площади.
Алиса ловила каждый миг.
Этот город жил иначе – он не просто существовал, он дышал, он наполнял воздух ароматами, которые оставались в памяти, как самые тёплые воспоминания.
Французские духи, пропитавшие утро, скользили по улочкам, смешиваясь с тонкой ноткой ванили и свежего кофе. Один вдох – и Париж раскрывался ей по-новому, предлагал остаться в этой утренней дымке навсегда.
А потом – круассаны.
Какое утро без них? Хрустящая корочка, чуть сладковатое тесто, и этот момент, когда тёплый аромат выпечки просачивался из маленьких булочных, разбегался по улицам, словно приглашение остаться здесь навсегда.
Гилберт смотрел на Салли, на её безмятежность, а вот ему как-то неспокойно и холодок пробегает вдоль спины, где-то застревая между лопаток.
Гилберт Новицкий.
Но ведь он – Гугенбергер.
Из Салли можно сказать, что тоже Гугенбергер. Удивительное совпадение …А может нет?
Почему всё это сейчас появилось в его жизни?
Как это произошло?
На каком моменте реальность повернула так, что его имя изменилось?
Что нужно сделать, чтобы переписать саму судьбу?
Мысли пробегают сквозь десятки гипотез, от простого административного недоразумения до временного разлома, где чьи-то решения за пределами его контроля запустили цепочку изменений.
Одна версия казалась особенно тревожной: он сам поменял её.
Но зачем?
Что должно случиться с человеком, чтобы он отказался от своей фамилии?
Фамилия – это не просто слово.
Это дом, это корни, это всё, что связывает тебя с теми, кто был до тебя.
Если он стал Новицким, значит, в будущем что-то случилось.
Такое, что сделало прошлое неважным.
А если прошлое перестало значить что-то,
то каким стало будущее?
Гилберт почувствовал, как внутри него нарастает тревога,
как мысли уже не поддаются логике, как страх пробирается в сознание. Он немедленно узнает ответ!
И, возможно, он ему не понравится.
Но вскоре шум города начал стихать.
Экипаж выехал за пределы Парижа, оставляя позади мостовые и суету, под колёсами теперь была гладкая земля, а ветер, ранее наполненный городскими разговорами, стал свободным, прохладным.
Дом Ланжевена уже виднелся вдалеке, его стены, пропитанные временем, ждали своих гостей.
Он был там.
Ждал их.
В предвкушении долгого разговора.
На небольшую лестницу, скрытую полутенью, вышла горничная – немолодая, но и не старая, та, чья незаметность была самой её отличительной чертой.
Длинное тёмное платье, без излишеств, с лёгкими складками. Белый чепец аккуратно завязан, подчёркивая её простоту и сдержанность.
– Мсье Гугенбергер…
Она чуть запнулась, будто ловя в мыслях несказанное.
– Мадемуазель Салли, – добавила она, неуверенно, словно на секунду представив, что он мог быть женат, но тут же отвергнув эту мысль. Вероятно, его кузина – подумала Франсуаза.
– Проходите, мсье.
Внизу хозяин дома уже ждал вошедших в гостиной.
Дверь скрипнула, впуская в комнату мягкий дым сигары.
Ланжевен любил сигары.
Воздух пропитался терпким ароматом, смешавшись с запахом старых книг и горячего кофе.
На небольшом дубовом столе, тёмном от времени, но всё ещё в неплохом состоянии, Франсуаза с ловкостью опытного кулинарного расставляла угощение на ужин.
Хрустящая корка багета потрескивала, как будто предвкушала момент, когда кто-то разломит её и покроет слоем фуа-гра – нежного, бархатистого, обещающего растечься по языку, оставляя послевкусие утончённого наслаждения.
А чуть поодаль – фарфоровая тарелка с крем-брюле, настоящая звезда вечера.
Тонкая карамельная корочка сияла как янтарь в свете свечи, обещая предательский хруст под первым касанием ложки, а дальше – нежность, сливочная гладкость, сладкая магия, способная заставить забыть обо всём, кроме момента, когда оно тает на языке.
В комнате уже чувствовалась острота момента – Ланжевен любил неожиданности.
Воздух стал густым, наполненным терпкостью табака, тепло камина лениво струилось вдоль стен, а ожидание разговора висело в воздухе почти осязаемо.
Где-то внутрь этого вечера пробиралась тайна.
Вопросы.
Нерешённые уравнения, оставленные на столе не только в виде бумаг, но и мысленных догадок.
И когда гости сядут за стол, всё начнётся.
Мысленно Поль уже потирал руки. Он дымил сигарой, не переставая, слегка прищурив глаза. Он был уже не молод, но в его взгляде всё ещё светился цепкий ум, бодрый и живой. В вечернем свете могло показаться, что перед ними слегка уставший юноша. Но нет – это был зрелый мужчина, всё ещё полный жажды приключений и готовности к новизне.
– Мадемуазель Салли, не хотите ли попробовать ванильные сигаретки? – Поль протянул коробочку. – Есть несколько мундштуков.
Алиса удивлённо посмотрела на него, но не отказалась. Она взяла в руки мундштук, покрутила его, словно изучая.
«Занятная штука,» – пронеслось у неё в голове.
– Я немного наслышан о вас, – продолжил Ланжевен, зажигая спичку. – Гилберт рассказал о вашем необычном появлении. А в будущем всё так же популярны сигары? Или, может быть, придумали проказы?
Салли расплылась в улыбке, её смех был лёгким, почти музыкальным.
– Нет, в будущем вообще никто не курит. Это осталось в прошлом. Но мне любопытно испытать это на себе. Гилберт взглянул на Алису.
«Оказывается, она авантюристка. Ну, как могло быть иначе, если эта писательница пересекла не один, а даже два века?»
Ланжевен зажёг даме сигарету. Салли затянулась, но тут же закашлялась, широко раскрыв глаза.
Мужчины засмеялись.
– Ну-ну, милочка, – Поль улыбнулся, – это ещё то занятие. Надо иметь привычку. Ладно, оставим баловство на потом. Давайте лучше насладимся гусиным паштетом.
Писательница закрыла глаза, чувствуя, как бархатистый вкус фуа-гра растекается по языку, насыщенный, глубокий, оставляя послевкусие утончённой роскоши.
– Ммм… Какой необычный вкус, – повторила она, будто желая запечатлеть этот момент. – Я ещё никогда такого не пробовала. А багет… выше всяких похвал!
Гилберт посмотрел на неё с лёгким изумлением.
– Ну ничего себе… А что, в 2125 году вкус изменился? Еда стала хуже?
Алиса рассмеялась, поставив вилку на край тарелки.
– Нет, нет, ничего подобного. Еда там очень привлекательная – даже с голографическими картинками на поверхности.
Она задумалась, словно пытаясь найти правильное сравнение.
– Но она никак не может сравниться с вашей фуа-гра. Это уж точно.
Ланжевен усмехнулся, откинувшись в кресле, дым сигары лениво растекался по воздуху.
– Что ж, значит, в чём-то мы ещё не уступили будущему.
И, пожалуй, он был этим доволен.
Вероятно, я самый счастливый учёный, – подумал Поль, ощущая странное удовольствие от момента.
Счастье – лицезреть мадемуазель из будущего.
Ведь разве это не великая удача?
И вряд ли это сказка.
Ланжевен взглянул на браслет на руке Алисы.
Неизвестный металл, тонкая инкрустация, нечто чуждое его времени, но бесспорно реальное.
Он задумался.
Порывшись в кармане, достал – небольшого скарабея, привезённого из Египта, которому доверял, как символу своего времени.
Поднял его так, чтобы сравнить, сопоставить.
История в двух артефактах.
Два века, разделённых столом, разговором, случайным ужином.
И, возможно, самая невероятная встреча в его жизни.
За столом, где ещё витал аромат кофе и ванильного дыма, разговор от лёгкой беседы плавно переходил в в горячий оживлённый спор.
– Через два столетия учёные победили большинство смертельных болезней: онкология, Паркинсон, Альцгеймер – начала Салли, покрутив в руках бокал. – Но человечество всё ещё не добралось до звёзд. Гиперпрыжки так и остались на страницах фантастических изданий.
Ланжевен, откинувшись в кресле, медленно затянулся сигарой.
– Что ж, мадемуазель Салли, люди всегда до чего-то не добираются. У нас, например, есть блестящие открытия, но нет гарантии, что завтра не придёт новый вирус. И всё полетит псу под хвост.
Салли не отрываясь смотрела на Пьера, всё ещё удивляясь молодому живому уму своего собеседника.
– Верно, думаю что это свойственно любым открытиям и эпохам. В моём будущем хотя бы начали исследовать другие миры. Но даже в 2125 году обычному среднестатистическому жителю на курортах Марса отдохнуть не получится, – девушка расплылась в улыбке.
Гилберт, опираясь на локоть, взглянул на неё с любопытством.
– Луна? Марс? Они обитаемые?
– В каком-то смысле, да. Есть базы на Луне, исследовательский лагерь, горнодобывающая станция, – сказала Салли. – Геологи активно работают над добычей полезных ископаемых, Но в основном на спутнике технический персонал и рабочая сила. Но людей там мало по большей части синтетики, которых вовсе не отличить от обычного человека. Можно сказать зарождение второй полноценной цивилизации на планете. Но до полноценной колонизации… Это как долететь до Кеплер 22Б.
Она вздохнула.
– Пока ещё рано. Только заложили проект. Мои друзья, которые остались там: Дмитрий и Марина Верховцевы, руководители проекта.
Ланжевен прищурился.
– Но скажите, мадемуазель, что же мешает людям сделать этот шаг? Разве технологий недостаточно?
Салли улыбнулась.
– Они есть. Дело как всегда в межличностных отношениях, технологии шагнули вперёд, а глупость в купе жадностью и амбициями в голове людей осталась. Слишком много факторов стоят на пути прогресса – политика, безопасность, даже психология. Вы представляете, каково это – быть первыми жителями на планете, где ничего нет?
Гилберт усмехнулся.
– Так романтично звучит, что аж страшно.
Ланжевен снова затянулся, на этот раз чуть задумчивее.
– Всё же я бы хотел увидеть это.
Салли внимательно посмотрела на него.
– Так увидите. Если верите в научные чудеса, вы уже стали их частью.
– Да, деточка, да, но я уже слишком стар для таких экспериментов, и, думаю, там ещё отнимут у меня сигары. А вот на это я никак не согласен.
– Лучше скажите мне, дорогая мадемуазель, – учёный откинулся в кресле, – что же стало с миром через 200 лет? Франция всё ещё Франция? Или нас всех поглотил ужас и передел будущего?
– Мсье Ланжевен, мир изменился.
Она слегка улыбнулась, но в её голосе звучала тень размышлений.
– Некоторые страны исчезли, другие появились. Политические карты больше не выглядят так, как в вашем 1933 году.
Она провела пальцем по столу, неожиданно внутри она ощутила тоску по дому, но сдержалась.
– Америка? Она всё ещё великая держава, но теперь её влияние не так безоговорочно. Мир стал многополярным, и США больше не единственный центр силы.
Ланжевен прищурился.
– А Россия?
Салли кивнула.
– Россия изменилась. Она пережила кризисы, трансформации, но осталась. Её границы сжались, но её влияние всё ещё ощущается.
Она сделала паузу. Опустила голову, задумалась…
– Франция… А Франция?
Ланжевен чуть наклонился вперёд.
– Что с ней?
Салли улыбнулась.
– Франция остаётся Францией. Она пережила века, революции, войны. Её дух не исчез. Париж всё ещё Париж. Но теперь он другой – умный, технологичный, но всё так же прекрасны.
Она откинулась в кресле, превосходное Шато Марго манило своим ароматом, переливаясь в бокале.
– Мир изменился, но не исчез. Люди всё ещё спорят, мечтают, строят.
Ланжевен задумался, глядя на дым своей сигары.
– Что ж, мадемуазель, значит, будущее не так уж плохо.
Салли усмехнулась.
– Оно просто другое. Ну, если вас это успокоит, французская вино осталось превосходным.
Гилберт, удивлённо посмотрел на Салли и пожал плечами.
– Но разве вино – это главное? Культура, идеология, общество? Люди?
Ланжевен, посмотрел на камин, словно старый уставший лев, после кинул, будто невзначай:
– Люди? Дорогой мой, люди не меняются. Они так же спорят, так же жадны до истины, так же жаждут власти, так же мечтают о горох золота и бессмертии.
Алиса поставила бокал, слегка покрутила его в руках. Поль не сводил взгляда с её браслета, в отблесках камина он настораживал и, будто, подмигивал собеседникам.
– Но всё же… Было что-то лучшее в 1933 году, а что-то лучшее сейчас. Разве нет?
Салли слегка наклонила голову и волосы рассыпались по плечам золотой волной.
– О, спору нет. Например, медицина. Мы победили большинство смертельных болезней.
Ланжевен поднял брови.
– Правда? Даже чахотку?
– Даже её.
– Ну, это впечатляет.
Гилберт задумался.
– А что потеряли? Вряд ли без этого обошлось. Разве не стало в чём-то хуже?
Салли вздохнула.
– Свобода. Она изменилась. Раньше её было больше, но теперь… теперь она стала сложнее. Мир больше, но правила жёстче.
Ланжевен слегка нахмурил брови с проседью.
– Неудивительно. Человечество любит строить системы, а потом страдать от них.
Алиса рассмеялась.
– Вы говорите как истинный революционер.
– О нет, дорогая, я просто реалист.
Гилберт отпил вина, щёки Салли раскраснелись от Шато Марго, и он не отводил от неё взгляда.
– Значит, в будущем нет революций?
Салли пожала плечами.
– Есть… но они не такие, как прежде. Всё более скрытно, незаметно, как-то из подволь.
Ланжевен покачал головой.
– Вот что я скажу. У нас, в 1933 году, было больше романтизма. Больше огня. Больше страсти. И слава богу нет синтетиков с их синтетической любовью.
Гилберт улыбнулся.
– Зато через несколько столетий есть возможность прожить дольше лет на 100, и выучиться за это время чему угодно. А нищета, грязь, хаос, всё это осталось…
Салли опустила глаза, она устала, время перевалило далеко за полночь.
Ланжевен по-отечески вздохнул, ещё раз посмотрел на их тёплую компанию:
– Мои дорогие гости, сегодня вы останетесь в имении, уже поздно. И я вас никуда не отпущу. Франсуаза приготовила комнаты наверху. А мне, верно, сегодня не уснуть – мысли не дадут мне сосредоточиться на царстве Морфея.
Он широко улыбнулся.
Где-то позади французская ночь обнимала улицы Парижа, а за окном флигеля разливалась ночная песня цикад…
Салли поднялась в спальню, которую приготовила для неё горничная, и едва сдержала восторг.
– Ну, это просто неприлично прекрасно!
Она провела пальцами по деревянной раме двери, чувствуя тёплую шероховатость старого дуба.
Эти французские спальни… Что-то в них есть, что невозможно повторить.
Даже в самых искусных реконструкциях прошлого, даже в фильмах, наполненных романтикой и антиквариатом, не передавалось вот это – аромат времени, пыль веков, смешанная с запахом с благородной древесины, эхо разговоров, застывшее в гобеленах.
Она ступила на мягкий ковёр – как облако под ногами.
– А эти стены!
Голубой цвет такой нежный, будто его смешали с утренним небом и легким ветерком. Здесь можно дышать. Можно мечтать.
Нет искусственного интеллекта в каждом уголке, есть только твой внутренний друг, с которым можно часами вести диалог.
Она подошла к кровати.
Шёлковое покрывало разлилось вокруг неё волнами.
Лёгкость, нега, совершенство. Французы точно знают толк в удовольствиях.
Она провела пальцами по балдахину, прозрачному, как утренний туман.
Ах, я могла бы остаться здесь навсегда…
Не хватает только пары десятков новых шляпок с бантами, заколками и разноцветными перьями.
Но что-то ещё привлекло её внимание.
Прикроватный столик, небольшой, можно даже сказать крохотный.
На нём – маленькая фарфоровая вазочка с незабудками.
Салли улыбнулась.
Ну, это уже издевательство. Как будто кто-то специально решил довести меня до восторга.
Она наклонилась, вдохнув тонкий аромат цветов, скользнув пальцами по фарфору.
«Что ж, теперь мне остаётся всё это великолепие описать в своей книге, передать так живо, как сейчас вижу перед собой… Вот где неразрешимая задача.»
Она улыбнулась сама себе в зеркало, проводя рукой по его поверхности.
Восхищённая писательница вздохнула, огляделась ещё раз и, наконец, опустилась на кровать.
Она утонула в мягкости постели и рассмеялась.
«Невероятно. Просто невероятно.
Если бы год назад кто-нибудь сказал мне, что это приключится со мной, я бы не только не поверила этому человеку, а перестала бы напрочь с ним разговаривать.
Жуть как не люблю врунов и сказочников.
Но вот оно. Вот я здесь.
И если это – не сказка, то что тогда?
В дверь тихо постучали – неожиданно, как будто вовсе не кстати.
– Заходите, – сказала она быстро, отрывисто, словно совсем не настроенная на разговор.
Секунда тишины. Затем дверь медленно скользнула в сторону, пропуская Гилберта.
Он стоял в проёме, нерешительно, словно боролся сам с собой.
– Прости, Салли. Я не хотел тебя беспокоить… но не могу с этими мыслями уснуть. Внутри поселилась какая-то боль и как будто мне не справиться.
Лёгкий свет, почти призрачный, застревал в его волосах – чёрных, почти до плеч, создавая тонкие серебряные блики.
Ресницы – длинные, тени от них ложились на бледное лицо, придавая ему оттенок чего-то неуловимо трагичного.
Пронзительные глаза, в которых отражалась не только ночь, но и тревога, которую он не мог скрыть.
Его лицо казалось аристократически правильным, красивым, но чуть угловатым, будто мир не успел сгладить его резкие линии, как будто он был создан не для спокойствия, а для борьбы.
И вот он стоял здесь.
В комнате, где всё напоминало сон из прошлого, но где они говорили о будущем.
Гилберт шагнул внутрь, но не сразу заговорил. Он всё ещё боролся с тем, с кем спорил внутри своей головы.
«Господи, какой же я болван.
Почему я сейчас стою перед ней? Почему я здесь? И почему я не могу справиться с этими мыслями, которые пожирают меня изнутри?