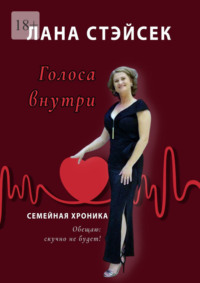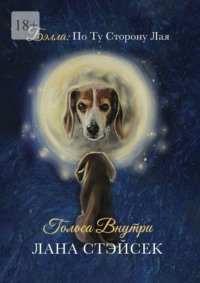Полная версия
Голоса внутри. Жизнь до и после
Когда я это делала, то чувствовала себя хорошо. Да, именно хорошо. Не от чужой боли, а от ощущения контроля. От того, что я, наконец, могу установить правила. Сказать: «Вот ты – сейчас не в силах». Потому что дома всё было наоборот. Мать – сильная, жёсткая, жила по принципу: «Сильнее значит правее». Она не допускала слабости. А я была с обострённым чувством справедливости. Слишком чувствительной к фальши, к двойным стандартам, к тому, что нельзя было назвать своими словами. И, конечно, я не вписывалась. Я возмущалась, задавала неудобные вопросы, злилась. А злость в семье не поощрялась: «Не выдумывай», «Всё нормально», «Ты опять начинаешь».
Я носила в себе всё это напряжение – злость, несправедливость, проглоченные слова. А потом попадала в место, где правила были мягче, взрослые – дальше, а иерархию можно было выстроить самой. Таким местом был пионерский лагерь – советский аналог детского летнего «побега»: государственная территория детства, где все плавали, маршировали, пели песни и делали вид, что жизнь простая.
Лагерь становился моей сценой. Моим бунтом. Моей территорией. Там я могла стать кем-то. Не по чужим правилам – по своим. Среди детей я могла быть сильной. Не тихой – яркой. Не странной – уважаемой. И если кто-то выглядел слабым, неуклюжим, «не таким» – я срывала на нём своё внутреннее напряжение. Не потому что хотела ранить. А потому что не знала, как иначе выразить свой протест.
Пионерский лагерь в Мирной Долине, Ворошиловградская область, 1986-й год. Мне – тринадцать, старовата по лагерным меркам, но я рвалась туда. Потому что дома был другой лагерь. С родителями. А там – свобода. Бассейн, походы, дискотеки, еда, в которой даже котлеты были вкусными. Я бы жила там всё лето.
В апреле 1986-го взорвался реактор в Чернобыле. Город Припять эвакуировали на следующий день. Потом начали вывозить детей – из Киева, из Ирпеня, со всей Киевской области. Разбрасывали по пионерским лагерям по всей Украине. Наш лагерь в Мирной Долине тоже принял, как мог. Нам, детям, об этом говорили вскользь. Просто начали приезжать новые. С медкарточками, с фамилиями, которые мы раньше не слышали. Ирпень, Припять – я впервые тогда узнала, что такие города вообще есть.
Они были как мы. Не испуганные, не особенные. Обычные дети, которым повезло оказаться летом не в эпицентре, а в бассейне, на дискотеке, в походе за кукурузой. Мы не знали, что там за дым. Не знали, что у кого-то уже разрушается щитовидка. Мы просто жили это лето.
А я – жила им всем телом. Потому что для меня этот лагерь был не просто лагерем. Это было спасение. Глоток воздуха. Выход из дома, где каждое утро начиналось с напряжения и страха, что ты опять всё сделаешь не так. Здесь я могла быть собой. Могла смеяться, бегать, плавать, проваливаться в ночь с песнями под гитару. Я мечтала остаться там навсегда. Серьёзно. Остаться. Хоть кем. Хоть полы мыть, хоть картошку чистить, хоть помогать вожатым. Я готова была на всё – только бы не возвращаться туда, где моё дыхание считали «слишком шумным».
Я просила маму оставить меня на два потока. Это было всё, что я могла выпросить. Два месяца. Подарок, выклянченный с боем. Мама могла достать что угодно – и путёвку, и справку, и согласие начальства. У неё связи, у неё голос. Но на третий месяц она меня бы не оставила. Ей нужно было, чтобы я вернулась. Чтоб была при ней. Чтоб не забыла, кто здесь главный. И я это чувствовала. Поэтому каждый раз, когда я ехала в лагерь, у меня внутри просыпалась надежда. А когда уезжала – сжимался живот.
Я мечтала, что может быть, если я буду хорошей, весёлой, спортивной – меня кто-то заметит. И оставит. Придумает мне работу. Или скажет: оставайся, будешь помощницей вожатой. Я бы мыла полы, я бы ночевала в подсобке, я бы делала всё – лишь бы не возвращаться в дом, где каждое слово – как пощёчина.
Лагерь стал моим первым осознанным бегством. Первым местом, где я поняла: можно жить иначе. Не под гнётом. Не в страхе. Не в вечном ощущении, что ты – лишняя. В лагере – я была кем-то. Там я могла быть главной. Не умницей, не правильной – просто сильной. И если кто-то в отряде выглядел слабым, нелепым, не таким – я цеплялась. Потому что так можно было сбросить с себя то, что я не могла вынести. Переложить своё унижение на чужие плечи. Это не красиво. Это не благородно. Но это правда.
Брат, наоборот, всё время ныл, что хочет домой. Мне было стыдно его встречать даже в столовке. Я – туда, к свободе, к воздуху. Он – назад, к родителям.
Так вот именно в этот поток, среди новых детей, которых привезли из Киева и Припяти, была она – девочка, которую я травила. Только не из «чернобыльских». Местная. Обычная. Никакой трагедией прикрыться не могла. Просто не такая. Какая-то высокая, худая, с большим носом – не вписывалась в мою детскую логику красоты. Меня в ней всё раздражало. Настолько, что я сама не замечала, как начинала смеяться, поддевать, провоцировать. И другие девчонки подключались. Как стая. Я была заводилой, а она – удобной мишенью. Не потому что что-то сделала. А потому что не могла дать отпор. А мне тогда нужен был именно тот, кто не даст отпор.
Если кто-то читает это и думает: «Фу, какая жестокая девочка была» – думайте. Я хотя бы признаю это. Я хотя бы помню. А большинство закатали свои грязные моменты в бетон памяти. Только это не значит, что их не было. Бумеранг приходит точно. Просто вы не понимаете, почему в вашей взрослой жизни всё ломается. Отношения, нервы, уверенность. А потом – здоровье. Сначала бессонница, потом гормоны, потом сердце или желудок. У кого-то – щитовидка, у кого-то – панические атаки. У кого-то – нищета, как будто сама судьба всё время вытирает о вас ноги. А у кого-то – вечная жажда быть нужным, спасать, заслуживать. Это не мистика. Это то, что не прожито. А то, что не прожито – не умирает. Оно прячется. Замирает. Ждёт. А потом вылезает, когда вы думаете, что уже всё под контролем. Вылезает в виде «непонятной злости», «почему меня никто не любит», «почему мне всё время тяжело». Потому что ты тогда не дал себе прожить. Не признал, не выплакал, не назвал. Ты просто свернул это в комок и пошёл дальше. А оно – осталось внутри. И теперь гниёт. И делает больно. Сначала – другим. Потом – тебе. Всегда в этом порядке.
Теперь я прекрасно понимаю: всё, что мне досталось потом от жизни – это не просто «невезение» или «так сложилось». Это бумеранг. Это те самые камни, которые я сама когда-то швырнула в других, думая, что они улетят бесследно. Не улетели. Жизнь вернула. Только больнее, глубже, взрослее. Сначала – холодом матери. Потом – отношениями, где меня ломали и выжимали. Я знала, что значит быть той, на кого выливают чужое бессилие. Потому что сама это делала – раньше. Просто в детской форме. Но боль от формы не зависит.
Я не горжусь этим. Но и не прячусь. Я не отмываю свою биографию под чистую. Я говорю: да, я это делала. И я это поняла. И именно поэтому – не повторяю.
Если ты читаешь это и тебе стыдно за что-то своё – признайся. Не мне. Себе. Страх признаться – это продолжение того самого насилия. Спрятал, запер, отрезал – и ходишь с этим, как с грузом, не понимая, почему падаешь под чужими словами или не выдерживаешь одиночества. Правда не убивает. Она освобождает.
Мы все сделали что-то, за что нам стыдно. Только одни делают вид, что нет. А другие – вытаскивают на свет. И становятся сильнее.
Я выбрала второе. Я разорвала эту цепочку. Не сразу. Не легко. Но я её вижу. И когда ты видишь цепочку – ты можешь перестать быть её звеном.
Глава 3. Без нытья,
без поблажек,
без «мне не повезло»
Почему нам вдруг начинает казаться, что мы такие умные и начитанные? Что теперь-то мы точно понимаем, что с нами делали, кто в чём виноват и как всё это работает? Травмы, родовые сценарии, психология, мамы, бабушки, бессознательное. Красивая схема. Только за ней – моё детство. Я как будто пересматриваю его как старый фильм, но уже с новым звуком. Тогда – просто боль, обида, одиночество. Сейчас – видно: всё это было не просто так. Это была система. Я в неё попала не по своей воле. Просто родилась в ней. В этой семье. Стала частью цепочки женщин, где каждая тащит своё, и никто не спрашивает, хочешь ли ты тоже нести.
Я была подростком, когда поняла: я не хочу быть такой, как моя мать. Не потому что я её ненавидела. А потому что мне было больно. Она была – но как будто мимо. Физически рядом, а по-настоящему – далеко. Как будто между нами было стекло: ты видишь человека, но прикоснуться не можешь. Я смотрела на неё и понимала – я, её дочь, остаюсь одна. С тревогой, с обидами, с вопросами. И тогда, внутри себя, я пообещала: когда у меня будет дочка, я сделаю по-другому.
Я не знала как, но точно знала – не так.
А потом жизнь сделала кульбит: я родила ребёнка в семнадцать лет. Рано. Неподготовленно. Неосознанно. И первое время я вообще не чувствовала себя матерью. Он был – маленький человек, живущий со мной. Его надо было кормить, купать, одевать. Как будто я взяла ответственность, но душа ещё не догнала тело. Я не была плохой – я была потерянной. Я не знала, что такое быть с ребёнком по-настоящему. Потому что со мной так не были.
А потом появилась Влада. И вместе с ней – память о той подростковой клятве. Вот она, моя дочка. Та, ради которой я хотела всё изменить. Я начала делать, как умела. Я не стала добренькой. Я не была мамочкой, излучающей бесконечное терпение. Я могла орать. Могла злиться. Я тоже уставала. Но я была с ней. Заплетала косички. Шила одежду. Вела за руку. Провожала туда, куда сама когда-то ходила одна. Это и было моё материнство. Грубое, упрямое, но настоящее.
Теперь я понимаю: моя мама не выбирала быть далёкой – она просто никогда не училась быть близкой. Со своей матерью она жила только до семи лет. Потом случился пожар, и её отправили к тётке. И выросла она уже там. К своей родной матери приезжала редко, эпизодами, почти как в гости, к чужой. А откуда взяться искусству любить? Кто должен был её этому научить – теплу, прикосновению, безопасности? Любовь – это не инстинкт. Её надо прожить, чтобы потом передать. Она не прожила. И не могла передать. Вместо любви она принесла то, что знала: отстранённость, выживание, молчание. Вот что её вырастило. И вот что она несла дальше. Не потому что хотела, а потому что больше ничего в руках не было.
Иногда я думаю: если бы тогда не случился пожар? Если бы она осталась с родителями, если бы её мама была рядом – настоящая, тёплая, включённая? Стала бы моя мама другой? И стала бы я другой? Была бы я – я? Или была бы кем-то ещё: мягче, доверчивей, проще? В такие моменты приходит странный ответ: наверное, нет. Не хотела бы. Потому что, возможно, именно из этой нехватки и вырос мой характер. Моя злость. Моё «я так не хочу». Моя сила. Я несу другое – потому что когда-то что-то внутри меня встало и отказалось продолжать старую тишину.
Она не передала любовь – она передала тишину. А я выбрала не делать из неё язык общения. Потому что в каждой цепочке может быть та, кто скажет: «Стоп. Хватит». Та, кто почувствовала, где именно болит. Кто увидела, чего ей не дали – и решила не повторять. Даже если не знает, как по-другому. Даже если страшно, непривычно, больно. Я – та. Я учусь. Я пробую. Я ломаю этот круг. Я не отдам это дальше.
Из боли можно вылезти. Из оправданий – нет.
И да, это было трудно. Я не была идеальной. Я путалась, срывалась, закрывалась. Но я не замёрзла. Не ушла в холод. Я осталась живой. Училась быть рядом. Не всегда нежной – но настоящей. Это не подвиг. Это просто другой путь. И это уже совсем другая история.
Я никогда не обвиняла свою мать за то, какой она была. Ни в подростковом возрасте, ни позже. Злилась – да. Обижалась – конечно. Но обвинять – нет. Обвинение требует отдачи: ты виноват, ты должен. А я рано поняла – она не может. У неё просто нет того, чего я от неё ждала.
Я знала, что не хочу быть такой. Не хочу жить сквозь стекло, не хочу говорить между строк, не хочу быть матерью по инструкции. Но я не упрекала. Потому что за каждым её «не дала» стояло другое – «не получила».
А потом, уже взрослая, когда прожила своё, я вдруг увидела это с другой стороны. Если бы всё в детстве было мягко и гладко – я бы не стала собой. Не было бы внутреннего огня. Не было бы этой жажды – понять, пробиться и вырваться. Я бы, может, и не пыталась ничего менять. Не пошла бы искать. Не стала бы задавать себе вопросы. А я пошла. Я вцепилась в жизнь зубами. Не из-за амбиций – из-за боли. Хотелось по-другому. Хотелось доказать, что можно иначе.
У меня не было мании достижений. Но у меня была сила. Упрямая, необъяснимая. Сила двигаться, начинать с нуля, рисковать, заявлять: «А я, вообще-то, на свою „пенсию“ выхожу в 50». Да, «пенсия» – но не на даче с рассадой и не с кошкой на коленях. А чтобы не вставать по чужому будильнику, не объяснять, зачем тебе выходной, и не зависеть от настроения начальства. Чтобы самой решать, когда работать, сколько, с кем и по каким правилам. Потому что, когда ты выживал в детстве – ты потом не боишься жить по-своему. У тебя уже есть прививка от страха.
Да, я стала такой именно благодаря всему, что тогда казалось несправедливым. Благодаря холодному молчанию. Благодаря тому, что слишком рано поняла: рассчитывать можно только на себя. И именно это знание потом дало мне то, чего больше всего не хватало в детстве – свободу.
Я сейчас говорю не о ней. Я говорю о себе. О том, кем я стала. О том, как боль может превратиться в топливо. Как обида может перерасти в силу. И как в самой тёмной точке детства может лежать ответ на главный вопрос: «А что сделало меня мной?»
Я не стала одной из тех, кто, как только что-то не получается, сразу начинает искать виноватого. Знакомый типаж: как только жизнь не выдала конфетку, начинается парад обвинений: «Это всё мать недолюбила», «Начальник – урод», «Страна не та», «Соседи сглазили», «Президент испортил гороскоп». Все виноваты, кроме самого человека. Прям хоровод проклятий.
А я – нет. Я не из этого клуба. Мне бы даже, может, иногда и хотелось туда вступить – удобно же. Но я туда не влезла. Потому что у меня с детства был встроенный фильтр: либо ты берёшь свою жизнь в руки, либо продолжаешь ныть и ждать, пока кто-то тебе принесёт счастье на блюде. А у меня блюд не было. И счастья на подносе тоже никто не предлагал.
Да, у меня было жёсткое детство. Да, много несправедливости. Но именно это меня и научило: если не ты – то никто. Если не сейчас – то никогда. И если начнёшь раздавать чувство вины, как новогодние мандарины, то очень быстро останешься и без сил, и без шансов.
Я не стала одной из тех, кто при каждой неудаче ищет, кого бы обвинить. У меня это даже не привычка – это инстинкт. Если провал – значит, надо разобраться, что я не так сделала. Где недожала. Где промолчала. Где пошла по кругу. А не хвататься за первое попавшееся: «Это всё потому, что мне в детстве не разрешали брать второй кусок пирога».
Вход без билета.
Выход – только через мозг
Я не умею жить в режиме «виноваты все, кроме меня». А вот мой сын – к сожалению, умеет. Он как раз из этого клуба. Почётный член. Стаж с юности. Там, где я сжимаю зубы и думаю, как вытащить себя за волосы из ситуации, он первым делом озирается: кто на этот раз? Родители? Государство? Соседи, видимо, опять не так смотрели. Мир – он к нему несправедливый. Вселенная не выдала нужную карту. Мать – не та. Отец – здесь вообще бардак. Всё внешнее. Всегда.
И вот тут я ничего не могу. Потому что этот клуб – он добровольный. Никто туда не заталкивает. И никто, кроме самого человека, не может подать заявление об уходе. Хочешь быть жертвой – будешь. Сколько угодно.
Я-то думала, что если сама вытащила себя из болота, то и дети как-то впитают эту способность. Но вот парадокс: иногда дети не берут сильное. Иногда они хватают слабое. Не потому что хотят, а потому что проще. А сильное – это же всегда выбор. И усилие. И боль. И честность с собой. А жертва – она мягкая, уютная. Там всегда есть виноватые, а значит, есть на кого обидеться.
Мне больно это видеть. Потому что я его люблю. Потому что я не хотела, чтобы он жил так – с пальцем, вечно указывающим на кого-то другого. Но я не могу за него прожить. И не могу заставить выйти из этого клуба. Только он сам. Если захочет. Если устанет. Если поймёт, что жизнь – это не про справедливость, а про движение.
А пока – я просто рядом. Не чтобы вытирать слёзы. А чтобы он знал: дверь открыта. Но пройти через неё всё равно придётся самому.
Я никогда не строила себе удобный нарратив: «у меня не получилось, потому что мне не дали». Мать была холодной – да. Но я не пошла от этого к оправданию, что поэтому у меня с мужиками не ладится. Меня не поддерживали – но я не сказала себе: «ну вот, значит, и бизнеса не будет». У меня никто ничего не забрал. И никто ничего не дал. Я просто не позволила себе сдаться. Потому что знала: как только я начну искать виноватого – всё. Я уже проиграла.
Было бы удобно. Вот честно. Жить с мыслью: «я хорошая, просто меня не поняли». Построить уютную клетку из обвинений. Накрыться жалостью, как пледом. Перекладывать вину – и ждать, что когда-нибудь её вернут в виде любви. Удобно – но не моё. Не моя клетка. Не мой плед. Не мой путь.
Так что – да, спасибо, и матери, и обстоятельствам, и холодной кухне, где я сидела одна. Это всё не сделало меня жертвой. Это сделало меня той, кто умеет встать, выпрямиться и сказать: «Да, было. И что? Я здесь. Я иду дальше».
Глава 4. Афган. Вьетнам.
Одна и та же тишина
Мой первый Афган
Мне было тринадцать. 1986-й год. Именно тогда я впервые поняла, что такое Афган. Не из книжек, не с экрана – а вживую. Через бетонную стену и тонкую дверь напротив. Мы жили на девятом этаже. В соседней квартире – мать и два сына. Младшего, Володю, я знала. Он был старше меня на пару лет, но мы почти не общались. В лифте короткое «привет», и всё. Он уже считался взрослым, а у нас, подростков, было негласное правило: взрослые – отдельно, дети – сами по себе.
У Володи был брат – Виктор. Его забрали в армию. В Афганистан. Это тогда звучало как приговор. Даже мы, дети, уже знали: туда отправляют восемнадцатилетних пацанов, а возвращаются – если возвращаются – либо в гробу, либо изуродованные. И не только телом.
Война в Афганистане началась в 1979 году. Тогда по телевизору говорили: «интернациональная помощь братскому народу». Красивые слова – а по факту это была чужая, грязная, не нужная нам война. Туда гнали пацанов, как в топку. Им было по восемнадцать. Их никто не спрашивал – просто отправляли. А потом – либо цинк, либо тишина. А если и возвращались, то с ними возвращалось то, что уже не лечится. Ни врачами, ни временем.
Виктор вернулся. Без ноги. Красивый, высокий, лицо, как из кино, а взгляд – чужой. Протез у него был деревянный, тяжёлый, как что-то из другого времени. Он надевал его, выходил во двор – и шёл, как будто сквозь бетон. Этот протез не был частью его тела. Он топал им, как будто отмахивался. Как будто с каждой тяжёлой поступью говорил: «я здесь, но я не с вами». Он был живой, но не внутри.
А дома – мать-алкоголичка. Пила без тормозов, водила кого попало. В однушке – трое, но каждый жил отдельно, по своей линии. Виктор жил в тишине. Не спрашивал, не жаловался, не объяснял. Просто ходил. Дышал. Молчал. Как выживший, которого позабыли.
Слово «Афган» тогда не кричали. Оно само кричало. Его никто не произносил – но все знали, что оно значит. Даже мы, дети, чувствовали: за этим словом – смерть. Или то, что хуже. Медленная смерть в теле, которое не знает, что с ним делать.
Однажды я возвращалась из школы. У подъезда – толпа, все смотрели наверх. Я подняла глаза и не поверила: Виктор висел на балконе девятого этажа. Одна нога. Белые от напряжения руки. Внизу – гул голосов, кто-то звал, кто-то метался. А он просто висел. И молчал. Это не была попытка умереть. Это был немой крик: «Я не справляюсь». Только без слов. Только телом. Только этой невыносимой картинкой.
Потом сказали – срыв. Нервы. А я уже тогда подумала: а как они вообще должны были выдержать? Ему чуть за двадцать. Он только начал жить. Его бросили в ад. Вернули без ноги. Без будущего. Без возможности дышать спокойно. Кто-нибудь спросил, как он теперь будет спать? Что он чувствует, когда за окном взрываются петарды? Куда ему деть эту боль, которая не проходит ни днём, ни ночью?
Я, ребёнок, уже тогда знала: алкоголика можно положить в больницу. А таких, как Виктор, – некуда. Их никто не хотел видеть. Их боль – неудобна. Их тишина – слишком громкая. Государство отмахнулось: «Долг выполнен? Молодец. Свободен». Психологи? Реабилитация? Системная поддержка? Не смешите. Мужик должен терпеть. Мужик молчит. А потом – прыгает с балкона.
Потом умерла их мать. Утонула в ванне, пьяная. Володя нашёл. Мы с мамой сидели на кухне. И вдруг – этот крик. Ненормальный. Животный. Я выскочила в подъезд – Володя бился, метался, кричал, как зверь. Не словами. А всем телом. Тогда я впервые услышала, как звучит отчаяние. Не «помогите», не «за что» – а просто чистый звук, в котором нет надежды.
Что стало потом – не знаю. Виктор исчез. Володя – тоже. Как будто их вытерли. Ни слов, ни следов. Только память – как кадр, который не сотрёшь. Этот балкон. Этот шаг. Эта нога, стучащая по асфальту, будто взывая к жизни. Эти руки, вцепившиеся в реальность, как будто она могла ответить. Виктор был мой первый Афган. Не в телевизоре. А за стенкой. За тонкой бетонной стенкой. Он больше не говорил – он писал. Себя. Боль. Молчание.
Потом я где-то услышала, что в городе якобы был Союз ветеранов Афгана. Может, и был. Только если и существовал – то для галочки. Для отчёта. Для видимости. В лучшем случае – табличка на подвале и два чёрно-белых портрета на стене. Никакой поддержки. Никакой настоящей помощи. Таких, как Виктор, не вытаскивали. Не лечили. Не слышали. Их просто списывали. Без шума. Без слов. Чтобы не мешали остальным делать вид, что всё в порядке.
Эти союзы создавались не для них. А для системы. Чтобы отчитаться. Чтобы показать: «Мы помним». Чтобы кто-то прошёл в колонне на 9-е Мая. Не для боли – для парада. Не для живых – для картинки.
Мой Вьетнам
Таких, как Виктор, в картинку не вставишь. Они – неформат. Слишком реальные. Но я помню. Я слышала, как он шёл. И мне этого хватило, чтобы понять: война – это не где-то. Это рядом.
Спустя годы я встретила его снова. Только уже не в Украине – тогда это ещё был Советский Союз. И не под именем Виктор.
Эта история случилась в Америке. Я тогда уже работала в автосалоне. Среди клиентов был один, которого все старались избегать. Молчаливый. Угрюмый. Не покупает. Просто приходит, смотрит. И – тишина. Опасный, казалось бы. Но главное – не говорил. Вообще.
Его звали Джордж. Он был ветераном Вьетнама.
И вот тут всё сложилось. Мой Афган – вот он. Только другой язык. Другая форма. Тот же взгляд. Та же боль, которую некуда деть. У Джорджа действительно не было языка. Ему его отрезали. Вьетнам. Плен. Шрам шёл поперёк лица. Трубка в горле. Издавал звуки, но по сути – только писал. Блокнот, ручка, короткие фразы: «да», «нет», «другое», «не надо». Всё – по делу. Ни лишнего, ни жалости.
Лицо у него было перекошенное, как у сломанной куклы. Дышал тяжело. Иногда приходила жена – говорила за него. Но чаще – молчание. Просто присутствие. Угрюмое, усталое, непрошенное. Как будто он не жил, а дожидался конца. И в этом его молчании я узнала то, что уже когда-то слышала. Не ушами – внутри. Это была та же тишина. Только теперь – на другом языке.
Кто-то спросит: «Откуда ты всё это знаешь?» Тогда не было интернета, не пробивали биографии. Но было время. Было доверие. Было желание быть рядом, а не отвернуться. Он не рассказывал – он показывал. Он писал. Он был – весь в тишине. Вьетнам вырезал ему голос, но не душу.
Через пару лет он купил. Две машины. Наличными. Без кредитов. Его жена сказала: у них всё есть. Пенсия. Сбережения. Медицинская помощь. Государство позаботилось. Не оставили. Не выкинули. Да, Америка тоже не сразу очнулась. Когда солдаты возвращались из Вьетнама, их встречали как палачей. Их гнобили. Не понимали. Но потом – начали исправлять. Министерство ветеранов. Помощь. Программы. Да, не всех спасли. Но кого-то – успели подхватить.
И Джордж – один из них. Без языка, но с тем, что не дало ему сгнить у вокзала. Он мог бы. В другой стране – точно бы. Но здесь у него была система. Живой, не отрезанный от жизни. И это, как ни крути, уже разница.
Все они возвращаются сломанными. Афган, Вьетнам, хоть Наполеоновские войны – не важно. Только одни возвращаются в страну, где им подставляют плечо. А другие – в страну, где говорят: «Молчи и терпи». И они молчат. А мы потом: «Что за нервный?» Нет. Не нервный. Просто выживший.
Обломки, которые никто не собирал