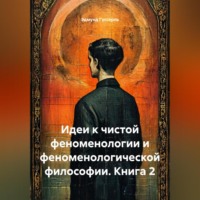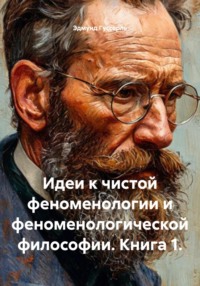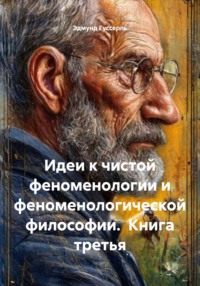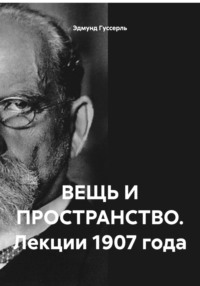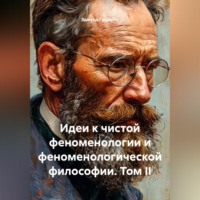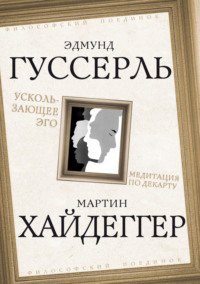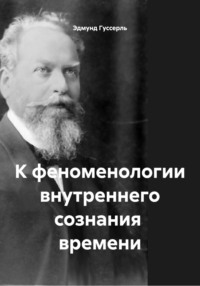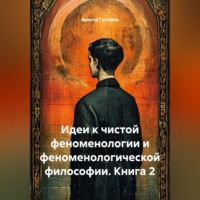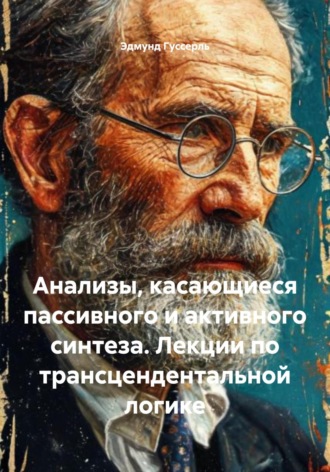
Полная версия
Анализы, касающиеся пассивного и активного синтеза. Лекции по трансцендентальной логике
3. Частичное исполнение и сохранение рамки: Важнейший момент: разочарование не разрушает единство восприятия полностью. Общая "рамка смысла" (например, "это цветной, протяженный объект определенной формы") сохраняется и исполняется. Аннулируется лишь часть антиципирующей интенции, относящаяся к конкретному месту ("это место не красное, а зеленое"). Без этого минимального сохранения единства синтеза интенциональное переживание распалось бы.
4. Ретроактивное вычеркивание (Rückstreichung): Эффект разочарования не ограничивается настоящим моментом. Он излучается назад в ретенциональную сферу (непосредственное удержание только что прошедшего). Смысл предшествующих фаз восприятия (когда мы видели "переднюю" сторону и ожидали красное/круглое продолжение) модально трансформируется. Они переинтерпретируются в свете нового знания: то, что ретенционально удерживалось как "красное и округлое" (или как мотивирующее это ожидание), теперь сознается как "на самом деле зеленое и вдавленное" в том месте. Старый смысл не стирается; он удерживается, но с характером "вычеркнутости", "аннулированности". Возникает удвоение смысла: актуальный, "действительный" смысл ("зеленое, вдавленное") и вычеркнутый, "недействительный" смысл ("красное, округлое") как его фон.
5. Восстановление конкордантности: После аннулирования и подстановки нового смысла ("зеленый", "вдавленный") восприятие восстанавливает конкордантность на новой основе. Дальнейшее течение явлений теперь согласуется с этим новым смыслом. Однако это уже модализованная конкордантность – она несет в себе след конфликта и вычеркивания.
Трудные моменты и пояснения:
Интенциональность и апперцепция: Гуссерль использует термины "интенция", "апперцепция", "аппрегендирование" (Auffassung). Интенция – это направленность сознания на объект или его аспект. Апперцепция – это схватывание наличных ощущений (гилетических данных) как чегото ("как красного", "как шара"), наделение их смыслом. Именно апперцептивные схемы порождают лучи ожиданий. Разочарование – это конфликт между двумя апперцепциями, наложенными друг на друга: старой (аннулированной) и новой (исполняющейся).
Ноэзис и Ноэма: В ноэтическом аспекте (ноэзис) разочарование – это модификация акта полагания (Glaubensmodus): из достоверности в аннулированную достоверность. В ноэматическом аспекте (ноэма) – это модификация смысла объекта и его модуса бытия: из "просто сущего красного" в "некрасное (аннулированное), а скорее зеленое (действительное)".
Пассивность синтеза: Хотя результат осознается (мы видим зеленое и понимаем, что ошиблись), сам синтез конфликта, аннулирования и ретроактивного вычеркивания происходит пассивно. Это не результат активного суждения или вывода; это спонтанное событие в потоке сознания, обусловленное силой наличной данности ("во плоти") против пустого предвосхищения.
Модус бытия "Нуль": "Нуль" (Null) – это не ничто, а специфический модус данности интендированного. Аннулированное "красное" не исчезает; оно дано именно как то, что не осуществилось, как "разочарованное ожидание". Это феноменологическое происхождение логического отрицания.
Идентичность объективного смысла: Гуссерль подчеркивает, что объективный смысл ("цвет в этом месте поверхности объекта") остается идентичным до и после разочарования. Меняется не что интендируется (аспект цвета), а его как – его модус бытия (действительный vs. аннулированный). Это различение смысла (Sinn) и модуса бытия (Seinsmodus) критически важно.
Связь с другими философами и науками:
Брентано: Гуссерль критически отсылает к Францу Брентано, чье учение о суждении (как признании или отрицании) он считает недостаточно проясненным феноменологически. Гуссерль показывает, что корни полагания/отрицания лежат глубже – в пассивных синтезах восприятия, а не только в активных суждениях. Путаница Брентано, по Гуссерлю, связана с непониманием этой допредикативной основы модусов.
Теория суждения (Милль, Зигварт): Гуссерль утверждает, что феноменологический анализ восприятия дает ключ к подлинному пониманию достоверности и модусов бытия, которые лишь формализуются в логике (теории суждения). Он видит свою задачу в прояснении истоков этих логических категорий.
Когнитивная психология/Нейронауки: Концепт "прогрессирующих ожиданий" и их "разочарования" предвосхищает современные теории прогнозирующего кодирования (predictive coding) в мозге, где восприятие рассматривается как процесс генерации предсказаний (ожиданий) и минимизации ошибки предсказания (разочарования). Нейронные корреляты "ошибки предсказания" можно увидеть как биологическую основу гуссерлевского феномена разочарования.
Научные революции (Кун): Процесс ретроактивного вычеркивания и переинтерпретации прошлого опыта в свете нового (аннулирующего) знания – это микроуровень того, что Томас Кун описал на макроуровне научных революций ("Структура научных революций"). Старая парадигма (старый перцептивный смысл) не стирается, но переинтерпретируется или "вычеркивается" в свете аномалий (разочарований), ведущих к новой парадигме (новому перцептивному смыслу).
Источники для углубленного изучения:
1. Первичные источники Гуссерля:
Гуссерль, Э. Анализы, касающиеся пассивного и активного синтеза: Из лекций по трансцендентальной логике (19201926) / Пер. с нем. А.Г. Чернякова. СПб.: Издательство РХГА, 2016. (Husserliana XI: Analysen zur passiven Synthesis).
Гуссерль, Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга 1 / Пер. с нем. А.В. Михайлова. М.: Академический Проект, 2021. (Особенно §§ 103106, 138140 о внимании, интенциональности, горизонтах). (Husserliana III/1: Ideen I).
Гуссерль, Э. Опыт и суждение. Исследование по генеалогии логики / Пер. с нем. Е.А. Наймана, Д.В. Скляднева. СПб.: Издательство С.Петерб. унта, 2004. (Особенно §§ 621 о пассивности, ассоциации, предикативном суждении). (Erfahrung und Urteil).
2. Ключевые вторичные источники:
МерлоПонти, М. Феноменология восприятия / Пер. с фр. под ред. И.С. Вдовиной, С.Л. Фокина. СПб.: Ювента; Наука, 1999. (Глубоко развивает темы телесности, перцептивной веры и двусмысленности восприятия, основываясь на Гуссерле).
Сартр, Ж.П. Воображаемое. Феноменологическая психология воображения / Пер. с фр. М. Бекетовой. СПб.: Наука, 2001. (Содержит важный анализ образа и негативности, отталкиваясь от Гуссерля).
Захави, Д. Гуссерлева феноменология / Пер. с англ. Л.Б. Макеевой. М.: Издательство Института Гайдара, 2020. (Отличное современное введение, включающее анализ пассивности и интерсубъективности).
Моханти, Дж. Н. Феноменология. Между необходимым и возможным: Гуссерльская концепция трансцендентальной философии / Пер. с англ. В.Г. Лысенко. Мн.: Экономпресс, 2011. (Классический анализ, уделяющий внимание интенциональности и опыту).
Бимонт, Р. Пассивность и самоаффектация у Гуссерля // Логос. 2011. № 1(80). С. 135–152. (Специализированная статья, непосредственно касающаяся темы пассивных синтезов).
Steinbock, A.J. Home and Beyond: Generative Phenomenology after Husserl. Northwestern University Press, 1995. (Сложная, но важная работа о "генеративной" феноменологии, развивающей идеи позднего Гуссерля, включая пассивность и историчность).
Заключение: Гуссерль в этих параграфах демонстрирует, что отрицание – не просто логическая операция или результат активного суждения. Оно коренится в фундаментальной структуре самого перцептивного опыта как пассивное событие разочарования – конфликта между исполняющимися данными чувств и предвосхищающими интенциями. Этот конфликт приводит к аннулированию ожидания, его превращению в "нуль", и ретроактивному вычеркиванию предшествующего смысла, что модально трансформирует сознание объекта. При этом единство опыта сохраняется через частичное исполнение и восстановление конкордантности на новой основе. Этот анализ раскрывает пассивные, допредикативные истоки модусов бытия (действительность, возможность, отрицание), лежащих в основе логики и активного познания, и показывает динамическую, подверженную конфликтам и трансформациям природу конституирования смысла в сознании.
Глава 2: Модус сомнения.
§8. Конфликт двух наложенных перцептивных аппрегензий с единым гилетическим фондом
Рассмотрим теперь еще один родственный, возможный тип события, проявляющий модус перехода к отрицающему аннулированию, но способный также существовать как длящееся состояние. Я имею в виду феномен разрешимого сомнения, будь то в форме отрицания или же утверждения; в первом случае [отрицания] – как в ранее приведенном примере разоблачения иллюзии в сознании: изначально видимое как человек становится сомнительным и в итоге раскрывается как восковая фигура. Или же, наоборот, сомнение разрешается в утвердительной форме: да, это действительно человек.
В период сомнения относительно того, является ли объект реальным человеком или восковой фигурой, две перцептивные аппрегензии очевидно накладываются. Одна из них пребывает в нормально протекающем восприятии, с которого мы начали: мы видим человека здесь какоето время, согласованно и беспроблемно, подобно другим вещам в окружении; это были нормальные интенции, частично исполненные, частично неисполненные, исполняющиеся обычным образом в непрерывной последовательности перцептивных процессов, без какоголибо конфликта, без какоголибо разрыва. Последующее же – не чистый разрыв в форме решающего разочарования, не разрыв, при котором перцептивная явленность нормального интенционального типа сталкивается с пробужденным компонентом ожидания и, перечеркивая его своей полнотой, покрывает и аннулирует его. Скорее, в нашем примере мы имеем ситуацию, когда внезапно полное конкретное содержание подлинной явленности (наряду с изначальным пустым горизонтом и изначальным предвосхищающим схватыванием) обретает второе содержание, накладывающееся на первое: визуальная явленность, пространственная форма, наполненная цветом, была прежде наделена ореолом интенций аппрегензии, придающих смысл «человеческое тело» и «человек как таковой». Теперь же на это накладывается смысл «наряженная восковая фигура». В отношении действительно видимого ничего не изменилось; более того, они [смыслы] имеют даже больше общего: оба разделяют апперципируемую одежду, волосы и т.д. Но в одном случае это плоть и кровь, в другом – воск.
Возвращаясь к ультимативным структурам, мы можем также сказать: один и тот же фонд гилетических данных служит общей опорой для двух накладывающихся аппрегензий. Ни одна из них не перечеркивается в период сомнения; они пребывают здесь во взаимной борьбе; каждая обладает, так сказать, своей собственной силой, каждая мотивирована, востребована, если угодно, предшествующей перцептивной ситуацией и ее интенциональным содержанием. Но требование сталкивается с требованием, одна оспаривает другую и сама оспаривается другой тем же образом. В сомнении остается неразрешенная борьба. Поскольку объектное образование конституируется лишь пустыми горизонтами вместе с общим, подлинно интуируемым ядром, мы, соответственно, имеем раздвоение изначального, нормального восприятия (которое конституировало лишь один смысл в согласованности), в некую двойственность, как бы в форму удвоенного восприятия. Благодаря общему ядерному содержанию мы имеем два взаимопроникающих восприятия. Однако, строго говоря, это выражение не вполне подходит. Ибо их конфликт означает также определенное взаимное подавление: если одна аппрегензия одолевает общее интуитивное ядро, если она актуализируется, мы, например, увидим человека. Но вторая аппрегензия, направленная на восковую фигуру, не стала ничем; она подавлена и выведена из строя. Затем, например, аппрегензия «восковая фигура» навязывается, и соответственно мы теперь видим восковую фигуру; но теперь аппрегензия «человек» уже не функционирует, она подавлена.
Однако это верно не только для мгновенной ситуации восприятия, для фазы Теперь. Ибо мы распознаем здесь также существенную ретроактивную действенность конфликта на оттекший процесс переживания: мы распознаем в этом самом переживании распад сознания единичного смысла в сознание множественного смысла; то есть процесс раздвоения с его апперцептивным наложением проникает в ретенциональное сознание. Если мы эксплицитно презентируем протяженность восприятия, предшествующую сомнению, то она уже не будет пребывать в своем единичном смысле, как любое иное воспоминание; напротив, она обрела то же удвоение; апперцепция восковой фигуры повсюду наложена на апперцепцию человека. Но не менее важно – более того, это первостепенно важно – то, что удвоение не является подлинным удвоением восприятий, даже несмотря на то, что фундаментальный характер восприятия – сознание чегото данного во плоти – присутствует в обоих случаях. Если аппрегензия человека внезапно сменяется аппрегензией восковой фигуры, то человек будет сначала стоять там в своей данности во плоти, а затем восковая фигура. Но по правде ни то, ни другое не присутствует там так, как человек до начала сомнения. Очевидно, модус сознания изменился, хотя объективный смысл и его модусы явленности, как прежде, имеют модус данности во плоти. Фактически, мы еще не до конца учли существенно измененный модус веры или модус бытия. То, как мы осознаем являющееся во плоти, иное. Вместо того чтобы быть данным сознанию именно как простонапросто присутствующее, как в нормальном, однозначном восприятии, т.е. в восприятии, протекающем согласованно, оно теперь дано нам как проблематичное, как сомнительное, как спорное: оно оспаривается другой данностью, данностью во плоти, данностью другой аппрегензии, пронизывающей его и конфликтующей с ним.
Мы можем выразить это также следующим образом: сознание, дающее свой объект во плоти (изначально), имеет не только модус данности во плоти, отличающий его от презентирующего сознания и пустого сознания (ни одно из которых не представляет тот же смысл во плоти); оно имеет также переменный модус бытия или переменный модус значимости. Изначальное, нормальное восприятие имеет примордиальный модус – «значимое симплицитер»; это то, что мы называем прямой, наивной достоверностью. Являющийся объект присутствует в беспроблемной и непрерывной достоверности. Беспроблемность указывает на возможные оспаривания или даже на разрывы, именно на те, что мы только что описали, и, становясь раздвоенным, объект претерпевает модификацию в своем модусе значимости. В сомнении обе конфликтующие данности во плоти имеют один и тот же модус значимости – «проблематичный», и каждая проблематичная данность именно оспаривается и ставится под сомнение другой.
Мы уже видим здесь, что продемонстрированное для восприятия как сознания чегото данного во плоти должно быть перенесено и на воспоминание. Ибо модализация происходит и в воспоминании благодаря обратному излучению в ретенцию, а следовательно, и в припоминание, которое эксплицирует [ретенированное]. Естественно, мы имеем здесь в виду лишь сегменты прошлого для того же самого объекта, который продолжает длиться как присутствующий во плоти. Тогда как нормальное воспоминание (благодаря тому, что оно есть репродукция нормального восприятия) дает репродуцируемое в нормальном модусе значимости, достоверности как несомненно существующего, воспоминание, обремененное рассогласованием изза этого обратного излучения, дает измененный модус значимости – «проблематичный», сомнительно ли, было ли это тем или этим, было ли это человеком или восковой фигурой.
§9. Разрешение сомнения через переход к утверждающей достоверности или отрицанию
Возможность решения, разрешения и возможность их потенциально активных форм принадлежат к самой сущности сомнения. Сомнение же само означает нерешительность, сознание есть нерешительное сознание. В сфере восприятия решение необходимо осуществляется так, что по мере перехода к новым явленностям (например, в свободном развертывании соответствующих протекающих кинестезий) подходящая полнота, соответствующая ожиданию, интегрируется в один из тех пустых горизонтов, вовлеченных во взаимный спор. Это самая изначальная форма решения. В данной интенциональной ситуации модифицированные или совершенно новые смысловые данные, возникающие, требуют именно [тех] аппрегензий, которые завершают оставшиеся беспроблемные интенции; они требуют аппрегензий для завершения интенций таким образом, чтобы источник спора был устранен, и то, что особенно мотивирует сомнение, было бы аннулировано силой примордиального впечатления. Исполнение через примордиальное впечатление есть сила, которая сокрушает все. Мы приближаемся к нему, мы схватываем его рукой, осязаем его, и сомнительная интенция воска, которую мы только что имели, обретает приоритет достоверности. Она обретает его через согласованный переход к новым явленностям, которые не согласуются с аппрегензией человека и его неисполненными горизонтами, и отрицают последние своим исполняющим весом данности во плоти. В отношении одного случая в этом решении происходит отрицание; в частности, оно происходит в отношении аппрегензии человека, направлявшей изначальное восприятие и затем модализированной как сомнительная. В противоположном случае произошло бы утверждение или, что то же самое, ратификация изначального восприятия, ставшего впоследствии сомнительным. То, что явилось во плоти, получило бы тогда модальный характеристик значимости «да, действительно».
Итак, в определенном отношении даже утверждающее «Да», подобно «Нет», есть модус модификации определенной значимости и отличается от совершенно изначального, совершенно немодифицированного модуса определенной значимости; прямое конституирование перцептивного объекта осуществляется однозначно в этом модусе и без борьбы. Но я сказал «в определенном отношении». Ибо говорить о «модализации» двусмысленно. С одной стороны, мы можем иметь в виду каждое преобразование модуса значимости, отличного от изначального модуса значимости, наивной достоверности, так сказать, не разорванной рассогласованием или сомнением. А с другой стороны, мы можем иметь в виду преобразование, затрагивающее модус значимости достоверности, когда она перестает быть достоверностью. Примордиальный модус есть достоверность, но в форме самой прямой достоверности. Подобно тому как утверждающее решение происходит через прохождение периода сомнения, так и мы имеем восстановление достоверности; когда нечто оказывается реальным «в действительности», я становлюсь вновь достоверен в этом. И все же сознание теперь изменено. Прохождение через период сомнения к решению придает сознанию именно характер разрешенного сознания, а его ноэматическому смыслу – соответствующий характер, выражающийся в «да», «в действительности», «истинно так» и в подобных оборотах.
Здесь, как и везде, нам становится ясно, и позднее станет еще яснее, что все, что претерпевает сознание через изменения и трансформации, даже после трансформаций остается осажденным в нем как его «история», и это, так сказать, судьба сознания. Но поскольку сознание есть то, что оно есть, как сознание о чемто, как процесс придания смысла, это означает, что каждое такое преобразование проявляется в смысле, и что даже там, где объективный смысл тот же, да даже там, где модус явленности тот же, оно выражает себя как модальность, как трансформация в этом смысле.
Если мы наблюдаем сознание в целом как разногласящее с самим собой, мы находим единообразно конституированным внутри сомневающегося сознания дизъюнктивное «А или Б»; в отрицании – «не А, а Б»; и далее, в утверждении – «не неА, а именно А». Таким образом, простое «бытие» объективного смысла трансформируется в «сомнительное бытие» или, что здесь равнозначно, «проблематичное бытие», а затем возможно через решение – трансформируется в «небытие» или в «действительное бытие». В феноменологических рассмотрениях, превыше всего в рассмотрениях, интенции которых направлены на ультимативное понимание сознания и его свершений, мы должны неуклонно ориентировать наш взор на обе эти стороны: на ноэтическую, на сторону переживания, и на ноэматическую, на сторону того, что дается сознанию в жизни сознания, на сторону смысла и его столь разнообразных модусов. Это мы должны делать и в рассматриваемой сейчас сфере.
Уже направляемые бытием и модальностями бытия и в фокусной ориентации на сознание и на Эго, осуществляющее это сознание, мы находим изначальный модус наивной перцептивной достоверности, или, если угодно, наивной перцептивной веры. Затем мы находим модифицированные модусы: сомнительную недостоверность, отрицание как негативное решение, перечеркивающее достоверность и аннулирующее ее в форме позитивной противоположной достоверности. Мы находим далее утверждение, обновленное становлениедостоверным, достоверность, однако, в форме ратифицирующего опыта. Мы говорим здесь также об активном принятии, подобно тому как в противоположном случае – об отвержении. Мы видим здесь, что активное принятие есть нечто иное, нежели наивная достоверность, и в отличие от последней, предполагает прохождение через недостоверность как сомнение, вопрошание. Отметим мимоходом, что говоря о вопрошании, мы не касаемся здесь интенциижелания решить, соопределяющей его смысл. Это нас здесь не касается и логически не существенно для него.
Наконец, упомяну некоторые важные параллельные выражения: «принимать за истинное» в отношении любого рода достоверности и «принимать за ложное» в отношении «отвержения». Соотносительно, на стороне смысла мы имеем выражения, которые постоянно использовали: «достоверное бытие», «небытие» и т.д.; и соответственно последнему способу речи, мы имеем также «истинное», особенно как выражение для «да, действительно», и «ложное» как выражение для «небытия». Мы хотим отметить, что понятия истинного и ложного встречаются здесь как выражения для охарактеризованных нами модусов бытия. Действительно, все анализы происхождения этих понятий должны отправляться отсюда. Я говорю «отправляться». Ибо мы даже не намекнули на то, как эти понятия разовьются вплоть до полного понятия истины.
Пояснения к терминологии:
–Аппрегензия (Apprehension): Процесс схватывания, интерпретации гилетических данных, придания им смысла.
–Гилетические данные (Hyletic Data): Чувственный материал, "сырые" сенсорные впечатления.
–Данность во плоти (Gegebenheit in der Leibhaftigkeit / presented in the flesh): Центральное понятие Гуссерля непосредственная, живая, самоприсутствующая данность объекта в восприятии.
–Модус бытия / значимости (Seinsgeltung / mode of being / validity): Способ, каким объект значим для сознания (достоверно, сомнительно, несуществует и т.д.).
– Модализация (Modalization): Процесс изменения модуса бытия/значимости.
– Ноэзис (Noesis): Сторона актов сознания, переживания.
–Ноэма (Noema): Сторона интенционального коррелята, смысла объекта как данного.
– Ретенция (Retention): Непосредственное удержание только что прошедшей фазы восприятия.
–Примордиальный (Primordial): Изначальный, первичный.
–Симплицитер (Simpliciter): Безусловно, просто, без оговорок.
–Кинестезии (Kinaestheses): Ощущения собственного движения (особенно органов чувств).
–Осаждение (Sedimentation): Процесс, в котором прошлые переживания и их смыслы "откладываются" и становятся частью горизонта текущего сознания.
Аналитический обзор концепции сомнения у Гуссерля (§8-9 "Опыта и суждения").
Гуссерль в этих параграфах проводит тончайший феноменологический анализ сомнения не как психологического состояния, а как фундаментального модуса интенционального сознания, конституирующего особый способ данности объекта. Ключевой пример – восприятие фигуры, колеблющееся между "человеком" и "восковой куклой". Здесь не просто ошибка, а конфликт двух равноправных аппрегензий, накладывающихся на один и тот же гилетический фонд – идентичный поток чувственных данных (форма, цвет, движение). Это радикальный тезис: сознание способно удерживать два взаимоисключающих смысла ("живое тело" и "восковая имитация") на основе одних и тех же "сырых" ощущений, без немедленного разрешения. Конфликт аппрегензий – сердцевина сомнения: ни одна интерпретация не аннулируется сразу (как при иллюзии), они сосуществуют в "борьбе", каждая мотивирована предыдущим опытом и текущими данными. Это создает уникальную "раздвоенность" восприятия: объект дан не просто неясно, а как "А или Б", в модусе "проблематичности" (Fraglichkeit).
Трудный момент 1: Ретроактивная модализация. Гуссерль делает поразительное наблюдение: сомнение не ограничивается "сейчас". Оно изменяет прошлое! Когда возникает сомнение ("человек или воск?"), ретенциональное сознание (непосредственная память о только что прошедшем) ретроспективно переосмысливается. Восприятие, которое до сомнения было "однозначным человеком" в воспоминании, теперь предстает как уже содержавшее в себе возможность "восковой фигуры". Прошлый опыт "заражается" текущим сомнением, теряя наивную достоверность. Это демонстрирует нелинейность и контекстуальность сознания времени у Гуссерля. Аналог в науке: исследования памяти (напр., работы Э. Лофтус) показывают, как новая информация или сомнения могут искажать воспоминания о прошлых событиях, ретроактивно меняя их смысл.