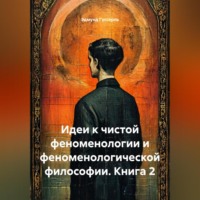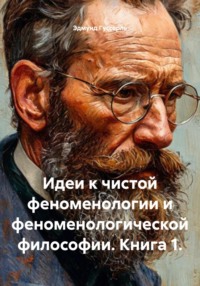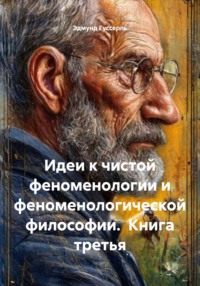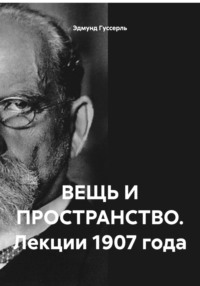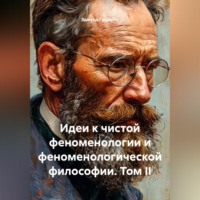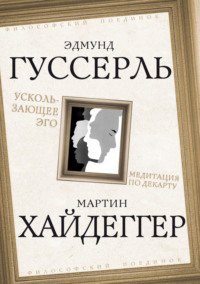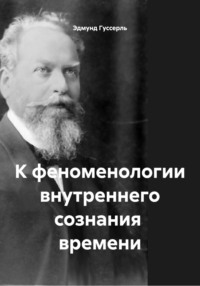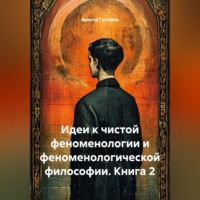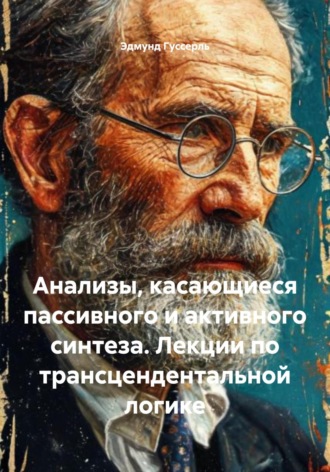
Полная версия
Анализы, касающиеся пассивного и активного синтеза. Лекции по трансцендентальной логике
Благодаря внутренним интенциям – как неисполненным, так и тем, что сейчас исполняются, – уже явившееся само обогащается. В этом процессе, более того, пустой внешний горизонт, переплетённый с образами, достигает своего следующего исполнения, хотя бы частичного. Неисполненная часть горизонта переходит в горизонт нового образа, и так продолжается непрерывно. Та сторона объекта, которая уже явилась, частично утрачивается по мере удаления от данности, то есть от явленности; видимое снова становится невидимым. Но оно не теряется. Я остаюсь сознающим его ретенционально, и таким образом, что пустой горизонт актуального образа получает новое предвосхищение, определённым образом указывающее на то, что уже было дано ранее как соприсутствующее.
Увидев обратную сторону и вернувшись к лицевой, воспринимаемый объект сохранил для меня определённость смысла; так же и в пустоте он указывает на ранее увиденное. Всё это теперь устойчиво принадлежит объекту. Процесс восприятия – это постоянный процесс познания, удерживающий приобретённое в смысловом отношении: тем самым он формирует всё вновь изменяющийся и всё более обогащённый смысл. В ходе перцептивного процесса этот смысл присоединяется к схваченному объекту в его предполагаемом [полном] данном в плоти представлении.
Теперь всё зависит от направления перцептивных процессов: какие линии из системы неисполненных интенций приходят к исполнению, то есть какие непрерывные ряды возможных образов реализуются из всей системы возможных явлений объекта. Продвигаясь по этой линии, пустые интенции преобразуются соответственно в ожидания. Как только эта линия начинает реализовываться, серии образов разворачиваются в смысле непрерывного пробуждения и последовательного исполнения ожиданий, проистекающих из текущих кинестез, в то время как оставшиеся пустые горизонты остаются в мёртвой потенциальности.
Наконец, нам ещё следует упомянуть интегральную гармонию, происходящую в совпадении абрисных образов, переходящих друг в друга через интенцию и исполнение. Это касается не только образов, взятых как целое, но и всех их дифференцируемых моментов и частей. Так, каждому заполненному пространственному пункту объекта в целой серии образов соответствует нечто: они непрерывно переходят друг в друга таким образом, что этот пункт в образе проявляется как момент являющейся пространственной формы.
Если мы спросим, наконец, что придаёт единство в каждом временном пункте мгновенного образа – единство, рассматриваемое как целый аспект, в котором проявляется определённая сторона, – мы также обнаружим взаимные интенции, исполняющиеся одновременно и взаимно. Переход образов, следующих друг за другом, представляет собой динамику смещения, обогащения и обеднения.
Объект, являющийся постоянно новым, постоянно иным, конституируется как тот же самый в этих чрезвычайно сложных и удивительных системах интенции и исполнения, составляющих образы. Но объект никогда не завершён, никогда не зафиксирован полностью.
Здесь мы должны указать на одну существенную для объективации воспринимаемого объекта сторону ноэматической конституции – а именно, на сторону кинестетической мотивации. Мы уже не раз мимоходом упоминали, что ходы образов идут рука об руку с организующими движениями живого тела. Но это не должно оставаться чем-то, что мы лишь случайно отмечаем. Живое тело постоянно присутствует, функционируя как орган восприятия; и здесь оно также само по себе представляет собой целую систему согласованно гармонизирующих органов восприятия. Живое тело характеризуется как воспринимающее живое тело. Мы распознаём его тогда чисто как живое тело, субъективно подвижное и находящееся в воспринимающей активности, как субъективно самодвижущееся. В этом отношении оно рассматривается не как воспринимаемая пространственная вещь, но в связи с системой так называемых «ощущений движения», которые протекают во время восприятия – движения глаз, головы и т. д. И они не просто параллельны потоку образов; скорее, рассматриваемые кинестетические серии и перцептивные образы связаны между собой через сознание.
Глядя на объект, я сознаю положение своих глаз и одновременно – в форме нового систематического пустого горизонта – сознаю всю систему возможных положений глаз, находящихся в моём распоряжении. И теперь то, что видимо в данном положении глаз, настолько переплетено со всей системой, что я могу с уверенностью сказать: если бы я двинул глаза в том или ином направлении, определённые зрительные образы последовали бы в соответствующем порядке. Если бы я позволил движениям глаз пойти иначе, в другом направлении, ожидаемо последовали бы иные серии образов. То же самое справедливо для движений головы в системе этих возможностей движения, а также для ходьбы и т. д., которые я могу привести в действие.
Каждая серия кинестез протекает по-своему, совершенно иначе, чем серии чувственных данных. Она разворачивается таким образом, что свободно находится в моём распоряжении – свободна для торможения, свободна для новой организации, как изначально субъективная реализация. Таким образом, система движений живого тела характеризуется в отношении сознания особым образом как субъективно свободная система. Я прохожу через неё в сознании свободного «я могу». Может случиться, что я непроизвольно задержусь на чём-то, что мои глаза непроизвольно повернутся туда или сюда. Но в любой момент я могу по своему желанию следовать такому пути движения или любому другому.
Как только у меня возникает образ вещи в такой ситуации, в изначальном сознании последовательности образов тем самым предвосхищается система внутренне согласованных многообразных явлений той же самой вещи.
Что касается образов, я не свободен: когда я осуществляю серию движений в свободной системе – «я двигаюсь сам», – уже предвосхищаются появляющиеся образы. Образы образуют зависимые системы. Только будучи зависимыми от кинестез, они могут непрерывно переходить друг в друга и конституировать единство одного смысла. Только протекая таким образом, они разворачивают свои интенциональные указатели. Лишь через это взаимодействие независимых и зависимых переменных являющееся конституируется как трансцендентный воспринимаемый объект – именно как объект, который есть больше, чем то, что мы воспринимаем непосредственно, как объект, который может полностью исчезнуть из моего восприятия и всё же продолжать существовать.
Можно также сказать, что он конституируется как таковой только благодаря тому, что его явления кинестетически мотивированы, и, следовательно, в моей свободе, согласно приобретённому знанию, я могу позволить образам протекать произвольно как изначальным явлениям в их системе согласованности. Благодаря соответствующим движениям глаз и другим движениям живого тела я могу в случае знакомого объекта в любой момент вернуться к прежним образам, которые дают мне объект с тех же сторон. Или, свободно возвращаясь в соответствующее место, я могу снова воспринять и опознать объект, который больше не воспринимается.
Таким образом, в каждом перцептивном процессе мы видим конститутивный дуэт:
1. Система моих свободных возможностей движения интенционально конституируется как практический, кинестетический горизонт. Эта система актуализируется каждый раз, когда я прохожу отдельные пути движений с характером узнавания, то есть исполнения. Мы не только сознаём каждое положение глаз, которое имеем в данный момент, каждое положение тела как мгновенное ощущение движения, но и сознаём их как место в системе мест – то есть с пустым горизонтом, который есть горизонт свободы.
2. Каждое зрительное ощущение или зрительный образ, возникающий в поле зрения, каждое тактильное явление, возникающее в поле осязания, упорядочено в отношении сознания к текущей ситуации осознания частей живого тела, создавая горизонт дальнейших упорядоченных возможностей – горизонт возможных серий образов, принадлежащих свободно возможным сериям движения.
В связи с конституцией трансцендентной темпоральности следует отметить, что любой путь актуализации, который мы могли бы избрать, реализуя эту свободу, давал бы непрерывные серии явлений объекта. Все эти серии представляли бы объект для одного и того же промежутка времени; все они представляли бы один и тот же объект в той же длительности, только с разных сторон. В соответствии со смыслом конституированного объекта все определения, которые были бы познаны через этот процесс, были бы сосуществующими.
§4. Отношение esse и percipi в имманентном и трансцендентном восприятии.Всё это справедливо только для трансцендентных объектов. Имманентный объект, такой как переживание чёрного, даёт себя как длящийся объект и в определённом смысле тоже через «явления». Но он делает это лишь так, как и любой временной объект вообще. Длящаяся временная протяжённость требует постоянной модификации модусов данности в соответствии с модусами явленности временной ориентации.
Пространственный объект также является временным объектом, поэтому то же самое относится и к нему. Но у него есть ещё и второй, особый способ явления. Направляя внимание на временную наполненность и особенно на первично-импрессиональные фазы, мы наталкиваемся на радикальное различие между явленностью трансцендентных и имманентных объектов.
Имманентный объект имеет только один возможный способ быть данным в оригинале в каждом Now, и поэтому каждый модус прошлого также имеет только одну единственную серию временных модификаций – а именно, ту, что относится к презентификации, с изменяющимися прошлыми объектами, конституирующимися в ней.
Но пространственный объект имеет бесконечно много способов [быть данным в оригинале], поскольку он может являться в Now, то есть изначально, со своих разных сторон. Хотя он фактически является с этой стороны, он мог бы явиться и с других сторон, и соответственно каждая из его прошлых фаз имеет бесконечно много способов, которыми она могла бы проявлять свои прошлые исполненные моменты времени.
Можно также сказать: понятие явленности имеет новый и уникальный смысл для трансцендентного объекта.
Если мы рассмотрим исключительно фазу Now, то в случае имманентного объекта явление и то, что является, не могут быть разделены в фазе Now. То, что возникает заново в оригинале, – это сама новая фаза чёрного, и без какого-либо указания вовне. И являться здесь означает не что иное, как бытие, лишённое всякого указывающего за пределы представления, и бытие-сознаваемым в оригинале.
Однако, с другой стороны, в отношении трансцендентного объекта ясно, что вещь, которой мы непосредственно сознаем в плоти как вещь в новом Теперь, дана сознанию только в и через явление; то есть следует различать проявляющее и проявляемое, абрисирующее и абрисируемое. Если мы заменим ноэматическую установку, которой до сих пор придерживались, на ноэтическую, в которой мы обращаем рефлексивный взгляд на переживание и его «внутренне присущие» компоненты, то можем также сказать, что трансцендентный объект, такой как вещь, может быть конституирован только тогда, когда имманентное содержание конституируется как субстрат. Теперь это имманентное содержание, в свою очередь, как бы замещает специфическую функцию «абриса», проявляющего явления, бытия проявляемым в и через него. Когда мы рассматриваем не являющийся вещный объект, а само ноэтическое переживание, то вещное явление, возникающее в каждом новом Теперь – как мы говорим, ноэтическое явление – представляет собой комплекс моментов поверхностного цвета, так или иначе протяженных; эти моменты поверхностного цвета являются имманентными данностями, и мы сознаем их в себе так же изначально, как, скажем, красное или черное. Множество изменяющихся красных данных, в которых, например, проявляется любая поверхность красного куба и его неизменный красный цвет, являются имманентными данностями.
Тем не менее, с другой стороны, дело не ограничивается этим простым имманентным существованием. В имманентных данных нечто проявляется уникальным образом абриса, чем сами имманентные данные не являются; в зрительном поле в изменении имманентно ощущаемых цветов проявляется тождественность, идентичное пространственно протяженное тело-цвет. Все ноэматические моменты, которые мы в естественной установке видим содержащимися в объекте и относящимися к нему, конституируются посредством имманентных данных ощущения и благодаря сознанию, которое, так сказать, одушевляет их. В этом отношении мы говорим об аппрезентации как о трансцендентной апперцепции: она характеризует свершение сознания, которое наделяет простые имманентные содержания чувственных данных, так называемые данные ощущения или гилетические данные, функцией проявления чего-то объективно «трансцендентного». Здесь опасно говорить о представляемом и представляющем, об интерпретации данных ощущения или о функции, которая внешне обозначает через это «интерпретирование». Абрисирование, проявление в данных ощущения, совершенно отлично от интерпретации через знаки.
«Имманентные» предметные образования, соответственно, сами по себе не даны сознанию через апперцепцию. В их случае «быть данным сознанию в оригинале» и «быть», «восприниматься» и «быть» совпадают. И действительно, для каждого Теперь. Однако они в значительной степени являются носителями апперцептивных функций, в то время как через них проявляется нечто не-имманентное. Теперь esse (для трансцендентных объектов) принципиально отличается от percipi. В каждом Теперь внешнего восприятия у нас есть оригинальное сознание, но подлинное восприятие в этом Теперь, то есть та черта в подлинном восприятии, которая является первоначально-импрессиональной (а не просто ретенциональным сознанием прошлых фаз воспринимаемого объекта), есть сознательное-обладание тем, что абрисируется originaliter. Это не чистое и простое обладание объектом, в котором сознательное-обладание и бытие совпадают; скорее, это опосредованное сознание, при условии, что только одна апперцепция имеется непосредственно, запас чувственных данных, отсылающих к кинестетическим данным, и апперцептивное схватывание, через которое конституируется проявляющее явление; в и через него мы сознаем трансцендентный объект как абрисирующий или проявляющий originaliter. В процессе непрерывного восприятия в каждом Теперь мы снова и снова сталкиваемся со следующей ситуацией: в принципе, внешний объект никогда не бывает чисто и просто дан в своей оригинальной ипсейности. Он появляется в принципе только через апперцептивное проявление и в ever новых проявлениях; по мере их прогрессирования они привносят что-то новое в оригинальное проявление из его пустых горизонтов.
Тем не менее, для наших целей важнее признать немыслимым, что нечто вроде пространственного объекта, который получает свой оригинальный смысл подлинно посредством внешнего восприятия как абрисирующего восприятия, могло бы быть дано через имманентное восприятие, будь то человеческий или сверхчеловеческий интеллект. Но из этого следует как немыслимое, что пространственный объект и все подобное ему (например, объект мира в естественном смысле), мог бы быть проявлен дискретно, самодостаточно от одного момента времени к другому, вместе со всем ансамблем черт (как полностью определенных), которые составляют его временное содержание в этом Теперь. В этом отношении мы также говорим об адекватной данности в противоположность неадекватной данности. Чтобы выразить это теологически и резко, нельзя оказать Богу худшую услугу, чем признать за ним способность сделать нечетное число четным и превратить всякую абсурдность в истину. Неадекватные модусы данности принадлежат по существу к пространственной структуре вещей; любой другой способ данности просто абсурден. Мы никогда не можем помыслить данный объект без пустых горизонтов в любой фазе восприятия и, что то же самое, без апперцептивного абрисирования. С абрисированием одновременно присутствует указание за пределы того, что проявляет себя в подлинном смысле. Подлинное проявление само по себе, опять же, не является чистым и простым обладанием по модели имманентности с её esse = percipi; вместо этого, это частично исполненная интенция, которая содержит неисполненные указания, указывающие за пределы. Оригинальность проявления трансцендентной вещи в плоти необходимо подразумевает, что объект как смысл обладает оригинальностью апперцептивного исполнения и что это содержит нераздельно смесь фактически исполняющих и ещё не исполненных моментов смысла. Это имеет место, будь то моменты смысла, только предвосхищенные согласно общей структуре, и помимо этого открытые неопределенные и возможные моменты, или будь то моменты, уже отмеченные тем, что они специально предвосхищены. Вот почему разговор о неадеквации как о случайном недостатке, который мог бы преодолеть высший интеллект, является неподходящим способом выражения, действительно совершенно абсурдным.
Мы можем сформулировать здесь принцип, который станет намного яснее в наших будущих анализах. Всякий раз, когда мы говорим об объектах, независимо от того, к какой категории объектов они могут принадлежать, смысл этого способа говорить об объектах изначально происходит от восприятий как переживаний, изначально конституирующих смысл, и, следовательно, предметное образование. Но конституция объекта как смысла является свершением сознания, которое в принципе уникально для каждого базового типа объекта. Восприятие не состоит в тупом разглядывании чего-то, застрявшего в сознании, вставленного туда каким-то странным чудом, как если бы что-то сначала было там, а затем сознание каким-то образом охватило бы это. Скорее, для каждого вообразимого эго-субъекта каждое предметное существование с конкретным содержанием смысла является свершением сознания. Это свершение, которое должно быть новым для каждого нового объекта. Каждый базовый тип объекта в принципе требует различной интенциональной структуры. Объект, который есть, но не является и в принципе не может быть объектом сознания, есть чистая бессмыслица.
Каждый возможный объект возможного сознания, однако, также является объектом для возможного изначально дающего сознания; и это мы называем, по крайней мере для индивидуальных объектов, «восприятием». Абсурдно требовать от материального объекта восприятия, которое имеет общую структуру имманентного восприятия, и, наоборот, требовать от имманентного объекта восприятия, которое имеет структуру внешнего восприятия. И смыслополагание, и смысл по существу требуют друг друга – и это касается существенной типичности их коррелятивных структур.
Таким образом, природа изначально трансцендентного смыслополагания, которое осуществляет внешнее восприятие, такова, что свершение этого изначального смыслополагания никогда не завершается, как одно пространство [восприятия] переходит в другое, и так далее, каким бы образом ни продвигался процесс восприятия. Это свершение не состоит просто в приведении к интуиции чего-то нового в фиксированном заранее данном смысле, как если бы смысл уже был предвосхищен в завершенной манере с самого начала; скорее, в процессе восприятия сам смысл постоянно культивируется и подлинно так в устойчивом преобразовании, постоянно оставляя открытой возможность новых преобразований.
Отметим здесь, что в смысле согласованно и синтетически прогрессирующего восприятия мы всегда можем различить между непрерывно изменяющимся смыслом и идентичным смыслом, проходящим через изменяющийся смысл. Каждая фаза восприятия имеет свой смысл, поскольку она имеет объект, данный в Как определения оригинального проявления и в Как горизонта. Этот смысл течет; он новый смысл в каждой фазе. Но единство субстрата x, которое господствует в устойчивом совпадении и которое определяется все более богато – это единство самого объекта, то есть все, что процесс восприятия и все дальнейшие возможные процессы восприятия определяют в нем и определили бы в нем – это единство проходит через этот текучий смысл, через все модусы, «объект в Как определения». Таким образом, к каждому внешнему восприятию принадлежит идея, лежащая в бесконечности, идея полностью определенного объекта, объекта, который был бы определен до конца, познан до конца, где каждое из его определений было бы очищено от всякой неопределенности, и где полное определение само по себе было бы лишено какого-либо plus ultra в отношении того, что еще предстоит определить, что еще остается открытым.
Мы говорили об идее, лежащей в бесконечности, то есть о недостижимой идее. Ибо, сама существенная структура восприятия исключает восприятие (как самодостаточный процесс последовательностей явлений, непрерывно переходящих друг в друга), которое предоставило бы абсолютное знание объекта: оно исключает такое знание, в котором напряжение между объектом в Как определения (которое изменяется и относительно, оставаясь неполным), и самим объектом рухнуло бы. Ибо очевидно, возможность plus ultra в принципе никогда не исключена. Таким образом, это идея абсолютного Я объекта и его абсолютного и полного определения, или, как мы можем также выразиться, его абсолютной индивидуальной сущности. По отношению к этой бесконечной идее, которую следует видеть, но которая как таковая не реализуема, каждый воспринимаемый объект в эпистемическом процессе является текучим приближением. Мы всегда имеем внешний объект в плоти (мы видим, схватываем, овладеваем им), и все же он всегда находится в бесконечной умственной дистанции. То, что мы схватываем от него, претендует на то, чтобы быть его сущностью; и это так, но остается так только в неполном приближении, приближении, которое схватывает что-то от него, но при этом также постоянно схватывает в пустоту, которая требует исполнения. Постоянно знакомое постоянно незнакомо, и с самого начала все знание кажется безнадежным. Конечно, я сказал «кажется». И мы не хотим здесь сразу же привержаться поспешному скептицизму.
(Конечно, ситуация совершенно иная с имманентными объектами. Восприятие конституирует их и присваивает их в их абсолютности. Они не конституируются постоянной модификацией смысла в смысле приближения; только постольку, поскольку они становятся в будущем, они нагружены протенциями и протенциональными неопределенностями. Но то, что конституировано как настоящее в Теперь, есть абсолютное Я, которое не имеет никаких незнакомых сторон.)
Мы отвергли поспешный скептицизм. Во всяком случае, мы должны были изначально сделать следующее различение в этом отношении. Учитывая, что объект воспринимается и что мы постепенно познаем его в процессе восприятия, мы должны были различать [а] конкретный пустой горизонт, который предвосхищается протекающим процессом и который прикреплен к текущей фазе восприятия с её предвосхищением, и [б] горизонт пустых возможностей без этого предвосхищения. Предвосхищение означает, что там есть пустая интуиция, которая предоставляет её общую рамку смысла. К сущности такого предвосхищающего намерения принадлежит, что при преследовании подходящего, соответствующего направления восприятия это должно было бы произойти, [либо] процесс более близкого определения, который является исполняющим процессом, или, как мы будем рассматривать позже в качестве аналога, разочарование, аннулирование смысла и вычеркивание. Однако есть также частичные горизонты без такой твердой предвосхищающей структуры. Другими словами, помимо определенных предвосхищенных возможностей, есть контр-возможности, для которых нет поддержки и которые остаются постоянно открытыми.
Говоря чисто в терминах самого смыслополагающего процесса восприятия, мы можем сказать, например, что когда что-то вроде освещенного явления, падающей звезды и тому подобного мелькает в моем зрительном поле, например, при взгляде на звездное небо, это совершенно пустая возможность, которая не предвосхищается в смысле, но оставлена им открытой. Таким образом, если мы ограничимся позитивным смыслополагающим процессом восприятия вместе с его позитивными предвосхищениями, вопрос, который мы ставим, понятен и очевиден: не является ли даже устойчивое и в конечном итоге пребывающее Я объекта недостижимым при переходе от неинтуитивного пустого предвосхищения к исполняющему процессу более близкого определения; иначе говоря, могут ли не только новые и новые предметные черты входить в горизонт восприятия, но и сами уже схваченные черты в процессе более близкого определения подразумевают дальнейшую определимость, in infinitum, следовательно, сами постоянно и непрерывно сохраняют характер незнакомого x, который никогда не может обрести окончательную определённость. Является ли тогда восприятие «обменом», который в принципе никогда не может быть «реализован» или «обналичен» новыми, подобными обменами, чья реализация снова ведет к обмену и так далее in infinitum? Исполнение интенции осуществляется через проявление в плоти, конечно, с пустыми внутренними горизонтами. Но нет ли вообще в том, что уже стало проявленным в плоти, чего-то, что принесло бы с собой окончательность, так что мы фактически остаемся застрявшими в якобы пустом деле обмена?
Мы чувствуем, что это не может быть так, и, фактически, более глубоко всматриваясь в структуру последовательности восприятия, мы сталкиваемся с особенностью, которая призвана решить трудность изначально для практики и её интуитивного чувственного мира. Также в случае неполного исполнения, то есть в случае исполнения, нагруженного указаниями, природа подлинных явлений как исполнений предвосхищенных интенций указывает вперед на идеальные пределы как цели исполнения, которые были бы достигнуты непрерывными сериями исполнения. Но это происходит не сразу для всего объекта, а скорее для черт, которые уже пришли к актуальной интуиции в каждом случае. В виду того, что подлинно проявляется в явлении, каждое явление принадлежит систематически к некоторому типу серий явлений, которые должны быть реализованы в кинестетической свободе, в которых по крайней мере какой-то момент сущности достиг бы своей оптимальной данности, и, следовательно, своего истинного Я.