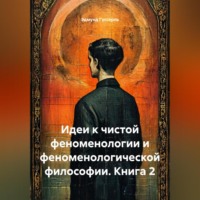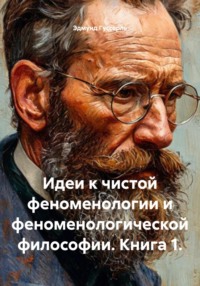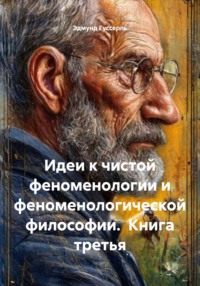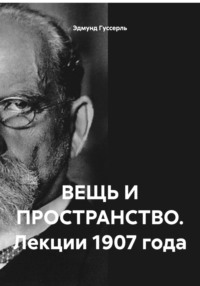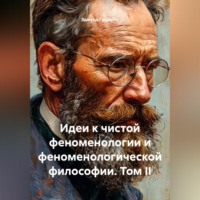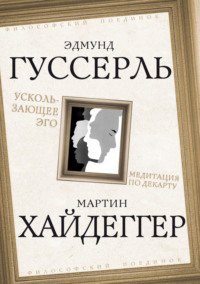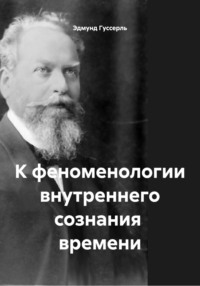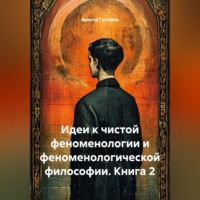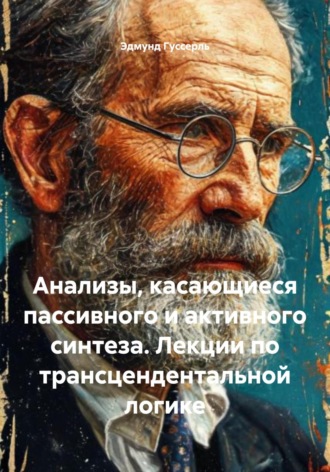
Полная версия
Анализы, касающиеся пассивного и активного синтеза. Лекции по трансцендентальной логике
Трудный момент 2: Модус данности vs. Модус бытия/значимости. Гуссерль проводит ключевое различие:
1. Модус данности (Gegebenheitsweise): Как объект является (напр., "во плоти" в восприятии, в воспоминании, в фантазии). В сомнении объект все еще дан во плоти (leibhaftig), он наглядно присутствует.
2. Модус бытия/значимости (Seinsgeltung): Статус, которым объект обладает для сознания (достоверность, сомнительность, вероятность, несуществование). В сомнении модус значимости – "проблематичный". Объект "там", но его реальность оспаривается.
Это различие объясняет, почему при сомнении объект не становится "менее явным", но его онтологический статус становится неопределенным. Данность во плоти – условие возможности сомнения, а не его разрешения.
Разрешение сомнения (§9) происходит через "исполняющее переживание" (erfüllendes Erlebnis), интегрирующее новые данные в один из конфликтующих пустых горизонтов. Например, прикосновение ("воск холодный!") дает примордиальное впечатление, исполняющее интенцию "воск" и фальсифицирующее (в попперовском смысле) интенцию "человек" с ее ожиданием теплой кожи. Это приводит к модальному сдвигу: "проблематичность" сменяется либо "небытием" (Nichtsein) для отвергнутого смысла (отрицание), либо "действительным бытием" (Wirklichsein) с характером "да, действительно" (Ja, wirklich) для подтвержденного. Гуссерль подчеркивает, что это не просто возврат к исходной наивной достоверности. Утвержденная достоверность ("ратификация") несет в себе "осадок" (Sediment) сомнения – это "восстановленная" достоверность, прошедшая через опыт проблематизации, выраженная в "да, действительно" или "истинно так". Сознание становится рефлексивно обогащенным.
Философские параллели и контрасты:
Декарт: Для Декарта ("Размышления о первой философии") сомнение – методологический инструмент для достижения несомненного (Cogito). Гуссерль же анализирует сомнение как имманентную структуру повседневного опыта, конституирующую объекты в их модальности. Сомнение у Гуссерля не преодолевается раз и навсегда, а постоянно возможно.
Кант: Кантовские "антиномии" чистого разума ("Критика чистого разума") демонстрируют конфликт разумных утверждений. Гуссерль переносит конфликт в перцептивный уровень, показывая его происхождение в дорефлексивном опыте.
МерлоПонти: Развивает гуссерлевскую идею двусмысленности восприятия ("Феноменология восприятия"), подчеркивая роль тела и его "интенциональных дуг". Его анализ "двойственного" опыта (напр., одной рукой касающейся другой) близок к гуссерлевскому конфликту аппрегензий.
Сартр: Анализ модусов бытиядлясебя ("Бытие и ничто") – достоверность, сомнение, возможность – имеет феноменологические корни, но фокусируется на экзистенциальной тревоге и свободе, а не на структуре восприятия.
Значение для наук:
Когнитивная психология/нейронаука: Концепция конфликта аппрегензий предвосхищает модели когнитивного диссонанса (Л. Фестингер) и нейронной конкуренции интерпретаций (напр., в восприятии двусмысленных фигур – утка/кролик, ваза/лица). Исследования "предсказающего мозга" (predictive coding) напрямую соотносятся с гуссерлевскими "горизонтами" и "исполнением" ожиданий.
Эпистемология: Анализ модализации показывает, как знание не статично ("S есть P"), а динамично, проходя через фазы проблематизации, отрицания или ратификации. Это предвосхищает фаллибилизм (К. Поппер) и контекстуализм в эпистемологии.
Науки о памяти: Ретроактивная модализация поднимает вопросы о надежности памяти и ее зависимости от последующего опыта и интерпретаций.
Источники для углубленного изучения:
1. Первичные источники Гуссерля:
– Гуссерль Э. Опыт и суждение. Исследование по генеалогии логики (1939) [Главный источник, §§89]. Полный текст важен для контекста.
– Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга 1 (1913) [§§103114 о ноэзеноэме, модусах веры, §§138145 о восприятии и горизонтах]. Фундамент.
– Гуссерль Э. Картезианские размышления (1931) [§6 о сомнении как модификации веры, §19 о мире как "проблеме"]. Более сжато.
2. Комментарии по Гуссерлю:
–Соколова Т.А. Эдмунд Гуссерль и его "Картезианские размышления" (Москва, 2011) [Хорошее введение в позднего Гуссерля].
– Zahavi, D. Husserl's Phenomenology (Stanford University Press, 2003) [Классический доступный обзор на английском].
– Moran, D. Introduction to Phenomenology (Routledge, 2000) [Содержит главу по Гуссерлю с разбором восприятия и интенциональности].
3. Сопоставительный анализ и развитие идей:
– МерлоПонти М. Феноменология восприятия (1945) [Гл. 1 о "Опыте", Гл. 3 о "Пространственности", Гл. 6 о "Теле как экспрессивном пространстве"].
–Sartre, JP. Being and Nothingness (1943) [Часть 1, Гл. 1 "Непосредственные структуры "ДляСебя": Достоверность, Сомнение, Знание"].
–Gallagher, S. & Zahavi, D. The Phenomenological Mind (Routledge, 2008) [Связь феноменологии с когнитивной наукой, гл. по восприятию, действию, времени].
4. Связь с эпистемологией и когнитивной наукой:
– Popper, K. Conjectures and Refutations (1963) [О фальсификации как научном "отрицании"].
–Clark, A. Surfing Uncertainty: Prediction, Action, and the Embodied Mind (Oxford UP, 2016) [Теория "предсказающего кодирования" как современный аналог гуссерлевских горизонтов и исполнения].
– Hohwy, J. The Predictive Mind (Oxford UP, 2013) [Другая ключевая работа по predictive coding].
Ключевой вывод: Гуссерль показывает, что сомнение – не дефект восприятия, а продуктивный модус сознания, раскрывающий его динамическую природу. Оно демонстрирует: 1) плюрализм интерпретаций на едином гилетическом основании; 2) динамику значимости (Geltung) как конститутивный принцип; 3) темпоральность опыта (ретроактивность); 4) неразрывность ноэзиса и ноэмы – трансформации переживания суть трансформации смысла объекта. Этот анализ закладывает основу для понимания генезиса логических модальностей ("возможно", "действительно", "необходимо") из допредикативного опыта, что и является целью "Опыта и суждения".
Глава 3: Модальность возможности.
§10. Открытые возможности как неопределённый горизонт интенционального предвосхищения.
Нам предстоит рассмотреть важную группу модификаций возможности и вероятности. Они целиком принадлежат сфере "недостоверности", под которой мы понимаем не просто лишённость достоверности (это включало бы случай отрицания), но модальности, "вообще не относящиеся к решению". Когда сознание утрачивает модус достоверности и переходит в недостоверность, мы говорим о возможностях. Но не только: в этой сфере мы встречаем "несколько понятий возможности".
Прежде всего упомянем понятие "открытых возможностей" в следующем контексте: то, что интенционально предвосхищается в апперцептивном горизонте восприятия, – не возможно, а "достоверно". И всё же в такие предвосхищения всегда включены возможности, даже целый спектр многообразных возможностей. Предвосхищение невидимой стороны, данное при восприятии вещи с лицевой стороны, есть, как известно, "неопределённо-общее" предвосхищение. Эта общность – ноэтическая черта сознания, пустым образом указывающая вперёд, а коррелятивно – [ноэматическая] черта смысла предвосхищаемого. Так, цвет обратной стороны вещи не предвосхищается как вполне определённый, если вещь нам незнакома и мы ещё не рассматривали её с другой стороны. Предвосхищается именно "какой-то цвет". Но потенциально – больше: если лицевая сторона имеет узор, мы ожидаем его продолжения на обороте; если это однородный цвет с крапинками, мы, возможно, ожидаем крапинок и на обороте. Но остаётся неопределённость. Указание вперёд имеет, как и все интенции в нормальном восприятии, модус наивной достоверности – но именно "согласно тому", что оно даёт сознанию, и "способу", каким даёт, т.е. согласно "смыслу", в котором нечто даётся. Достоверно, следовательно, "нечто цветовое вообще" или "цвет вообще, разбитый крапинками" – т.е. "неопределённая общность".
Рефлексируя над следствиями: термин "общность" мы используем здесь лишь как вспомогательное средство для косвенного описания феноменов. Речь не о логических понятиях, классифицирующих или абстрагирующих общностях, а о специфическом "устремлении в будущее", присущем восприятию, данному с модусом сознания неопределённости. Общей структуре всякой пустой интенции (как и такому неопределённому указанию-вперёд) принадлежит возможность её экспликации в форме "презентификаций". Мы свободно можем образовывать презентификации, дающие интуицию невидимого (напр., воображая обход объекта). Тогда возникают интуиции с вполне определёнными цветами. Но очевидно: в пределах неопределённости мы можем свободно варьировать эти цвета.
Что это значит? Если мы чисто направлены на "приведение к интуиции" (т.е. квази-исполнение восприятия через презентифицированные перцептивные ряды), конкретная интуиция с определённым цветом может возникнуть. Но этот цвет "не был предвосхищён" – он не был "требуем". Презентифицированное дано как достоверное (как обратная сторона), но именно в "сознании неопределённости", не указывающем на этот случайно появляющийся цвет. Если возникают иные интуитивные презентификации с другими цветами, достоверность не распространится и на них: ни одна не предзадана особо, ни одна не требуется.
Сопоставим с актуальным исполнением в реальном ходе восприятия: явление цвета, исполняющего неопределённо предвосхищенное, конституируется "само по себе как достоверность". Здесь достоверно происходит "определяющее уточнение" и тем самым наращивание знания. Новый пласт восприятия с его достоверным содержанием вносит конкретность, уточняя неопределённую предвосхищенную общность: эта конкретность охватывается единством перцептивной достоверности и равномерно исполняет предвосхищение. Исполнение есть одновременно прирост знания (напр., определённые крапинки). В иллюстративной же презентификации иной цвет может служить столь же хорошо; она наделена модусом достоверности лишь постольку, поскольку сохраняет модус неопределённости относительно окраски – в отличие от определённого воспоминания (как если бы мы презентифицировали оборот "после" его актуального восприятия). Ясно: всякая презентификация "до" актуального обретения знания должна иметь модифицированный характер достоверности относительно квази-определяющего содержания. Но эта недостоверность особенна: в ней случайно данный цвет есть именно "случайный", для которого может возникнуть не что угодно, а "иной" цвет. Иначе: общая неопределённость имеет "поле свободной вариативности"; входящее в него охватывается "имплицитно" сходным образом, но не позитивно мотивировано, не позитивно предвосхищено. Это член "открытого спектра" уточнений, способных вписаться в рамки, но вне их – совершенно недостоверных. Это составляет понятие "открытой возможности".
§11. Вовлекающие возможности как склонности к принятию внутри сомнения.
Мотивация позитивно предвосхищает нечто, но в модусе недостоверности. Это прояснится через контраст с иным видом возможности. Обратимся к феномену сомнения. Где есть сомнение, там есть и "склонности к принятию" ["Glaubensneigungen"]. То, что происходит на видимой лицевой стороне (вместе с её схваченным смыслом для оборота), может предвосхищать нечто определённое – но "двусмысленно", неоднозначно (напр., когда мы не уверены: видим ли целую вещь или театральную декорацию). Возникает конфликт в сознании, разыгрывающийся в пустых предчувствиях грядущего (в отличие от примера с восковой фигурой/человеком). Здесь борьба может принять форму статичной нерешительности. Но как только Я направляется на неё и осуществляет презентифицирующую интуицию, борьба переходит в динамическую игру противоположных [смыслов] – в сомневающееся колебание. Это порождает склонность к принятию для каждой стороны: актуализируя мотивации к одной стороне, Я испытывает согласованное требование, исходящее от неё. Исключительно отдаваясь этим мотивациям (тогда как доводы за иную сторону бездействуют), оно испытывает "силу притяжения", склонность обратиться к ней с достоверностью. То же – при актуализации противоположных интенций. Так нормальное перцептивное акт-Я модифицируется в акты "вовлечений к принятию" ["Verlockungen zum Glauben"]. Со стороны объективных смыслов (данных сознанию объектов) мы говорим здесь о "вовлечениях к бытию" ["Verlockungen zum Sein"]: объект воздействует на Я, предъявляя вовлекающее требование быть – словно враждебный партнёр. Сам смысл имеет "склонность быть".
Эту вовлечённость мы также называем "возможным" (вне её отношения к Я), но она определяет "принципиально иное" понятие возможности, чем открытая возможность. Их различие явно в контрасте.
§12. Контраст между открытыми и вовлекающими возможностями.
Открытая возможность, в принципе, "не подразумевает склонности". Она не предъявляет вовлекающего требования бытия; ничто не говорит в её пользу; к ней не направлено требование – даже если бы оно подавлялось противоположными требованиями. Здесь вовсе нет вовлечений.
Назовём эти новые возможности "проблематическими" или "вопросительными возможностями" – поскольку интенция к решению, возникающая в сомнении между вовлекающими сторонами, именуется "вопросительной интенцией". Вопросительность есть лишь там, где есть взаимная игра вовлечений и контр-вовлечений, где нечто говорит "за" или "против". Однако самое прямое выражение для этих возможностей – "вовлекающие возможности". Ясно: они обозначают "совершенно иной" вид модификации, чем модификация открытых возможностей, ибо модифицирующее сознание в каждом случае имеет принципиально иное происхождение.
Открытую возможность можно охарактеризовать как "модификацию достоверности". Эта модификация состоит в том, что неопределённо-общая интенция (сама имеющая модус достоверности) имплицитно несёт в себе "ослабление" своей достоверности относительно всех мыслимых уточнений. Напр., если в неопределённой общности достоверно требуется крапчатый цвет, исполнение ограничено: требуется именно "какой-либо" цвет с "какими-либо" крапинками. Любое такое уточнение исполняет требование "равным образом". Уточнение исполняет требование – значит, к нему принадлежит нечто от требования. Но не только каждое из них предъявляет равное требование: требование "имплицитно", поскольку каждое случайное уточнение схватывается соответственно неопределённо-общему требованию; оно "со-требуется" согласно ему, тогда как (как показано) никакое актуальное требование, "направленное именно на это" уточнение, изначально и сейчас к нему не обращено – ни ослабленное, ни неограниченное.
Совсем иное – там, где есть вовлечения, и каждое интендировано в своей особенности.
Теперь ясно: мы определили замкнутую и строго ограниченную группу модальностей, исходя из изначального модуса прямой наивной достоверности, признав их модификациями "благодаря конфликту" (а именно: изначально-прямой достоверности требования с противоположными требованиями). Проблематическое сознание с его проблематической возможностью принадлежит сюда. Поэтому мы проводим "фундаментальное различие" между:
– модальностями, возникающими из конфликта,
– модальностью открытого уточнения.
Продолжим анализ проблематических возможностей: "только они" обладают "различным весом". Вовлечение более или менее вовлекающе – особенно при сравнении всех проблематических возможностей, принадлежащих одному конфликту и синтетически связанных им. Ибо конфликт (раздвоенность сознания во взаимные подавления) создаёт единство; ноэматически – единство противоположности, возможностей, связанных через него.
§13. Модусы достоверности как таковые в их отношении к вовлекающим и открытым возможностям.
Важно рассмотреть особую группу "модусов достоверности", характеризующихся тем, что "достоверность остаётся достоверностью". Речь о различиях "чистоты" или "полноты" достоверности.
Представим: я верю, что так; я не сомневаюсь; я не в нерешительности; я осуществляю непрерывный тезис: "Это так". Но может быть, что, будучи вполне достоверным ("уверенным"), я сознаю: многое говорит "против" этого. Иная вещь (или несколько) предстаёт как вовлекающая возможность.
Такие противоположные вовлечения (противоположные возможности) могут иметь разный вес, оказывать большее или меньшее "тяготение", но "не определяют меня". Определяющим в вере является лишь та единственная возможность, в которой я "убеждён", за которую решился ранее (возможно, пройдя через сомнение).
Здесь же принадлежит понятие убеждённости. Разные свидетели дают показания разного веса; я взвешиваю и решаюсь за одного. Я отвергаю другие показания. Вес последних может стать нулевым – они теряют всякую значимость. И всё же они "сохраняют" вес (не оказываясь откровенно ложными). Но именно эти показания имеют "подавляющий вес", заставляющий меня принять их и "не принять" другие – в этом смысле отвергнуть. Я встаю на сторону этих показаний.
Я могу отмечать различие весов, "не решаясь" за какое-либо вовлечение. Я оставляю это в подвешенности. Я жду, возможно, "объективно решающего" опыта, воздерживаюсь от мнения, жду опыта, представляющего одну из возможностей как "несомненную" реальность – ту, что отрицает и аннулирует все иные "возможности", лишая их веса. В этом смысле эти модусы достоверности можно назвать "модусами убеждённости".
Итак, модусы "нечистой (или неполной) достоверности" – это модусы достоверности, отсылающие к сфере вовлекающего. Феноменологически обоснуем эту нечистую достоверность в изначальном поле восприятия – мы увидим более тонкие различия.
Нечто вовлекает меня как возможность; нечто говорит в его пользу; но есть противоположные возможности, и нечто говорит за них (или против других). Или же я "сознаю" лишь одну возможность (напр., облачное небо и влажность говорят в пользу грозы, но не "наверняка"). Она вовлекает в разной степени, меняясь по обстоятельствам.
Здесь возможно:
(a) Я сознаю эту возможность "через" её вовлечённость – и только: "я "не даю себя определить" ей".
(b) Я "склонен" решиться за эту возможность; я "следую за ней", даю себя вовлечь; я готов и хочу последовать её тяготению. Поскольку вовлечённость как таковая есть воздействие на Я (которому соответствует "влечение"), в самом вовлечении лежит "склонность". Но то, что я "охотно" даю себя вовлечь, что я "намерен" последовать – феноменологически ново. Однако это "следование" может подавляться противоположными склонностями или вообще не быть "действенным".
(c) "Действенность" означает: я прямо уступаю склонности (возможно, беспрепятственно); я принимаю её позицию; я окончательно "решаюсь" за эту возможность. Я верю, я "субъективно достоверен", что будет гроза, и беру плащ и зонт. Тогда можно говорить о "предположении" ["Vermutung"] или "предположительной достоверности" в особом смысле. Это подобно тому, как мы верим одному свидетелю при столкновении показаний, хотя показания других не опровергнуты (они имеют вес, но мы его больше не принимаем). Не просто вовлечённость одного показания сильнее: мы "придаём ему значимость", веря в него в нашей субъективной достоверности; и это внутреннее "Да!" означает "Нет!" для других показаний. Они для нас недействительны – "субъективно". Сама по себе эта предположительная достоверность феноменологически характеризуется как "нечистая". Решение принято, но оно "подточено изнутри" противоположными возможностями, чей вес "остаётся" и "давит" на нас – мы лишь отрицаем их значимость. Это придаёт предположительной достоверности внутренний характер, чётко отличающий её от чистой достоверности. Эта нечистота имеет степени.
Отметим ещё различие. Говоря "нечто говорит в пользу одной/нескольких возможностей", мы сталкиваемся с двусмысленностью, указывающей на разные феноменологические связи:
(1) Вовлечённость отсылает к "пространствам возможностей" ["Spielräume"], и эти возможности – не просто воображаемые. В этом смысле "нечто говорит" в пользу "всех" них.
(2) Но это лишь значит, что они суть "пространства", из которых детерминированные, подавляющие друг друга или свободные ожидания ("определённые знаки") выделяют разное. Именно это мы имели в виду, говоря строже о "нечто говорящем в пользу" возможностей. Этому понятию мы и будем следовать.
Когда достоверности отсылают к пространствам "открытых" возможностей, мы говорим о эмпирических, примитивных достоверностях. Сюда относится всякое внешнее восприятие. Каждое восприятие имплицирует в каждый момент пространство уточнений внутри достоверности общего предвосхищения. Но "ничто не говорит в пользу" этих уточнений в их особенности. Можно сказать: одно и то же говорит в пользу "всех" открытых возможностей пространства; они "равновозможны". Это подразумевает: ничто не говорит в пользу одной возможности, если оно не говорит против другой.
Теперь противопоставление:
(a) "Чистая достоверность": лишь одна-единственная возможность "подходит"; "нечто говорит" в пользу "неё одной", лишённое характера простого вовлечения. Это "полная" достоверность – в смысле чистоты, не имеющей "противоположных мотивов". "Поднятый молот упадёт!"
(b) "Нечистая достоверность"
Но в сравнении с имманентной сферой и данностью в имманентном настоящем (очевидной в своей не-вычеркиваемости) возникает иная оппозиция:
(a) "Эмпирически-примитивные достоверности", имплицирующие пространства иных возможностей (даже если ничто не говорит за них позитивно). Не-бытие здесь "не исключено"; оно возможно, но не мотивировано.
(b) "Абсолютные достоверности", чьё не-бытие "исключено" (или абсолютно достоверно). Здесь нет "открытых" противоположных возможностей; нет "пространств".
Остаётся вопрос: как это соотносится с модусами "очевидности"?
Я могу иметь пространства ("реальные возможности"), данные в очевидности (как в опыте). С другой стороны – апоодиктическое исключение противоположных возможностей. Соответственно, решение может "оцениваться" (эмпирическая достоверность – апоодиктическая достоверность). Также я могу сознавать пусто означенные возможности без очевидной данности и решаться, принимая возможность, когда нечто говорит за неё предположительно и т.д.
Это особая тема со своими различиями.
Мы ознакомились с модусами достоверности (прямой веры). С другой стороны, достоверность может "модифицироваться" – перестать быть достоверностью: напр., перейти во вовлечение или даже в склонность следовать ему, но без решения. Это именно "не-решимость", не достоверность, а модификация достоверности. Также:
– "Сомнение" как раздвоенность в колеблющейся склонности принять то или иное;
– В этой нерешительности – стремление достичь решения, искать достоверности;
– "Ставление-под-вопрос" при сохранении достоверности (достоверность "взята в скобки", выведена из игры).
Точнее: под общей структурой достоверности (прямой веры) лежат её модусы: эмпирическая и апоодиктическая достоверность. В эмпирической достоверности (и вообще) возникают актные различия как трансформации модуса достоверности. Но достоверность "всегда есть"! Мы узнали нечистую достоверность как решение за вовлечение. Но есть и решение, "остающееся в недостоверности".
Рассмотрим "сомнение" и "вопрос". Сомнение – доксический модус поведения как разрыва между двумя или более возможностями; колебание между ними относительно сужденческого интендирования. Это интендирование – не актуальное суждение, не обладание достоверностью, а проблематическое суждение. Я не достоверен, но склонен верить, что А есть; нечто говорит за А, и я "хотел бы" так судить. "Я склонен" может означать то же, что "нечто говорит в пользу". Оба выражения коррелятивны. Но мы отличаем от этого "склонение-к" как внутреннее согласие, своего рода решение-за, но без решительной уверенности. Я готов последовать совету, но внутреннее "противо-речие" (склонность верить иначе) подавляет меня. Решение заторможено; я могу подавить эту склонность; я могу эксплицитно осознать вовлечённость, ещё "не отправляясь" внутренне к решению (не "следуя" за ней), и лишь затем сдерживать себя.
Сомнение есть колебание в решительности, и каждый не-решаемый член [сомнения] всё же есть модус решения. Но может случиться, что мы решаемся за наиболее весомую проблематическую возможность (наиболее аффективно сильную). Однако здесь происходит не решение-в-достоверности, а особый модус решения, свойственный вовлечению. Тогда мы имеем "предположение как принятие-за-вероятное".
Где проблематические возможности разделены и объединены, возникает сознание "проблематических дизъюнктов" – сознание "вопросительно, А или Б" (без узкого понимания вопроса).
"Вопрос", возникающий в сомнении, есть "стремление к решению", мотивированное поведением сомнения. Или: стремление к достоверности, мотивированное из заторможенного, незавершённого решения. Но не есть ли сама склонность такое стремление? Вопрос "Так ли это?" есть ли стремление преодолеть подавление и достичь соответствующей уверенной достоверности? Подлинный смысл вопроса в сомнении (как многогранной нерешительности) – это "стремление-интенция разрешить сомнение", преодолеть подавление здесь или там и прийти к достоверности. Достоверность того, что "А есть", аннулирует все противоположные склонности. Она не только аннулирует склонность к А (превращая её в достоверность), но и вычёркивает противоположные склонности (поскольку они не могут стать достоверностями). Решиться за А значит с достоверностью отвергнуть Б, В и т.д.