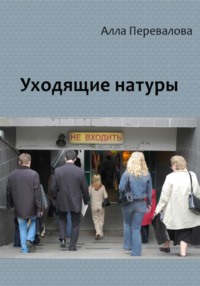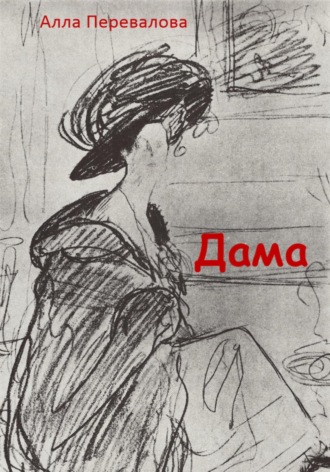
Полная версия
Дама
Григорий Клеймиц с 14 лет играл на танцах в клубе города Тосно Ленинградской области. Окончил музыкальную школу, училище Римского-Корсакова и консерваторию по специальности дирижер хора. В ансамбль «Поющие гитары» пришел в 1970 году музыкальным руководителем и пианистом. А через год там появилась Понаровская.
В 1976 году, когда Ирина победила на международном конкурсе и окончательно выбрала сольный путь, оставив за спиной «Поющие гитары», Григорий возглавил ансамбль, с которым выступала Эдита Пьеха.
В 1982 году, когда Понаровская вышла замуж за темнокожего песенного самородка Вейланда Родда, Клеймиц стал главным дирижером и художественным руководителем ленинградского мюзик-холла. В 1991 году, пережив первый инфаркт, он получил приглашение на работу от театра «Бенефис», которым руководил Михаил Боярский. Дирижировать Клеймицу запретили врачи, но он продолжал играть на пианино. И по воспоминаниям очевидцев, делал это как бог. Понаровскую в это время угнетали мысли о незадавшейся личной и профессиональной жизни.
В 1998 году, когда модельеры активно эксплуатировали Ирину в качестве манекенщицы и она стала чуть ли не заводчицей новой породы собак в Москве, Григорий замкнул кольцо – он вновь работал музыкальным руководителем возрожденного ансамбля «Поющие гитары». 20 сентября на вечере памяти Александра Броневицкого, основателя ансамбля «Дружба» и бывшего мужа Эдиты Пьехи, Клеймиц аккомпанировал песне «Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь…», – на этих словах он упал под рояль, и публика не сразу поняла, что это не запланированная шутка, а разрыв сердца. До присвоения ему звания Заслуженного артиста России он не дожил – документ вручили его жене Марине.
Почти одновременно с браком Ирины распался и союз родителей: Виталий Борисович ушел к другой женщине. Наверное, и поэтому Нина Николаевна так трагично перенесла развод дочери. Вроде как только объявился в доме приятный сердцу мужчина, мечталось, что скрасит атмосферу. Мама любила его всей своей женской долей, не желая Ире повторения собственной участи. Но, видно, ритуалы правят жизнью. Женщины этой семьи не могли избежать одиночества. Бабушка в 41 год, мама в 48. Замуж Нина Николаевна больше не стремилась. С годами три поколения сплотились, как три сестры. Много лет подряд они собирались за новогодним столом. Без мужчин. Смотрели праздник на телеэкране, ели приготовленное своими руками. И жили тем, что сотворили собственноручно. Им хорошо бывало втроем. А что делать? Так сложила судьба.
Спустя много лет Ирина смогла спокойно рассуждать об уходе отца, а в тот момент не простила, сочла предателем и долго с ним не общалась. Хотя в отличие от брата, который заявил: ты мне больше не отец! – Ира сказала маме: "Ты выбрала мне такого отца и отказаться от него я не могу". Что маму тогда обидело. Это уже не какое-то школьное платье потоптать, а имя близкого человека.
Ирина: "Мама боялась позора: одинокая женщина с двумя детьми. Время другое было. Это считалось постыдным. Папа – первый мужчина в ее жизни. Первый и последний до их развода. Бывали у него и прежде увлечения. Когда мне исполнилось пятнадцать, мама уже могла со мной делиться, и я старалась как-то ее успокоить. Почти тридцать лет они прожили вместе. Но, видимо, отец перешел какие-то рамки. Женщина, которая у него появилась, забеременела. Я его очень любила и с годами простила, конечно. Родители – это родители. Они такие, какие есть. Папа никогда не относился ко мне серьезно как к певице. Наверное, я была не в его вкусе. Ему больше нравились другие артистки".
Эвридика до потери сознания
В 1975 году Понаровскую пригласили на песенный фестиваль в Дрезден. Тогда для советских исполнителей это считалось почти так же почетно, как сейчас Евровидение, почетнее был, разве что фестиваль в польском городе Сопоте. Прорыв на международный уровень. Ирину в Германии знали по гастролям "Поющих гитар". И приглашение в Ленконцерт пришло именное, но руководитель ансамбля Анатолий Васильев попытался его скрыть. Чтобы не искушать вокалистку сольными достижениями. Ирина в то время исполняла партию Эвридики в первой советской зонг-опере "Орфей и Эвридика", поставленной на базе «Поющих гитар». Композитор Александр Журбин и драматург Юрий Димитрин создали небывалое – оперу для эстрады. Для ее воплощения ансамблю пришлось расширить состав – вместо семи человек на сцене оказалось сорок. А это уже не концертирующий коллектив, что привело группу к статусу, скорее, эстрадного театра, а потом и погубило.
Опера "Орфей и Эвридика" потрясла страну и даже представителей Запада. Этот проект имел такой же успех, как спустя годы "Юнона и Авось" Театра Ленинского комсомола. Английский журнал "Music week" назвал постановку наиболее значительным произведением года в стиле рок-музыки. А самые влиятельные и многотиражные в то время газеты страны – "Правда" и "Комсомольская правда" – писали о "принципиальной удаче" и о том, что: "Поющие гитары" предлагают не развлекаться, а познавать". Тогда воспитательная миссия артиста и произведения считалась основой существования, то есть разрешением быть.
Вот что говорил Журбин: "Партию Эвридики решено было поручить Понаровской. Она подходила прежде всего по внешним данным – была пластична, умела двигаться, у нее были выразительные руки, она элегантно носила созданное для нее художником рубище. В конечном итоге она создала вполне убедительный образ. По моему мнению, она вообще предрасположена к музыкальному театру, причем, именно к спектаклю оперного типа. В сумме ее приемов: голос, вокальная лепка образа, умение создавать развернутые эпизоды. Ей многое подвластно – от философской лирики до гротеска, сатиры…"
Для постановки оперы пригласили театрального режиссера Марка Розовского. Ира гордилась, что он называл ее актрисой. А он вспоминал: "По-моему, единственная в моей жизни актриса, которая работала до потери сознания в полном понимании этого выражения". Она действительно падала на сцене. Потому что и физическое, и нервное напряжение были велики, а она в то время худела. Этого требовали лохмотья: ее героиня ходила босиком в трикотажной тряпке, надетой на голое тело. И Понаровская голодала, чтобы добиться телесного совершенства. Однажды режиссер позвал: "Орфей и Эвридика, на сцену!" Орфей явился, а Эвридики нет. Розовский подумал: ну вот, начались эстрадные штучки, нет, это не театр… И тут к нему подошел Анатолий Васильев: "Марк, Ира потеряла сознание за кулисами".
Ирина рассказывает: "Эвридику я выстрадала. Сколько нам с Альбертом Асадуллиным (Орфей) пришлось намучиться с этой работой! Иногда казалось, что мы зря за все это взялись, что ничего не получится. Там был очень трудный вокал, но дело даже не в этом – мы ведь играли в опере, от нас требовались и актерские данные. Приходилось нелегко не только психологически, но и физически: то бегали, то пели лежа и все это с микрофоном в руке. Надо было тщательно следить за тем, чтобы не запутаться в шнуре. Существовала даже специальная шнуровая режиссура. Эвридику я сыграла свыше ста раз. Когда мою роль передали другой артистке, я почувствовала себя матерью, отдавшей ребенка в чужие руки".
Роль отравила Понаровскую на долгие годы. Спектакль, где режиссер выстроил мизансцены, определил выражения лица, показал движения кончиков пальцев, а ты должна лишь органично наполнить внешний рисунок внутренним содержанием – это счастье для эстрадной певицы, которая в песенных миниатюрах брошена на самое себя. Как выйти к микрофону, в чем, о чем страдать или кому улыбаться? Что делать-то? Ирина тосковала по Эвридике, как по определенности.
Взяв за основу древнегреческую легенду, авторы оперы осовременили ее. Герой – талантливый начинающий певец, победив на конкурсе, мечется перед выбором: карьера или любимая женщина? Все понимающая возлюбленная отпускает и благословляет его. И Орфей попадает в капкан славы со всеми ее атрибутами, которые до такой степени его опустошают, что он теряет способность чувствовать о чем поет, сердце замолкает, голос пропадает. Тогда он вспоминает о прежней любви, кидается к ней – за прощением и новыми силами. И она не отвергает его, делиться всем, чтобы воскресить героя своей памяти, но уже не для себя.
Из пяти лет в "Поющих гитарах" Понаровская два года жила Эвридикой. И, конечно, Васильев не хотел отпускать ее в Дрезден. Срывался гастрольный график, возбуждались сольные амбиции. Не к добру такие самостоятельные вылазки на фестивали. Но Ирина узнала о вызове и поехала. Сначала в Москву. Мама сопровождала дочь в министерство культуры, где ни о Понаровской, ни о конкурсе не знали. Никто не поинтересовался ее репертуаром, костюмами. Они сели на чемоданы перед министерством и загрустили: куда податься? Гостиницу никто не заказал (в то время забронировать номер в столичном отеле можно было только по письменному запросу из какого-нибудь очень уважаемого ведомства). А ведь подразумевалось, что певица должна представлять за границей страну!
В Дрездене собирались исполнители из социалистического лагеря, то есть конкурс считался ограниченным, для своих, без разлагающего мирового влияния. Поэтому участников отправляли туда спокойно и безразлично, во всяком случае, от нашего государства. Победа была престижна лишь для самого артиста, преимущественно начинающего.
Ближе к вечеру Нина Николаевна и Ирина получили указание министерства культуры ехать в гостиницу "Россия". Там их подселили в номер к веселым, шумно пьющим женщинам. Обретя в них напутствие родины, певица отправилась побеждать.
Нина Николаевна: "У нее никогда не было заметного страха перед сценой. Бен Бенцианов, с которым работал мой муж, как-то увидев Иру совсем еще девчонкой на сцене, где она, балуясь после папиного концерта, спела "Дорогой длинною да ночкой лунною…", сказал: она как будто родилась на сцене. И еще, помню, она участвовала в сборных концертах во дворце спорта "Юбилейный", и директор Ленконцерта кричал за кулисами артистам: поглядите, как Понаровская двигается, что вы смотрите в одну точку, вокруг же публика, вот она, совсем девчонка, а понимает, как и куда повернуться, взглянуть… Никогда не видела ее в состоянии сумасшедшего волнения перед выступлением. Может быть, она умеет так собраться и скрыть это?".
Перед Дрезденом Ира впервые коротко постриглась – сама. "Стрижка привела всех в восторг, – вспоминает Нина Николаевна, – потому что таких коротких волос никто тогда не носил. Она стремится во всем быть первой".
Понаровская родоначальница накладных ногтей на нашей эстраде. И ни на чьих иных руках они не казались такими естественными. Она стала первой среди певиц блондинкой, заразив коллег волной всеобщего осветления волос. Она начала использовать разноцветные парики. И за ней последовали другие. Настолько органичны были для нее эти метаморфозы, что сами преобразующие детали казались лекарством от комплексов, гарантией совершенства. И как-то упускалось, что основная их ценность – это ее личность, и без нее они всего лишь ногти, парики, мишура…
Короткую стрижку Ира сделала и потому, что уже пошаливали почки, и роскошные длинные волосы сыпались.
В Дрездене Понаровская исполнила две песни: на русском языке – "Люблю" композитора Якова Дубровина и на немецком – "Садись в поезд своей мечты". Она получила первую премию. Родина этого не заметила. Правда, через год в министерстве культуры вспомнили, когда понадобилось послать кого-то на более значительный конкурс в Сопот: а вот у нас девочка вроде как первую премию в прошлом году получила, давайте ее и отправим.
И отправили. Она уже ушла из "Поющих гитар". Опера, порой по два спектакля в день, ее измотала. Хотелось чего-то нового: "Я очень благодарна ребятам. Они воспитали во мне много такого, до чего я сама не дошла бы. Не отбирая у меня женского начала, они сделали меня в работе мужиком. Всякие бывали ситуации. И обструкции мне устраивали, не разговаривали со мной. Но после ряда испытаний, они начали проявлять уважение, убедившись, что язык у меня на замке, что я не тусуюсь, а вкалываю. Они были на 7-8 лет старше меня. Я была их маленькая любимица. На гастролях никогда не шаталась по гостинице, стеснялась даже чай или сахар попросить у ребят. У меня все было свое. И они ко мне заходили поболтать. Все приставания я пресекла раз и навсегда. Они запомнили, что я не по этому делу. Или с книжкой сидела в номере, или с вязанием".
У Иры еще не было своих поклонников. Фанатки сопровождали ансамбль. "Поющие гитары" называли их "пятой колонной". И поначалу девочки ревниво восприняли появление женской особы среди своих кумиров. Но скоро поверили, что солистка "Поющих гитар" не искательница приключений. Однажды лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев назвал Понаровскую «мисс моральный кодекс». Точнее не придумаешь. А Валерий Леонтьев зовет ее "нержавеющей и непокобелимой". В свою очередь Ирина выделяет его среди коллег как философа, оптимиста и порядочного человека.
В 1996 году в гостинице одного из российских городов, где заночевал эстрадный десант, заброшенный в населенные пункты страны с целью агитации за Ельцина перед президентскими выборами, Валерий Леонтьев постучал в номер Понаровской и выставил в коридор открывшую ему дверь костюмера Дину. Затем приблизился к Ирине, уже лежавшей в постели и готовой ко сну, и предложил свою любовь. По его признанию, он мечтал об этом долгие годы, но робел открыться, а когда почти решался, она оказывалась либо замужем, либо влюблена в другого. У ошеломленной натиском Понаровской вырвалось: "Валера, я считала, что ты вообще не по женской части. И к тому же ты пьян." Леонтьев пояснил, что трезвым он бы опять струсил. Много лет она притягивала его и пугала. Такой вот платонический служебный роман, когда одна сторона не ведает, как сильно влечет к ней другую. Придя в себя после неожиданного признания, Ирина вынуждена была ответить: "Валера, где ж ты раньше был? Я ведь опять замужем".
В ее ленинградский период на эстраде не существовало понятия тусовка. Тем более все это не называлось шоу-бизнесом. Был круг исполнителей, в котором имя Ирины занимало некое место, в то время как сама она выпадала из него. Отдельно от ансамбля «Поющие гитары» Понаровская начала существовать для родного города, лишь переехав в Москву и добившись известности в столице. То есть отечество оценило ее из-за рубежа. В Ленинграде закулисные интриги проходили мимо: "По молодости, по характеру я думала, что все вокруг хорошие, что слово есть слово и нельзя сказать человеку в глаза одно, а за глаза другое. Мне было больно и неприятно с этим сталкиваться. Поэтому я старалась не замечать, не слышать, уходить. Я не знала, что ответ на вопрос "как стать знаменитой?" требует математических расчетов и множества компромиссов". Похоже, она стала знаменитой вопреки правилу, поскольку годы так и не научили ее просчитывать карьеру.
Верхом популярности исполнителя (и честью для него, с точки зрения чиновников) являлось приглашение на правительственный фуршет в роли скомороха: артист способствовал пищеварению престарелых руководителей страны. Сейчас это может позволить себе любой бизнесмен, а тогда – партийные и комсомольские работники. Понаровскую почтили этим доверием в 1976 году. 7 ноября, в годовщину празднования Октябрьской революции, вызвали из Ленинграда в Москву. Промерзнув на трибуне Мавзолея, лидеры партии и правительства собрались в банкетном зале Кремля согреться и развлечься концертом. В 14.00 он закончился – артистов выдворили. Понаровской выдали билет на "Красную стрелу", и до ночи она просидела на вокзале. Подобное обращение оскорбило ее так, что впоследствии она предпочитала не баловать властьимущих своим вниманием, всячески избегала приглашений, и постепенно ее перестали звать, что совсем не способствовало певческой карьере.
Случались у нее выступления и для комсомольцев из аппарата ЦК ВЛКСМ (они резвились разнузданнее своих старших товарищей из ЦК КПСС, у которых уже просто не хватало здоровья). Понаровская так оценивала комсомол: «Это доильня. Он только доит. Конечно, если на этих начальников сесть, тогда они тебе что-то сделают. От меня всегда хотели определенных вещей, а я не допускала подобного покровительства. Мне было неудобно и стыдно. Я считала, что если имею талант, то я чего-то стою именно благодаря ему". Не развлекалась она в бане ни с комсомольцами, ни с коммунистами. А ее хотели видеть прежде всего там и потом уже на сцене. За ее "нет" по одному пункту программы следовало ответное "нет" по другому.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ОТ МОЛЬБЫ ДО ЗАКЛЯТЬЯ
"Я закладываю свою душу дьяволу… а свое имя – звездам". (Шиллер. "Разбойники").
"Мерседес" ее имени
"Сопот" в 70-е годы был для нашей страны лучом света в мировую эстраду. На конкурс съезжались исполнители из стран социализма и капитализма. И даже незначительные имена звучали для советских телезрителей по-звездному. К телевизорам подключали магнитофоны, у кого они были, чтобы записывать иноземную музыку. Гран-при "Сопота" было весомее "Оскара" и "Грэмми" вместе взятых, потому что о существовании последних наши граждане не ведали. И Ирину на фестивале Сопот-76 внутренне колотило, хотя внешне она выглядела бесстрашной. Родина снова не поинтересовалась ни песней, которую она везет на конкурс, ни костюмом, в котором думает выступать, зато провела инструктаж, как следует себя вести, на что тратить деньги, с кем общаться. Государственная безопасность превыше всего. Поэтому ощущение, что она представляет огромный, могучий Советский Союз, Ирина подпитывала самовнушением. Правда, от этого не становилось теплее – Родина раздувалась в масштабах до головокружения и пущей паники: а ну как подведу? И Понаровская старалась переключиться на более мелкую величину – на себя. Провал унизил бы ее в собственных глазах. Нельзя допустить подобного позора: ау, "Поющие гитары", где вы?!
"Я ехала туда с надеждой хоть что-нибудь получить. Смотрела на конкурсантов и думала: насколько я на далеких подступах к ним. Всегда интуитивно определяю вес, который могу взять. Вот есть штангист, знающий: один шанс из ста, что возьму. И он использует шанс. А я нет. Может, это плохо. Может, я большего бы добилась в жизни. Но в 23 года получить то, что я получила в Сопоте, было непосильной ношей. Слишком велика оказалась ответственность. Тогда динамика возраста была иная. В эти годы человек только заканчивал вуз и устраивался на работу. Может быть, потому все так и складывалось дальше в моем творчестве: и пропадания, и неудачи". Она не пела в хоре первым голосом.
С платьем для конкурса было меньше проблем, чем с песней. Наряд ей сшила Эмма Лучкина, жена известного ленинградского поэта. Замечательная мастерица первой начала одевать Понаровскую с шиком. Будто нашла достойную фигуру. Кстати, в 1974 году Ира сама придумала себе наряд с глубоким вырезом на спине, определив на будущее степень собственной открытости. Не то чтобы она вообразила, что спина у нее красивая, просто ей всегда шли платья, закрытые впереди до подбородка. Но обнажиться где-то хотелось, пришлось перенести декольте назад. Вызов всем выстрелам с тыла.
Модельерам нравится ее наряжать, потому что она умеет красиво подать костюм, не выпячивая себя в нем. Может, именно поэтому публика всегда отмечает одежду прежде, чем замечает певицу. Она скромно отводит себя на второй план.
Много лет Понаровская дружит с модельером Элеонорой Курринен, хозяйкой очень популярного в Питере авторского ателье. "Эля меня чувствует, ее вкусу можно доверять. А уж качество! Ее вещи можно носить хоть с лица, хоть с изнанки". Элеонора говорит: "Шить для Понаровской – праздник. У нее бездна деликатности, такта. Чувство стиля потрясающее. Она сама – стиль. Ни за что не закажет "не свою" вещь и в то же время она всегда в поиске. Ведь мало одеться стильно, надо еще уметь себя в этом подать. Ира – удивительный человек по своей органичности. Мне кажется, когда она выходит на сцену, в ней поет все: и душа, и лицо, и одежда".
Понаровская порядочна и жертвенна до ломоты в суставах и зубовного скрежета со стороны. Только собой он позволяет себе распоряжаться на правах собственницы. Иногда это утомляет и раздражает окружающих. Столь болезненная чистоплотность в отношениях, такое превознесение чести и достоинства обязывают к церемониальности, величавости не только облика, но и внутреннего мира: испытываешь потребность причесать душу. И ради расслабления те, кто рядом, порой сбегают в состояние противного загула. Ее же дух противоречия, наоборот, делает еще более сдержанной, отстраненной, контролирующей все непозволительные взбрыкивания натуры. Если таковые случаются, то в глубине дома и в присутствии очень доверенных лиц, которые не разболтают. Не потому ли сплетни о ней как правило неправдоподобны и путаны, что придумывают их посторонние, не знающие ее люди.
История с песней "Мольба" показала, насколько значимо для Понаровской понятие «благодарность»: "Я искала песню для конкурса, и Александр Журбин пригласил меня к себе, сказав, что у него есть интересные мелодии. Но все, что он играл, меня не устраивало. И тут Лора Квинт, бывшая тогда его женой, напомнила еще о какой-то мелодии. Он сыграл, и я вскрикнула: вот эта песня! Он сказал: хорошо, а о чем должен быть текст? Я ответила, что не знаю, но стихи надо заказать Илюше Резнику. Я уже исполняла одну из его первых песен. И Журбин заказал текст Илье. На радостях, что у меня будет такая песня, я пообещала Саше записать на пластинки и остальные его творения. И вот прихожу на фирму "Мелодия", и вижу Резника. А из студии слышу свою конкурсную песню уже со словами, которые выпевает голос Сергея Захарова. Со мной истерика, я требую от Ильи объяснений. К нам выходит Сережа и спрашивает: "Что случилось?" Я рассказываю ему предысторию. Естественно, Захаров уже был в то время звездой, и Резник, забрав у Журбина фонограмму, предпочел этого исполнителя. Сережа поступил как джентльмен, сказав: "Ира, песня твоя". Хотя ему она тоже не помешала бы".
Потом еще был случай. Понаровская возвращалась на сцену после рождения ребенка. Требовались хорошие песни, хотя бы одна ударная. И позвонил Резник с фантастическим предложением: "У меня есть для тебя стопроцентный шлягер на музыку Паулса". Ирина загорелась. А вскоре услышала "Еще не вечер" в исполнении Лаймы Вайкуле. Песня действительно стала шлягером. И Понаровской в тот переломный момент она не помешала бы. Впрочем, Илья Резник – талантливый поэт. Ему тоже достается от исполнителей, которых он нет нет да и упрекнет в неблагодарности.
А в "Мольбе" есть его вклад. Как и в том, что Гран-при фестиваля "Сопот-76" получила Ирина Понаровская. Через восемь лет она вернула стране эту награду. Тоже своего рода олимпийское золото.
Член жюри от СССР ленинградский композитор Александр Колкер вспоминает: "Конкурсные концерты проходили в Зеленой опере, вмещающей тысяч пять поклонников этого вида искусства. Жюри располагалось в центре зала. Нас было много, больше двадцати человек. Все мужики. Перед нами стоял легкий элегантный стол, на котором заранее разложили программу выступлений – "кто за кем" и "кто есть кто"… "Гран-при" мы присудили Ирине Понаровской. И по заслугам… На сцену вышло само очарование. Юная стройная красавица. Как бы в пику всем нашим "березонькам", она была одета в легкое прозрачное шифоновое, или крепдешиновое, или крепжоржетовое платье. (Я в этом не разбираюсь.) Самое главное, что эта ткань была прозрачной. Мало того, она плотно обтягивала тело певицы. А тело было (О, Боже!) – голым! На оркестровом вступлении Ира сделала непринужденный оборот вокруг своей оси, давая рассмотреть себя со всех сторон. Стол жюри приподнялся…"
Вторую конкурсную песню она исполняла на польском языке – "Была птицей". Когда ведущий объявил: "Ирэна Понаровска!" – и появилась девушка с заморскими чертами лица да еще запела по-польски, не поверилось, что она наша соотечественница. На заключительном концерте ее вызывали на поклоны девять раз и заставили-таки петь на бис в нарушение фестивальных традиций. За рубежом Понаровскую приняли как родную гораздо раньше и достойнее, чем это случилось дома. Польша носила ее на руках. Как прежде Германия. Журналы публиковали на обложках ее портреты. Одна из таких фотографий откроет ей дорогу в кино, но позже. В Сопоте ее возили на персональном "Мерседесе", на номере красовалось: "ИРИНА ПОНАРОВСКАЯ". На улицах брали автографы. После победы ее номер в отеле заполнили корзины цветов. Она устроила в ресторане прием для советской делегации, так как общего банкета лауреатов не было. И, сидя за столом спиной к залу (как она предпочитает), Ира принимала поздравления соотечественников. А платье на ней было опять же с декольте сзади. И вдруг кто-то деликатно дотронулся до ее плеча. Она обернулась и увидела очередь из мужчин. Каждый ставал на колено и целовал ей руку. Ведь не приснилось же это!
И Алла Пугачева, бывшая на том конкурсе гостьей, подарила ей розу и поздравила с победой. А потом они вместе поехали в Варшаву, где их снимало телевидение. Жили в одном номере, испросив себе "люкс", куда им закатывали тележки с ужином. Гуляли по-звездному! Премия была денежная: вместе со статуэткой "Янтарного соловья" Ирина получила 25 тысяч злотых. Огромная сумма! И родные чиновники ничего не отобрали, кроме суточных.