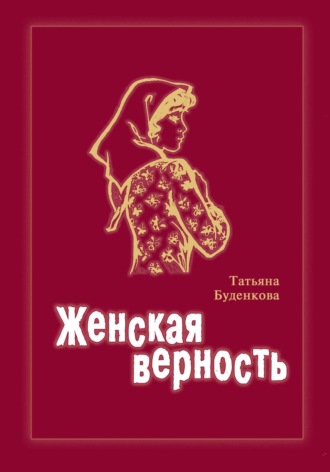
Полная версия
Женская верность
Но соседка не очень-то махала лопатой.
– Не жалься, Мотька! Не вернуться мужики живыми, от святого духа родишь?
Соседка по другую руку от Акулины воткнула лопату в землю и, отдыхая, облокотилась на черенок подбородком.
– Бабоньки, бабоньки, перекур объявлю всем. Вместях отдыхать будем, – сержант стоял крайним и вместе со всеми орудовал лопатой. И только тут Акулина заметила, что у него в том месте на галифе, где должно быть колено, расползалось бурое пятно. Она распрямилась, выгнула занемевшие шею глубоко и плечи, глубоко вздохнула и, как у себя на картошке, продолжала копать. Пот заливал глаза. Спины она уже не чувствовала. А сержант всё не объявлял перекур.
–Иван Фёдорович, очумел що ли? Побойся бога.
–Бабоньки, рядом долбють! Слышь – автоматные очереди доносятся? Негде будут мужикам зацепиться. Войдут немцы в деревню. Попробуй их оттуль выкурить!
Какое-то время все копали молча. Потом услыхали какое-то чавканье по просёлку.
–Перекур! Девоньки, милые, кухня солдатская, и запах, чуете, каша – в ней вся сила наша. Женщины выбрались из траншеи, кто головным платком, кто подолом вытирая потное лицо.
Возница, пожилой солдат, по форме которого ни одна разведка мира не определила бы, к какому роду войск он принадлежит – таким разнокалиберным было его обмундирование – остановил лошадь и прокричал: «Подходить со своей посудой и по одному разу».
Все засуетились, доставая из котомок чашки да ложки. Акулина тоже встала в очередь. Есть хотелось так, что, казалось, живот к спине подвело.
Раздав всем по черпаку каши, возница собрался уезжать.
–Бабы, а начальство-то наше где? Не емши останется. В рощу-то ему бежать не с чего, вроде, – Акулина посмотрела по сторонам.
–Есть чего ему в роще делать! Раненый он, щоб повязку поправить, надо портки сымать. Вот он от нас и хоронится.
Мотька облизала ложку. Положила в чашку. Подошла к вознице: «На двоих».
–Кому ж энто? Не слепой покель. Всех отоварил, – возница стал пристраивать черпак, собираясь уехать.
– Не слепой, да глупый. Солдат тут нами командует. Раненый он. Ложь, говорю, на двоих.
– Так бы и сказали! – в чашку шлёпнулись две порции каши. И по дорожной грязи опять зачавкали колёса полевой кухни.
К исходу дня все копали молча. Сил не было не на что.
–Всё, бабоньки, айда домой.
–Счас бы в баньку, – Акулина помнила, как после копки картошки банька её спасала.
– Кто ж нам её приготовил?
– Нас вон какая орава. Уж по ведру воды принесём. Баня парит, баня правит, – Акулина шла, заложив руку за спину, чуть ссутулившись. Да и другим товаркам было не лучше.
Как-то все засуетились. Сами не заметили, как и воду натаскали, и дров добыли, и натопили. И, как положено, берёзовый веничек в ушате замочен был.
–так, бабоньки, первым идёт Иван Фёдорович, – хоть никто и думал возражать, но Марья воинственно окинула всех взглядом.
– Покель он в бане, портки бы его простирнуть, на печь сушить положить, а то от крови да мокрой земли совсем заскорузли, – Акулина достала сменную рубаху, примерилась и оторвала подол. – Боязно мне, но, може, кто посмелее – повязку ему поменяет, а я покель портки на речке простирну, – и Акулина протянула оторванный подол.
– Давай, ужо, – Мотька вздохнула, глянула на дверь баньки и, немного приоткрыв, крикнула в дверь:
–Иван Фёдорович, ты, как помоешься, сразу не одевайся, а так накинься чем. Взойду, рану перевяжу.
–Да ежели есть какая тряпица, то я сам…
– Не тяни, сам всех до свету подымишь. Мне сподручней.
В эту ночь уснули не сразу. И негромкий шелест женских разговоров висел в бывшем правлении до тех пор, пока все не помылись. Но усталость взяла своё. Ещё луна не успела подняться над деревней, как сонное дыхание заполнило комнату.
Утро следующего дня было таким же серым и туманным, как и все предыдущие. Накрапывал дождь. К будущим окопам подошли молча. Было видно, что работа в этом месте подходит к концу.
–Девоньки, могёт, докапаем, да хучь на денёк-другой домой отпустят? – молодая, красивая девка Настасья с тоской смотрела на свои ноги в остатках размокшей старой пары ботинок.
–Чегой-то тихо. – Мотька покрутила головой, будто стараясь чего-то услышать. Все уже привыкли к близкой канонаде, начинавшейся с рассветом каждое утро.
–Всё, бабоньки, заканчиваем здесь и передислокация.
– Никак опять отступаем?
– Нет, забавы ради убиваемся тут!
– Разговорчики, живо все в траншею!
– Акулина привычно махала лопатой, стараясь размять спину, руки и ноги. Краем глаза, распрямляясь, поглядывала на товарок. Но что-то в привычной картине было не так. Акулина распрямилась, окинула всех взглядом и увидела: новенькая, только вчера пришедшая молодая женщина машет почти пустой лопатой. Подхватит небольшой комок земли, не спеша выбросит наверх и опять то же.
–Это що же? Никак самая хитрая выискалась? – Марья уже пробиралась по траншее к новенькой.
–А чего пупы надрывать? Всё одно немцы тута будуть! – взвизгнула новенькая.
–Опреж немцев нашим мужикам тута биться! Може, мужей, да братьев своих от смерти спасаем. Дура! – Марья со злости плюнула.
– А нету у меня ни мужа, ни брата. А тапереча, думаю, апосля такой работы уже и дитёв не видать, – и, бросив лопату, вылезла на бруствер.
– Дура и есть дурра. Под суд захотела? Мобилизованная ты. И значит судить тебя будут по законам военного времени, – Иван Фёдорович говорил спокойно.
– А мне всё одно, кака власть. Никуды не пойду. Коровам хвосты крутить, да дитёв рожать, хучь при какой власти – бабья участь.
– Да у немцев в Германии своих баб пруд пруди. А тебя, дуру, используют, да опосля пристрелят. Не ты первая, плохо, что и не последняя, выискалась. Думаешь, умнее других? Накось – выкусь ! – и Мотька сунула ей в лицо фигу.
–Прекратить разговорчики! Уходить нам отселяя до обеда, ежели хотите солдатской ухней попользоваться. Потому как ждать нас она будет за Выселками сразу после полудня. Там и новую дислокацию получим, – говоря всё это, Иван Фёдорович продолжал орудовать лопатой.
К ночи этого же дня уставшие и вымотавшиеся до предела, промокшие и продрогшие женщины добрались до нового места дислокации.
Разместились в пустом, видать, давно заброшенном доме. Но рады были и старой развалихе с печкой.
– Всем разуваться и ушить обувь. А то тут к утру форменный лазарет будет, – Иван Фёдорович сидел на корточках у входа. И было видно, что не уйдёт, пока все обувку на просушку не поставят. Опасался он не зря – женщины просто валились с ног от усталости.
– Ты глянь-ка, глянь, а матушки мои… – Марья стояла возле новенькой и не понять – то ли с сочувствием, то ли с раздражением рассматривала её ноги. Зрелище и впрямь было аховым. Не ступни, а сплошной кровавый мозоль.
Та сидела на полу, молча обхватив руками колени.
–У –у –у! И за что ж меня бог покарал вами – бабами… – Иван Фёдорович присел рядом с ней.
– И чего ты молчала? За время-то до того не допустили бы.
– Скажешь вам чего! Токмо и слышишь: дура, да пристрелють. Всё одно сочли бы, нарочно, мол.
– Ну, энтого уже не переделаешь. Значит, завтра остаёшься за хозяйку. Баня, порядок в хате, кипяток. Опять же, ежели картохи у местных раздобудешь – сваришь. Всё. Отбой, бабоньки.
Дни, как вода из горсти, утекали одинаково тяжёлые. Шли медленно, а проходили быстро. Траншеи, окопы, землянки… Сколько их выкопала Акулина, давно уже считать перестала.
Глава 7. Между жизнью и смертью
В сентябре тысяча девятьсот сорок первого года в Красноярске население в большинстве своём состояло из женщин. Мужчин, за редким исключением, забрали на фронт. Но уже по первому снегу, к середине октября, стали прибывать составы с укреплёнными на платформах станками и другим оборудованием эвакуированных с запада заводов. Их сопровождали специалисты, имеющие бронь, а с ними их семьи. Холодной и промозглой сибирской осенью вопрос с жильём стоял, что называется, ребром. И без того плотно заселённые коммунальные квартиры, уплотнили, да никто и не возражал. Потеснились, как смогли. Те, кто не устроился на квартиру – выкопали себе землянки. И на берегу Енисея вырос «Копай – городок». Постепенно землянки стали обрастать верхними надстройками, хлипкими и холодными, но кто-то рассчитывал сразу после войны вернуться в родные места, кто-то надеялся получить жильё тут. Однако просуществовал этот «Копай – городок» более десятка лет.
Прибывающие составы разгружали и прямо с колёс, под открытым небом начинался монтаж оборудования на площадках, которым со временем предстояло стать мощными заводами. Крышу и стены возводили потом, вокруг уже работающих станков. Росли и расширялись действующие заводы. Так завод «Красмаш» ориентированный на выпуск драг, паровых котлов и экскаваторов для золотых приисков уже в ноябре отправил на фронт первый эшелон пушек. К этому времени в этот завод вот таким «походным» способом влились эвакуированные из западных районов страны Коломенский завод №4 им. К.Е.Ворошилова, частично Ленинградские заводы "Арсенал" и "Большевик", Калужские и Сталинградские заводы. И это теперь писать красиво и браво, а тогда… Завод «Красмаш» коренные красноярцы ещё более тридцати лет после окончания войны называли «Ворошиловским».
…А тогда девчонок из ФЗУ (фабрично-заводского училища) срочно направили на вновь прибывший завод, где им ускоренными темпами пришлось освоить профессию станочниц.
–Эй, малец, ты чего?! Что ты делаешь? Стой, тебе говорю!
– И не «малец» я, а Надежда. Надежда Родкина. – Перед Надеждой стоял крупный усатый мужчина в ватнике и верхонках. Он с сомнением осмотрел её, и, не скрывая раздражения, спросил:
–И откуда ты такая взялась? Ребятня, понимаешь, порядка никакого! Территория военного объекта… без забора! Вот и результат!
–Из училища я… мы, – и она кивнула в сторону. А там возле токарного станка, стоя на цыпочках, работала точно такая же фигурка.
–Эй, парень!
–Сестра это мая, не парень, никакая мы не ребятня! Мы тут работаем! А вы кто?
–Дед Пыхто… – уже менее сердито проговорил незнакомец. – С сегодняшнего дня я ваш мастер – Петр Андреевич. Сказали, что ребята работают дисциплинированные, хо-ро-шие! Вот же, шутники. Эх!
–И чем же это мы плохи? – сердито спросила вторая фигура, наконец остановив станок.
«Совсем девчонка», – подумал старый мастер, рассматривая льняные кудряшки, выбивающиеся из-под косынки.
–Так. Во-первых, волоса убрать! Чтоб никаких кудряшек! Станок – это вам ни финтифлюшки! Это… Станок… Тебя-то как зовут? – ну куда тут деться? Эти девчонки точили детали к прицелам пушек 61-К на станках, установленных под открытым небом. Прямо над их головами сварщики варили каркас будущего цеха. Фронту нужно было оружие сегодня, сейчас, нет – ещё вчера. Он прищурился, посмотрел вверх, на мигающие огоньки сварки.
–Елена, меня зовут. Надька – сестра моя. А там, – она показала пальцем наверх, будто хотела на Господа Бога указать, – а там, – ещё раз повторила она, явно нервничая, – наш брат – Илюшка, крышу для этого цеха варит! А батя и старший брат – на фронте. Им пушки нужны. Понял?!
Пётр Андреевич опустился на корточки, примерился взглядом к станкам, к девчонкам. Ему было не до сантиментов. Ко всем его заботам добавилась ещё одна, не менее важная. Он прикидывал, какой высоты надо сделать ящики, чтобы работницы не вытягивались на цыпочках у работающего станка. И уже к концу рабочего дня принёс сколоченные из досок, два небольших ящичка, стоя на которых Лёнка и Наська ещё не один год точили детали к прицелам знаменитых теперь «Катюш».
Как-то после очередного рабочего дня Устинья зашла в ясли за младшей дочкой. Передавая завёрнутую в толстое стёганое одеяло девочку, нянечка сказала, что она сегодня плохо кушала, а к вечеру ей показалось, что у неё начинается жар. Сердце Устиньи ёкнуло так, что она присела прямо с ребёнком на руках.
–Ну что вы, мамочка. Утром вызовите врача. У вас, поди, не первый, – как-то между делом заметила нянечка и направилась за другим ребёнком. Но сердце Устиньи заныло тягучей нехорошей болью.
Дома развернула ребёнка. Прислонилась губами к детскому лобику:
–Горячая девонька моя, – постучала в стену, – Татьяна! – никого. Татьяна была на работе.
Елена и Надежда вернулись после окончания второй смены, около часу ночи. Уставшие и промёрзшие, обе прижались к истопленной печи. Устинья, молча, ходила по комнате, баюкая на руках младшенькую.
– Мам, давай я покачаю, а ты вздремни. Утром Надька сбегает, врача на дом вызовет, а я с ней останусь.
Устинья передала свёрток старшей дочери. Но даже навалившаяся за день усталость не заставила уснуть.
–Ложись. Всё одно не сплю.
Всю ночь Устинья то ложилась на кровать, укладывая рядом заболевшего ребёнка, то расхаживала по комнате, качая на руках плачущую дочку. А утром, раным-ранёхонько, чтобы не опоздать на работу, побежала в поликлинику. Входная дверь была ещё заперта, в ожидании, пока подойдут врачи, пытаясь согреться, Устинья притопывала на крыльце. И тут дверная створка чуть приоткрылась, в образовавшуюся щель высунулась седая борода сторожа:
–Ты чего, птица ранняя?
–Дитё заболело. Врача надо вызвать. Да на работу не опоздать. Сам знаешь, не поздоровится, – и захлопала себя по бокам для сугрева.
–Заходи. Всё одно открывать. Счас уже подходить зачнут. Доктора загодя приходят. А регистраторша, женщина одинокая, та и приходит рано и уходит позже некуда.
Увидев первую входившую женщину, Устинья бросилась к ней: «Дохтур, милая, за ради Христа, ребёночек у меня всю ночь горит. Помоги».
–Успокойтесь, женщина. У всех либо жар, либо что другое. Вот подойдёт регистратор, заполнит карту. Вы первая. К вам первым и пойду на вызов.
Хлопнула входная дверь.
–Вот и она.
Сторож подтолкнул Устинью к только что вошедшей женщине.
Та, расстегнув пальто и скинув на плечи шаль, кивнула: «Говорите».
Устинья продиктовала адрес. Сказала, что с младшей дочерью её старшая сестра, но после обеда она постарается сама отпроситься.
–Всё, мамаша, идите, не волнуйтесь, врач придёт.
На работе Устинья бросилась к начальнику смены: «Миленький, родименький, отпусти с обеда. Дитё малое грудное горить всё. Оставила со старшей дочерью. Да той самой со второй смены итить. Врача вызвала. Може, за лекарством в аптеку сбегать. Али больничный выпишет».
–Отпусти, Семёныч, – вступилась сменщица. – Я за неё эту смену отработаю.
– Ох уж мне эти бабоньки! То понос, то золотуха! Беда с вами. Ладно, уж! Иди. Но чтоб завтра как штык. Сама знаешь, время военное.
Устинья мотнула головой: «Завтрева, завтрева…»
На третьи сутки участковый врач после очередного обхода сказала Устинье, что если в течение следующих суток температура не спадёт, то придётся ребёнка в больницу положить.
Вернувшаяся поздно вечером Татьяна принесла травяной отвар и наговоренной воды.
–На-ка вот, чайной ложечкой губки ей смачивай. А счас давай умоем.
В жарко натопленной комнате девочку распеленали. Татьяна, склонившись над малышкой, и положив свою руку ей на лоб, шептала одной ей ведомые слова заговора. Окончив, окропила принесённой водицей лоб, ручки и ножки ребёнка. Казалось, девочке стало легче. Она успокоилась и вроде задремала. Татьяна надвинула ещё ниже свой платок и взглядом показала Елене: выйди.
–Устишка, пошла я. Нужно, так стукнешь.
–Ты-то куды? – увидев, что Елена накинула душегрейку, спросила Устинья.
–На двор я, мам. Уж заодно с тёткой Таней выйду, чтоб тепло не выпускать.
На крыльце становились.
–Не жилец она. Ты, Елена, присматривай. Мать не пугай. Всё в руках Божьих. Может, Бог даст, я ошиблась.
И Татьяна, как-то ссутулившись, что совсем не было похоже на неё, пошла вокруг барака.
Казалось, девочке стало легче, и она дремала в забытьи. Устинья тоже прикорнула рядом. Илья был на работе. Надежда тоже работала.
Утром, ещё затемно, Устинья встала.
–Ты тут приглядывай, а я схожу водицы принесу, да дров нарублю. Надо печь подтопить. А то кабы не охолонула наша девка.
Елена, молча, кивнула и стала расчёсывать волосы. Устинья, накинув фуфайку, тихонько, чтоб не звякнуть дужкой, взяла ведро и вышла за дверь. Елена присела на край родительской кровати, где на подушке, казалось, дремала младшая сестра.
«Может, тётка Таня ошиблась. Сама сказала, всё в руках Божьих. Поспит, проснётся, да пойдёт на поправку». – Придерживая дыхание, чтоб не потревожить сестрёнку, Елена склонилась над ней. Капельки пота на детском личике высохли. И даже жар на щеках поблек. Дыхание перестало быть прерывистым. Казалось, болезнь отступает. Тихонько скрипнула дверь. Устинья принесла воды. Елена приложила палец к губам. Мол, всё в порядке, тише, спит. Устинья кивнула и жестом показала, что пошла рубить дрова. Дверь снова чуть слышно скрипнула, закрываясь. Елена сидела рядом с сестрой. Вдруг неожиданно и резко защемило сердце, в какую-то долю секунды ей показалось, что оно куда-то провалилось, дыхание перехватило. Елена, хватая воздух ртом, кинулась к двери позвать мать, но уже в следующее мгновение сердце тяжело и гулко забухало в груди. Елена метнулась назад, к сестре. Детские щёчки уже не горели. Елена прикоснулась к маленькой ручке – та была тёплой и безвольной. Дыхание девочки стало чуть заметным. Елена, которая и сама не знала, верит ли в Бога, кинулась к образам. Все молитвы, которым учили её с детства, вылетели из головы.
–Господи, спаси мою сестру, Господи, Господи…
Она снова вернулась к девочке. Щёчки ребёнка бледнели на глазах. Что-то неуловимо изменилось в детском личике. Ребёнок умер. Елена сползла с края кровати на пол и, стоя на коленях, не в силах была поверить в случившееся.
В длинном барачном коридоре послышались шаги. Устинья возвращалась с дровами. Переступив порог, тихо, стараясь не шуметь, опустила дрова у печи. Повернулась к Елене: «Що?» Медленно сделала несколько шагов, отделявших её от кровати, где лежала дочка. Наклонилась над ребёнком. Поняла всё сразу. Но материнская душа не хотела верить: «Жар спал, уснула…». Устинья кинулась назад к печи, припала холодными руками к горячей кастрюле, чтоб согреть их. Сбросила с себя на пол фуфайку. Вернулась к кровати, бережно развернула бездыханное тельце.
–Матерь Божья, дай мне силы перенести то, что не пожелаю самому злому врагу, – пережить смерть дитя свово.
Стоя на коленях у кровати, Устинья то ли тихонько выла от душевной боли, то ли молилась за новопреставленную дочь свою. Елена, размазывая слёзы по щекам, запеленала сестру, будто опасаясь, что та замёрзнет.
–Врач обещалась сегодня после обеда зайти. Может, мне сейчас в поликлинику сходить? – Елена посмотрела на мать.
–Ну що ж, иди. – Устинья сидела рядом с ребёнком, не в силах принять случившееся, но предстоящие заботы требовали внимания…
Четвертинку бумаги врач выписала, не выходя из комнаты. Передала Елене.
–Печать в регистратуре поставишь. По этой справке место на кладбище выделят. Там сторож. Больничный закрою завтрашним днём. Больше не могу.
День стоял морозный. Снежные сугробы искрились и переливались блестящими искорками. Кладбище находилось на горе, которую местные называли Лысой. Да и в самом деле, не было на ней ни одного кустика, зато летом у подножия буйно цвела черёмуха.
Пока добрели туда по снегу, Устинья и Елена взмокли от пота. Сторож, выпивший мужик, и бумажку смотреть не стал.
–Готовых могил нет. Рыть их седни не кому. Земля промёрзла – сами не осилите. – И пошёл вперёд.
Устинья и Елена пошли следом. Поднявшись на пригорок, сторож указал место: «Вот здеся. Решайтесь, как там. А я в сторожку». И поковылял назад.
–Думай, не думай, надо долбить. Взад – назад ходить у нас силов не хватит. Да и кто нам в помочь? – Устинья ногой разгребла снег.
–Да ведь нет ни лопат, ни кирки.
–Спросим у сторожа, должны быть. А уж потом ему помянуть поднесём.
Под снежным покрывалом земля ещё не успела окончательно промёрзнуть. Но копать всё равно было невозможно. Долбили, откалывая комья, до самого вечера. Уже стало смеркаться, а могилка была всё ещё мелковата.
–Надо возвращаться. Уж, какая есть. И так затемно придём. А Наське и Илюшке в ночь на работу. Заканчивай, – и Устинья осмотрелась по сторонам.
Начинала мести позёмка, снег колючими иглами бил в лицо, сыпался за воротник. Белое, метущееся поле окружал мрак. Стемнело так быстро, что обе не заметили как. Месяц ещё не взошёл. И только далеко внизу мерцали огоньки Бумстроя. Подхватив лопату и кирку, осмотрелись. Но сторожка просто исчезла в этой бело-чёрной круговерти. Страх холодной струйкой пробежал между лопаток.
–Клади инстрУмент в могилку. Завтрева отдадим. Куды им тут деться! Да пошли отсель. Не место живым ночью среди мёртвых.
–Куда идти-то?
–Всё одно дорогу замело. На свет и пойдём. С Божьей помощью доберёмся.
И они побрели по снегу.
В дверях барака столкнулись с Илюшкой.
–Куды ты? – замёрзшие губы слушались плохо.
–Искать вас. Ночь, темень. Мороз.
В комнате, кроме Надежды, возле маленького гробика, установленного на двух табуретках, сидела Татьяна. Увидев вошедших, она встала: «Надька, стукни Прониным. Пусть Людка Елену к себе заберёт, а то кабы ещё беды не нажить. А ты, Устишька, пошли ко мне.
Людмила развесила покрытую ледяной коркой одежду Елены над только что протопившейся печкой, напоила её горячим чаем в прикуску с сахаром, дала свои тёплые вязаные носки. В комнате Родкиных печку не топили.
Татьяна, развесив на просушку одежду Устиньи, напоила её отваром трав. Допив приготовленное питьё, Устинья направилась к дверям.
–Послезавтрева мне на работу. Завтра и похороним.
–Не рви себе душу. Думай об живых. Тебе ещё троих сберечь надо, да двоих дождаться.
–Дитё моё, малое… – Голос Устиньи прервался.
–Пойдём, на крыльце постоим. – И накинув плюшевую жакетку, Татьяна открыла дверь.
Морозный воздух ударил в лицо. Дышать стало легче. Устинья подняла глаза к небу: «Царь небесный, Господь – Батюшка, прими дитё моё, уготовь ей светлое место и вечный покой, душе безвинной».
Илья и Надежда ушли на работу. Елену подменила подруга, и она спала на родительской кровати прерывистым, тревожным сном. Устинья так и просидела всю ночь рядом с детским гробиком. Лишь под самое утро сон ненадолго сморил её. За полночь ушла к себе Татьяна. Ей тоже с утра на работу.
На следующий день, дождавшись возвращения Надежды и Ильи, решили, что Надежда останется дома, а Илья, Устинья и Елена пойдут на кладбище. Поочерёдно подошли к гробу, попрощались с маленькой покойницей… и Илья заколотил крышку. Лёгонький гробик Устинья на руках вынесла из барака, поставила на санки. Илья обвязал его верёвкой, и они направились к Лысой горе. Ветер становился всё сильнее, забивая снежным крошевом глаза. Двигались медленно, согнувшись почти пополам, иногда поворачиваясь спиной к ветру, чтобы перевести дыхание. И казалось, эта жуткая холодная круговерть поглотала и их самих, и весь свет. И идти им так до скончания дней.
Время шло. Надежда, как это принято, следом вымыла пол. Принесла дров. Растопила печь. Холодная выстывшая комната стала наполняться теплом. Сварила кастрюлю картошки. Обжарила на сале лук и заправила её. В комнате запахло едой, стало тепло и уютно. В другой кастрюле поставила воду для киселя. На стене мерно тикали ходики. По Надеждиным прикидкам, уже давно бы пора матери, Ленке и Илюшке вернуться. Она заварила кисель и отставила кастрюлю на край плиты. Часы тикали и тикали, но никто не возвращался. За окном стемнело. Порывы ветра хлестали так, что жалобно вздрагивали оконные стёкла. Прижавшись лицом к холодном стеклу, Надежда звала: «Мама, Леночка, Илюшенька, ну где же вы? Ма-ма-а-а…». Слёзы катились из глаз мелкие, холодные, как капли пара осевшие на холодном оконном стекле.
На гору уже не заходили, а заползали. Увидев странную процессию, сторож пошёл им навстречу.
–Покойный-то где?
–Вот. – Устинья ближе подтянула санки. Сняла перекинутую через плечо котомку, достала магазинную пол литру и завёрнутое в белую тряпицу сало с хлебом.
–Помяни, чем Бог послал, дочь мою.
–Опосля. Это уж как положено, – сторож распихал по карманам бутылку, сало и хлеб.
–Идём, а то сами-то уже не найдёте. Замело здесь всё.
Засыпали могилку смёрзшимися комьями.
–Весной растает, придёте и всё поправите. Тогда уж и крест поставите. А пока вот запоминайте место. – И сторож обвёл рукой в верхонке мятущееся снежное марево.
Дорога назад ничуть не отличалась от вчерашней. Только у Ильи сильно мёрз стеклянный глаз, и он изловчился надеть шапку так, чтобы она закрывала стынувшую стекляшку.
У входа в барак навстречу кинулась Надежда:
–Мамочка, мама…
–Настыли мы. Пойдём скорее! – Илья подтолкнул вперёд мать, сестёр и, гремя заледеневшей одеждой, пошёл следом.





