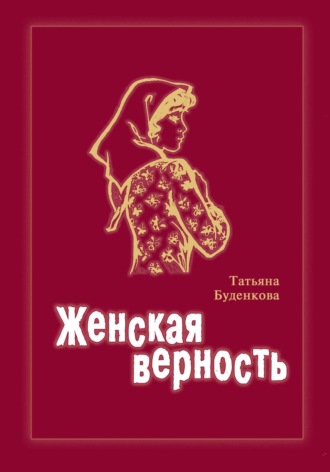
Полная версия
Женская верность
В руках Илюшка держал за крышку распечатанную консервную банку, полную холодной и, правда, очень вкусной водой.
Развязав мешок, Устинья достала два ведра и отправила девчонок по воду. Когда Тихон вернулся, семья, умытая и причёсанная Устиньиной гребёнкой, сидела на завалинке.
–Наша двадцать третья! – Голос его звучал уверенно, а в глазах блестел тот же огонёк, что и у Илюшки, когда он принёс банку с водой.
Замка на двери не было, но с обратной стороны двери был прибит жёлезный крючок. С эти крючком, без замка семья Родкиных пережила в этом бараке много разных – счастливых и страшных дней.
Измученные долгой дорогой и неизвестностью, все были рады обретённому пристанищу.
Утро следующего дня началось со странного гудящего звука.
–Это заводской гудок, – пояснил Тихон, – пора на работу. – Он умылся, съел сваренную с вечера картошку в мундирах и вышел. Устинья, провожая мужа, направилась следом. Часов ни у кого не было, и этот гудок одновременно поднимал весь рабочий люд Бумстроя.
О-о-о!!! Да тут никак три, а может и все пять таких как наша, деревень! – Столько народу шло и шло мимо неё. – Куды же столь?
–На работу, тётка. Не боись, обвыкнешь. – Незнакомый мужик ответил на её невольный вопрос.
Весь день Устинья разбирала привезённый скарб. Ребятишки насобирали деревянных обломков от ящиков, каких-то палок и просто щепок – истопили печь, сварили картоху, накипятили воды.
Лёнка и Наська превратились в Елену и Надежду. Почему Надежду? Та только плечами пожала.
–Ты же Анастасия по докУментам.
–Мамань, ну то ж в Рязани, а тут пусть так зовут, – определилась младшая.
–Школа рядом. Учатся я все. Так что с сентября Иван и Илюшка в школу, а мы в ремесленное – учиться какому-нибудь делу. Там одёжу дают бесплатно. Кормят. А потом и на работу направляют. Мы с Надькой уже записались. – Елена поставила на печь утюг. За деревянную ручку подняла его крышку и насыпала нагребённых из печи углей. Достала своё единственное, сшитое Акулиной платье и на одеяле, разостланном на полу, принялась его гладить.
Устинья днём выяснила, что воду из колонки берут бесплатно, и сколько хочешь. Знай, таскай домой вёдрами. А большой деревянный дом через дорогу – это магазин. Товару там прорва. Всё продают за деньги и сколько хочешь. А люди ничего не хватают, так что к закрытию хлеб остаётся нераспроданным.
Вечером, когда Тихон вернулся, дома был полный порядок. Кровать собрана и заправлена. На стене прибита вешалка, на ней развешаны зимние одёжки и сверху прикрыты натянутой на верёвку цветастой занавеской. Для детей из оставшихся вещей сложена аккуратная лежанка, прикрытая сверху стёганным лоскутным одеялом. У стены возвышались привезённые подушки. Новый крашеный пол намыт до блеска. На стопленной печи укутан чугунок с картошкой.
–Накось! – Тихон протянул Устинье зелёную денежную бумажку. – Аванс. Бери, да иди в магазин за хлебом. Да соли прихвати. Я покель умоюсь. Как придёшь, вечерять будем. А завтра, я договорился, стол и табуретки на всех справим. С получки рассчитаюсь.
Слов у Устиньи не было. Она молча взяла деньги и пошла в тот самый магазин. Там долго прикидывала: взять только чёрный хлеб или ещё и булку белого прихватить? Наконец, взяла три булки чёрного хлеба и одну белого – с кипятком попьют.
В этот вечер впервые за много лет семья ела досыта хлеба, а потом пили кипяток, вприкуску с белым хлебом.
Засыпая, Устинья шептала: «Надо Кулинке с матерью завтра отписать».
–Отпишем, отпишем. Приду вечером с работы и отпишем.
Глава 4. Покровское
Ранее деревенское утро ещё только наступало. Сквозь ночные облака проглядывало светлеющее небо. А на востоке вспыхнул алый мазок восхода. Воздух был прохладен, и даже роса ещё не выпала. Но Акулина уже проснулась. В доме стоял серый предрассветный сумрак. Мать спала тихо, как ребёнок. Отсыпалась за всю свою трудную жизнь.
Наступила пора окучивать картошку. Письма от Устиньи ещё не было. Тимофей же отписал, что до части добрался благополучно и сильно по дому скучает, и вспоминает её каждый вечер перед сном. И снится она ему каждую ночь, и рад он этому очень. Ещё Тимофей просил продать его выходные портки и нанять работника, потому как столько картохи выкопать ей будет не под силу, а уж в подпол спустить – тяжельше некуда. А весной к посадке, може, на недельку помочь он и обернётся, ежели часть никуда не угонят. А осенью заканчивается срок его службы, и на тот год картоху он сам выкопает.
В деревне Покровское в алых рассветах и закатах догорало лето сорокового года.
Акулина справилась по хозяйству. Выгнала корову. Поставила на стол кринку молока для матери, взяла тяпку и направилась к Устиньиному дому. Решила начать с её огорода. С собой у неё было приготовлено три варёных картофелины, огурёц, да молоко в бутылке зелёного стекла, заткнутое тряпицей. Работала Акулина не разгибаясь. Так тоска меньше душу ела, да и всяким мыслям отбой был. Ну и работы, в самом деле – конца краю не видать. Когда задеревеневшую спину невозможно стало разогнуть, а старая кофта намокла от пота, хоть выжимай, а солнце разошлось во всю и пекло нещадно, Акулина присела на крыльцо Устиньиного дома, развязала свою котомку и приготовилась есть. Но от жары и усталости есть не хотелось. Казалось, конца краю этой картошке не будет. Но если не поесть, то и сил на работу не хватит. Помощи ждать не откель. Рассиживаться долго тоже нельзя. И маленькая тоненькая женская фигурка встала к очередному картофельному ряду.
Когда солнце поднялось в зенит, Акулина закинула тяпку на плечо и пошла к своему дому. Надо было проведать мать, да натаскать воды для полива огорода.
Прасковья сидела на завалинке и, не отрываясь, смотрела на дорогу. Видела она плохо, поэтому добиралась до места на ощупь, так что больше прислушивалась, но всё равно взгляд её был направлен на деревенский просёлок.
–Ты хучь поела? Сколь раз тебе говорить, что они только добрались! А там покель устроятся, покель назад письмо дойдёт. Чего ты себе душу рвёшь? Ослабнешь, куды я тебя потащу?
Никуда Акулина её тащить не собиралась. Сама переживала не меньше за Устинью и ребятишек. Тоска по дочери, разлука с Тимофеем заставляли её сердце то комом встревать в горле, то биться так, что дух перехватывало. Но мать было жаль. Нельзя было показать вид, что тоже переживает. Вот она и придумала, что, как Тихон обещал, Прасковью скоро заберут с собой, а на дальнюю дорогу нужны силы. На самом же деле Акулина для себя решила, что дух вон, а уж хотя бы картохой она запасётся. Ежели Устинья со своим выводком вернуться, то хоть с голоду не помрут. Ну, а ежели Бог даст, устроятся на новом месте, то вот Тимоха из армии придёт и будут решать, как там дальше жить. Тут оставаться али к Устишке ехать.
Наконец, долгожданное письмо было получено. Акулина прочитав его первый раз, от волнения ничего толком не поняла. Прасковья, вытирая слёзы ладошками, просила:
–Сызнова читай. Старая я – ничего-то не понимаю.
И Акулина читала ещё раз и ещё раз…
Письмо было написано рукой Тихона и говорилось в нём, что обустроились хорошо, все живы – здоровы, но сильно о них беспокоятся. Ещё Тихон советовал продать всё, хоть бы и подешевле, но побыстрее и ехать к ним. Что жизнь тут не в пример легче.
Акулина как-то сразу успокоилась:
–Ему что? Хучь бы всё побросай. Вот ужо картоху выкопаем, весной продадим, Тимоха возвернётся, а там жисть покажет.
Но одному Богу было известно, что покажет жизнь.
Лето прошло в трудах и заботах о двух домах и старой матери. Кроме двух дочерей, вырастила Прасковья сына, который ещё до отъезда Устиньи в Сибирь, отправился в Москву на заработки, да так и пропал. Не было от него ни слуху ни духу. Родственники, которые сумели ещё раньше перебраться в столицу от голодной деревенской жизни, в ответ на письмо Акулины отписал, что однажды случайно видели его, но сам он к ним не приезжал и где он, и что с ним, не знают. Мать плакала и молилась о сыне.
Брата Прасковьи – Георгия судьба занесла на Украину, в город Сталино. Писал он редко, однако родню свою не забывал и в каждом письме советовал ехать к нему. Писал, что город, в котором он обосновался, шахтёрский. За работу платят хорошие деньги, а ещё уважение и почёт, которого в деревне, сколь не трудись, не заработаешь. Теперь Георгию стали приходить письма не только из родной деревни Покровское, но и из далекого Сибирского города Красноярска.
Наступила осень. Пришла пора капать картошку. Лишних рук в это время в деревне нет. И Акулина с рассвета до заката одна капала её родимую. Вилами подкапывала корень, обирала клубни в ведро и ссыпала в кучи, которые потом перетаскивала под навес. Картоху следовало просушить, перебрать и только потом опустить в подпол. К концу дня спина болела так, что Акулина, не разгибаясь, добиралась до бани, воду в которую натаскивала с утра, подтапливала её и тем спасалась, смывая солёный пот и разгибая спину в водяном пару.
Эх, спина – спинушка! Наверно, и ты память имеешь. Как-то через много лет в городской бане, где вода течёт, не переставая, и парная всегда наготове, зашла Акулина попариться, а спина – то и напомнила ей картофельное поле в Покровском. Никогда по жизни спина её не мучила, но и в парную она более не ходила.
Той осенью в Покровском уже приближались заморозки. А картофельному полю всё не было конца. Ежели продолжать копать, то можно поморозить уже вырытую, потому что хоть и лежит она под навесом, прикрытая кулями, но в подпол не опущена. А чуть прихватит – будет гнить и сластить, куда такую весной? Поэтому решила Акулина опустить картошку в подпол, а там как Бог даст. Будет на то его воля, продолжит копать, нет – спасёт, что сможет. Только вот как это сделать маленькой, тоненькой женщине? Обычная работа: один картошку в ведро насыпает и на верёвке опускает в подпол, второй внизу ведро принимает и высыпает. Потом всё повторяется снова. Но если Акулина ведро насыпает, то кто его в подполе принимает? Если она внизу, кто сверху нагрузит? Попробовала найти в деревне помощника – у всех осенью своих забот полон рот. Так и пришлось: насыпать, опускать, самой слезать, высыпать, вылезать… и всё опять.
Тимофею служить оставалось год. Акулина получала солдатские письма, долго и старательно выводила ответ печатными буквами и ждала, ждала, ждала…
С первым снегом пришла новая напасть. Каждый месяц в определённые дни Акулину скручивала нестерпимая боль в низу живота. Тимофей в письме отписал, чтобы она, какие есть, скопленные деньги взяла и ехала к врачам в Москву. Акулина понимала, что потеряв дочь, Тимофей вдвойне болеет душой за неё и переживает, что не может ей ничем помочь. Любовь, Любовь… Когда двое любят друг друга и эти двое муж и жена – роднее людей не бывает. Письма Тимофея Акулина хранила всю жизнь. А пока, голубоглазая и черноволосая, с непослушными кудряшками, выбивающимися из-под платка, тоненькая женщина с мешком картохи на плечах шагала в райцентр, на приём к врачу. Мать оставила на соседку, расплатившись той же картохой. В больнице дали направление на анализы, велели сдать и через десять дней приходить на приём. Но и через десять дней ей ничего не сказали. Мол, иди и не отлынивай от колхозной работы. Все анализы у тебя в норме. Мать советовала своё. Ни одного ребёнка она не рожала в больнице. У всех женщин в деревне роды принимала повитуха Наталья.
–Ну, що те лекари понимают? Наталья-то по женской части не одну бабу спасла, – убеждала Прасковья дочь.
Пришло письмо от Тимофея, где он писал, что если письмо придёт, когда она будет в Москве на лечении, то пусть сразу по возвращении отпишет, как и что, чтоб душой ему не болеть, а то каждую ночь сниться она ему и сниться.
Акулина посчитала деньги и рассудила, что в случае чего оставит полу ослепшую мать одну и без копейки. А боли становились всё сильнее. Уже и в простые дни ни ведро воды поднять, ни что другое. И Акулина решилась: «Схожу к Наталье, а уж там на край видать будет».
Наталья велела приходить вечером: «Баньку истоплю, не пужайся, худого не сделаю. Смогу – помогу, нет – поезжай в Москву».
Вечером в тёплой бане за неспешным разговором, вроде как о жизни, да деревенской работе, Наталья, уложив Акулину на полок, спокойно и внимательно ощупала живот.
–Ну, что девка, загиб матки у тебя. Шибко тяжело и много поднимала. Я так из нашего с тобой разговора скумекала, да и руки мои мне тоже говорят. Лечение я тебе скажу. Будешь соблюдать – обойдётся, нет – боль может и отойдёт через какое-то время, а детей тогда тебе не видать. Каждый вечер и каждое утро ложишься ровнёхонько на лавку, подгибаешь колени и начинаешь руками низ живота отводить вверх. Я тебе сейчас покажу, ну и на первых порах, покель сама не научишься, ко мне походишь. Да тяжести пока не подымай, а там, глядишь, и всё образуется.
Целую неделю Акулина утром и вечером бегала к Наталье. Боли мало помалу стали отступать, и Наталья, убедившись, что Акулина сама знает, что и как, велела ей лечение продолжить самой.
–А когда пройдёт, но придётся что непосильное тащить, помни: ложись ровнёхонько и руками отводи живот снизу вверх.
Расчёт деньгами Наталья не взяла. Отнесла ей Акулина два десятка куриных яиц.
Глава 5. Житьё городское
Первое городское лето для семьи Родкиных пролетело, как один день. Иван, крепко сбитый, немногословный, хоть и было ему мало лет, прибавив себе немного годков, устроился на стройку. Вихрастый, задиристый Илюшка определился в ФЗУ, а специальность выбрал такую, что сам себе завидовал – монтажник-высотник. Правда, на пути к этой мечте, пришлось ему преодолеть два препятствия. Одно миновало само собой: лет ему было мало, но к окончанию ФЗУ, он уже мог работать хоть и неполный рабочий день. А там и восемнадцать не за горами. А вот как он справился со вторым препятствием, Илья никогда никому не рассказывал, и вообще не любил говорить на эту тему. При поступлении надо было проходить медицинскую комиссию, направили его к врачу, название которого Устинья так и не научилась выговаривать, окулисту. После этих походов появился у Илюшки новый глаз. Стеклянный протез выглядел точь в точь, как живой. Вся семья была рада. Однако с таким зрением на этой специальности учиться было нельзя, но Бог весть, как это ему удалось, только Илья учился. А ещё его сильно привлекали чудесные огни сварки. И он после занятий наладился бегать на строительство комбината, а там и понятия не имели, что этот ловкий и сметливый мальчишка одноглазый. И до того там примелькался, что постепенно ему стали позволять то что-нибудь поддержать, то поднести. А к Новому году он уже сам держал электроды в руках. Со временем Илья вырос в прекрасного специалиста. Проводил сварочные работы на большой высоте. И не то, чтобы начальство не знало о его проблеме. Но по документам Илья был здоров. Инвалидом по зрению не числился. И пенсию, как положено одноглазому, не получал. А раз по бумажкам всё в порядке, и работник отличный, так о чём разговор?
Была у Ильи ещё одна страсть, кроме работы: он очень любил читать. Записался в библиотеку, приносил домой книги, а вот читать в одной комнате, когда все в одно время ложатся спать и выключают свет, было негде. И Илья приспособился читать под одеялом с фонариком. Как такую нагрузку выдерживал его единственный глаз, кто знает? Но читал он много, всю жизнь и даже очков не имел. Наверное, сильное желание и стремление, могут победить многое. Устинья говорила, что это у него из вредности всё получается. Задиристый, стремительный, резкий. Страшно и больно поломала его жизнь.
В свободные от работы вечера Иван и Илья прогуливались по Бумстрою. Так назывался барачный посёлок строителей целлюлозно-бумажного комбината. Это были длинные насыпные строения, где между двумя рядами досок засыпался шлак или то, что в момент строительства находилось под рукой, оставлялись проёмы для окон. Потом барак внутри разгораживался на отдельные комнаты разной величины, которые выделялись строителям и работникам целлюлозного комбината. В каждой комнате была печка и подпол. Строились бараки как временные. Идея для нового пустого места – хорошая. Всё-таки не землянка, да и материал доступный, соорудить просто и быстро, а люди всё прибывают – стройка! Но кто не знает, что нет ничего более постоянного, чем временное? Бараки эти снесли, а людей переселили в благоустроенное жильё только к началу семидесятых годов. То есть простояли они почти четверть века. Однако специфический быт этого жилья оставил свой отпечаток на всех, кто с ним соприкоснулся. Не только взрослые люди, но и дети, даже те, кто приезжал туда в гости ненадолго, заражались на всю жизнь царившей там атмосферой коллективизма и взаимопомощи. Белые, красные, судимые, несудимые, татары, русские, пьющие и не пьющие – образовали стойкий конгломерат. Общий быт и невозможность сохранить хоть что-нибудь в тайне, научили людей принимать друг друга такими, какими они были. Хорошо это или плохо? Когда смотришь на чужую жизнь со стороны – то и видишь всё со своей точки зрения. Для того чтобы понять, надо самому почувствовать. Да, было трудно. По-своему трудно. Но, сотни раз повторенная в наше время фраза, кому легко теперь? У каждого человека только одна жизнь. И не дано нам выбирать время своего рождения. Поэтому, в какое бы время не родился человек, он все равно стремится жить в радости, а не в горести.
Дощатые перегородки в комнатах обивали сухой штукатуркой. Поэтому, если стукнуть кулаком в стену, привлекая внимание, то можно прокричать всё, что хочешь сказать соседке. Приезжали на стройку самые разные люди. Но охотников «за туманом и за запахом тайги» в бараках не находилось. Люди жили повидавшие жизнь, многое пережившие, а потому каждый барак превращался в своеобразный клан, где никого не осуждали, всё про всех знали и помогали последним рублём, молчанием и кулаком, если надо.
Устинья со своим выводком поселилась в двадцать третьей комнате. По правую сторону жила семья Таврызовых. Высокая статная татарка с когда-то красивым лицом и маленький, щуплый, черноволосый и всегда пьяный её муж. Дети их уже выросли и, обзаведясь семьями, получили комнаты в других бараках.
По левую сторону жила одинокая женщина Татьяна Портнягина, а при ней два сына. Оба Леониды. Напротив жил тот самый шофер, который привез их с вокзала. Жена его, красавица Людмила, работала кондуктором в автобусе. Было у Людмилы голубое шифоновое платье с рисунком из бело-розовых веток сирени. Покрашенные в белый цвет волосы завиты в мелкую кудряшку – перманент. Не каждой такая причёска была по карману. Только причёска её зависти у дочерей Устиньи не вызывала, потому что и Елена, и Надежда от природы были русоволосы и кудрявы. А вот как умела ходить Людмила, как разговаривала, как держалась – на зависть!
Время двигалось к осени. Но вечера были ещё светлыми и тёплыми. Над трубами барака вился дымок. Топили печи. Электроплитки редко кто имел. Да и что сваришь на одной слабенькой конфорке на большую семью! Поэтому вечерами даже летом подтапливали дровами печи, разогревали ужин и готовили еду на завтра.
Семья Устиньи собралась на ужин. Дощатый прямоугольный стол, покрашенный коричневой краской, чисто вымыт и уже накрыт. Посреди стола стояла большая алюминиевая чаша, до краёв наполненная бордовыми от свеклы, помидор и красного перца наваристыми щами. По краям стола лежали шесть ложек, две из которых деревянные остальные алюминиевые.
Во главе стола сидел Тихон. Слева Иван и Илья, справа Лена и Надя. С другого конца стола сидела Устинья. Ужинали всегда вместе, примерно в одно и тоже время, когда вся семья была в сборе. Устинья и Тихон ели деревянными ложками. У Тихона была своя – расписная, а Устинья никак не могла привыкнуть к алюминиевым ложкам, обжигалась, да и что зачерпнёшь в такую мелкую? Ели все из одной чашки, черпая каждый своей ложкой и подставляя кусочек хлеба, чтоб не капало. После щей пили чай с хлебом и сахаром. В гранёные стеклянные стаканы наливали заварку, доливали кипятка. Тихон брал кусок сахара, клал на ладонь и рукояткой ножа раскалывал на мелкие кусочки, деля на всех. Поужинав, он поворачивался к образам, которые висели на вышитом красным и чёрным крестиком полотенце в переднем углу, крестился, благодарил господа. Семья в это время тоже вставала и ждала, когда отец повернётся и кивнёт. Это значило – ужин окончен, можно расходиться. Молодёжь, перешучиваясь между собой, спешила на волю. Устинья собирала со стола, мыла посуду, вытаскивала ведро на помойку, которая вместе с уборной располагалась напротив входа в барак. По другую сторону этого санитарно-гигиенического комплекса располагался другой барак. Тем временем на одном конце барака собирались мужики: играли в карты, рассуждали за жизнь, доставали потайные заначки и бежали за самогоночкой или техническим спиртом. По тихой распивали, крякали, занюхивая одним на всех огурцом или коркой хлеба, и уже громче вели свои нескончаемые разговоры. Чуть позже, окончив домашние дела, на другом конце барака собирались женщины. Надев чистое платье и повязав на голову свежий платок, рассаживались на завалинке, негромко переговаривались, оглядывая молодёжь, расходившуюся кто на танцы, кто в кино, а кто просто пофорсить.
В этот день соседка Людка, красавица-кондукторша, работала в утреннею смену и, значит, давно должна была вернуться домой. Но её все не было. И Иван уже дважды выглядывал на крыльцо в надежде, что она пришла, да и заговорилась с бабами. Женщины, видя настроение Ивана, негромко обсуждали, что ждёт Людку. И хотя боязно было за неё, все решили, что поделом. Какой мужик – работящий, видный, не пьющий, а она вертихвостка! Весь барак, кроме Ивана, знал или догадывался, что она гуляет с шоферами. Но до сих пор ей как-то удавалось выкручиваться перед ним. Однако сегодня, когда смена уже четыре часа, как кончилась, все с тревогой ждали её возвращения. Только странное дело, жалели не обманутого Ивана, а Людку, которой, знамо дело, быть битой. Уже почти совсем стемнело, когда, тряхнув белокурыми кудрями и бросив всем: «Здасте», Людка впорхнула в тускло освещённый коридор барака. На завалинке воцарилась тишина.
Устинья же в отличии от других прислушивалась не к звукам ожидаемого скандала, а к уличным шагам и возгласам. Лёнка с Наськой где-то гуляют. Девки, кабы чего не стряслось! Иван с Илюшкой – те редкий вечер без приключений обходились. Мелкий, по сравнению с Иваном, Илюшка при поддержке брата умудрялся почти каждый вечер найти повод для драки. Даже собственный способ имел. Назывался он на Бумстрое «на калган». То есть бил своей головой противника снизу в челюсть резко, иногда с разбега. Устоять было невозможно, ну а тех, кто всё же устоял, укладывал Иван. Куды ж деться, брат – надоть подмогнуть!
Женщины на завалинке сидели, молча ожидая, когда начнётся скандал. И только кто-то из них проговорил: «Вот умудряется», как по длинному барачному коридору послышалось торопливое постукивание каблучков. Из полумрака коридора выскочила Людка и, повернув ко всем обиженное лицо с ярко подкрашенными и сложенными капризным бантиком губками, передёрнула плечами: «Гадости, одни гадости в голове… Я работаю день и ночь… Валька заболела, на работу не вышла, я вторую смену трясусь, а он… Да чтоб я объяснялась, будто виноватая какая – ни за что!» Говорить она начала не сразу, а только услыхав, как за спиной резко хлопнула дверь и по коридору заухали тяжёлые Ивановы шаги. Каждое слово выговаривала громко, обиженно, со слезой в голосе. Тряхнула кудрями и направилась за угол барака. В дверях показался Иван. Он просто не мог не слышать её тираду. Сунул руки в карманы. Постоял немного на крыльце. Кто-то из баб, глядя на его несчастное лицо, окликнул: «Вань, ну ить работала баба. Чего скандалить? Куда ж она, на ночь глядя?»
–Знамо дело, работала. Переволновался я. Вот хвоста бабе и подкрутил.
–Вам бы только баб забижать. Иди уж, покель недалеко ушла. А то темнеет, какой дурак наскочит. Вон за угол повернула.
Ободрённый Иван, и сам поверивший во весь этот спектакль, кинулся следом.
Женщины только переглянулись: «Это ж надо…». И стали подниматься с завалинки. Пора на отдых. Ещё не успели разойтись, как показался Иван. Обняв Люду за плечи, он что-то тихонько говорил ей в ухо. Наступившая темень скрыла выражение их лиц. Ещё некоторое время слышалось хлопанье дверей, негромкие голоса и другие ночные шорохи. Потом всё стихло. В бараке готовились ко сну.
Устинья, закрыв глаза, прислушивалась к наступившей тишине, дожидалась, когда вернётся её «выводок». Тихон тоже не спал. И тихонько положив руку ей на живот, спросил: «Как думаешь – девка али парень?» Устинья повернулась лицом к мужу. Провела ладонью по кудрявым волосам, по щеке: «А кто ж разберёт? Ежели б сказать мог… Дитё наше».
В коридоре раздались торопливые шаги. В дверь тихонько поскреблись. На ночь изнутри закрывались на крючок. Устинья встала: «Ты, щоль, Лёнка?»
–Мы, мамань, мы…
Устинья откинула крючок, и в дверь вошли сначала Лёнка с Наськой, а следом Иван и Илья.





