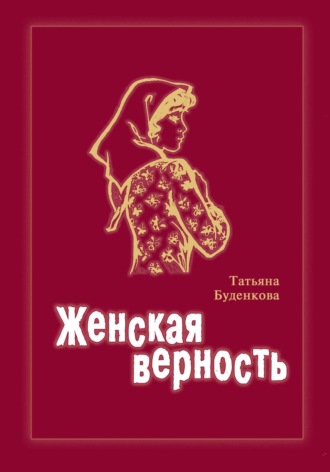
Полная версия
Женская верность
–Покель не загонишь, сами не воротятся, – пробасил Иван.
Через полчаса все спали. Утром ждал новый рабочий день.
Осень прошла незаметно. Семья жила дружно. Все вместе и каждый по-своему были счастливы. Беременность Устиньи уже стала заметной. Но она, привыкшая к тяжёлой деревенской работе, таскала воду с колонки, рано утром или поздно вечером ходила на работу – мыть в конторе полы. Жили очень скромно, экономя каждую копейку, рассчитывая перевезти к себе бабушку Прасковью и Акулину с Тимофеем. Но Акулина писала, что пока Тимофей не отслужит, она с места не тронется. Всё-таки у них дом новый, и осталось то только полы положить. Вот вернётся он домой, пусть сам решает: ехать им или оставаться в Покровском. А она – как он решит. А ещё писала, что скучает по ним очень, особливо вечерами. А перед сном ведут с матерью долгие разговоры, вспоминая Лёнку, Наську, Ивана, Илюшку, Устинью и Тихона. И Устинья, перебирая перед сном в памяти строчки письма сестры, прижавшись лицом к мужниной спине, затаив дыхание бесшумно глотала слёзы от того, что не в силах помочь сестре и матери, от того, что скучала по ним очень. Оставалось только ждать…
–Устинья, может мне Тимохе написать? – Тихон потрогал руками мокрые щёки жены.
–Да ить, пиши не пиши – куда Акулине с вещами и слепой матерью, да с деньгами от продажи домов и картошки? А дорога-то не близкая. Пущай уж ждут, пока Тимоха возвернётся. Лишь бы Бог дал матери дожить. Хучь бы мне её белым хлебом с повидлом, что ребята берут, перед смертью досыта накормить. Какой у нас там хлеб – и сам знаешь, а повидлов и в глаза не видывали, – говорила Устинья полушёпотом. Только в одной комнате всё одно было слышно всем.
–Мамань, мы для бабушки Прасковьи стул со спинкой приглядели. На табуретке-то ей уж поди не усидеть будет. – Иван зашевелился, поворачиваясь с боку на бок.
–Куды одеяло-то поволок? Куды? – заругался Илюшка.
–Спите, раскудахтались. – Тихон теплее укрыл жену. – Тоже спи. – Обнял её, устроился поудобнее и засопел ровным сонным дыханием.
А утром за окном выпал снег. Первый в их жизни сибирский снег. Походил к концу 1940 год.
В конце декабря весь барак засуетился приятными хлопотами. Кто-то собирался в дружные компании. Осуждали у кого комната поболее, где Новый Год будут встречать? С кого солёная капуста, с кого картошка, сколько булок хлеба покупать и бутылок казённой водки? Тихон и Устинья встречали Новый Год дома со всей семьёй. Так было у них заведено. Решили, что купят кусок мяса и натушат картошку и капусту, а казённую водку покупать не будут, потому как, хоть Иван и Илья уже работали, но позволить сыновьям в своём присутствии пить горькую Тихон не мог. Это как бы послабление им от него. Поэтому Устинья купила дрожжей, сахара, вскипятила воды, остудила её в ведре, добавила туда сахар, дрожжи и поставила бродить. А как-то покупая хлеб, увидела за стеклом витрины сушёные вишни. Посчитала в кармане монетки, подумала-подумала, да и купила сто граммов. Дома их сполоснула, распарила в кипятке и высыпала в бражку.
Перед самым Новым Годом сосед Иван, Людкин муж, привёз и выгрузил возле барака десяток ёлочек – налетай народ! Себе занёс отдельную красавицу. Устроил её на табуретке, против окна, а Людка из конфетных фантиков навешала на неё бантики, да бумажные снежинки вырезала, е ещё повесила на неё свои бусы, а на макушку Иван повесил картонную красную звезду.
Родкины тоже взяли ёлочку. Но ни конфетных фантиков, ни бус у них не было, а нарядить ох как хотелось! Выход нашёл Илюшка. Купили в аптеке немного ваты, набросали на ветки – будто снег. В бараке понравилось всем.
И только соседка Татьяна оставалась безучастной ко всей этой суете. В комнате её было по-прежнему тихо и чисто. Старший сын ходил в школу, младший был при ней. Весь день Татьяна была дома. Редко куда отлучалась и то по крайней надобности. Вечером уходила на работу – наводить порядок в кабинетах начальства. И хотя была она грамотная, никакой другой работы не искала. Говорила, что одна-одинешенька и детей оставить не с кем, хотя ни в ясли, ни в сад устроить младшего даже не пыталась. Да и если выходила вечером на завалинку возле барака, то больше молчала. В бараке её недолюбливали, но принимали такой, как есть.
Как Устинья поладила со своей странной соседкой – знали только они. Но было между ними понимание без слов. Иногда долгими зимними вечерами Татьяна приходила в комнату Родкиных и, опершись на костыль, с которым не расставалась, хотя не хромала, молча сидела возле печи, лишь изредка бросая отдельные негромкие фразы. Как-то само собой сложилось так, что Татьяну и её сыновей здесь стали воспринимать как членов семьи. Хотя ребята были ещё более нелюдимы, чем мать. А потом м вовсе она, как вдова, устроила их в интернат. Но каждый выходной, а иногда и на неделе мальчишки ночевали дома. Татьяна обстирывала, штопала их одежду. Даже когда оба мальчишки находились дома, в этой маленькой комнатке неизменно сохранялась чистота и тишина. Это обстоятельство часто становилось в укор Илюшке и Ивану. А ещё было у Татьяны умение лечить людей. И видеть каждого насквозь. Мало кто мог спокойно вынести взгляд её зеленовато-серых глаз из-под опущенного низко на лоб платка. Глянет на человека – и как рентгеном прошьёт. Усмехнётся одними губами, а глаза всё такие же жёсткие, спокойные и внимательные. Без лукавинки, без улыбки, без злости, без зависти – просто всё видящие глаза. Но никогда лишку она не говорила.
В конце января Устинья родила дочь. Пробыв на больничном положенные две недели, снова вышла на работу. На то время, когда Устинья уходила мыть полы, с ребёнком оставались либо Елена, либо Надежда.
Зима с лютыми морозами и длинными вечерами подходила к концу. По письмам выходило, Тимофей не против переехать в Сибирь, но согласен с Акулиной, что следует дождаться, пока он дослужит. Осталось каких-то полгода. Вернётся в деревню выправит паспорта Акулине и Прасковье, продаст дома, распродаст хозяйство, а по осени, не дожидаясь морозов, перевезёт Акулину и тёщу в Красноярск. На том и порешили.
Жизнь текла своим чередом. За зимой пришла весна. Елена и Иван работали, Надежда и Илья учились. И казалось, ничто не предвещает беды. Этой весной Надежда окончила школу и всё думала, как жить дальше: то ли продолжить учиться, то ли пойти работать? Работать было предпочтительнее. Во-первых, потому что сразу начала бы зарабатывать деньги. Можно купить новое платье, а можно фетровые полусапожки. О-о-о! Полусапожки! Они оказались тем аргументом, который и решил всю дальнейшую судьбу Надежды. Дело в том, что в морозные и снежные сибирские зимы в туфельках не походишь. А полусапожки, элегантные по форме, сделанные и белого фетра, из нутрии с полым каблуком, то есть можно обувать прямо на туфли. Войдёшь в помещение, разуешься и щеголяй в туфельках. Да и по улице не в валенках, а на каблучках бежишь! Вещь не дешёвая. Так что – работать! Оставалось решить кем и где?
Прибавивший себе годков Иван уже работал и деньги приносил в семью.
Беда пришла, откуда не ждали. Война! А у Устиньи муж, два сына, деверь – Акулинин муж в армии служит, да невесть где обретающийся брат.
Тихона вместе с другими мужиками забрали на третий день. А ещё через месяц пришла повестка Ивану. Устинья ревела в голос. Падала сыну в ноги, умоляя отнести в военкомат метрики, где указано, что лет ему только семнадцать. Но Иван, силой поднимая мать с пола, только тряс русой головой: « Не, маманя, не могу. Пойми же, не могу… Вон, Васёк, скелет скелетом, ну хучь и старее меня, а по силе разве он мне ровня? Не рви мне душу. Всё одно пойду».
В стену постучала Татьяна:
–Устишка, что орёшь?
–Ваньку в армию беру-у-у ть!
Татьяна вошла в комнату Родкиных. Устинья сидела на краю кровати. На руках у неё плакала маленькая дочь. Иван стоял у порога, навалившись на косяк.
Татьяна обошла Ивана, встала напротив. Спокойным, чуть недовольным голосом попросила: «Глянь на меня, руку дай».
Положила его ладонь на свою, прикрыла сверху другой ладонью, как-то сгорбилась, ссутулилась, будто какую тяжесть поднимала. Несколько мгновений смотрела на него, молча, исподлобья. Потом закрыла глаза, отпустила его руку, ещё ниже на лоб надвинула платок, постояла немного и повернулась к Устинье. Ребёнок плакать перестал, мирно посапывая у материнской груди.
– Не вой, как по покойнику. Вернётся живым и телом не повреждён. Лучше об ней пекись, – и указала пальцем на спящую девочку.
– Да ить четверых вырастила. Даст Бог, и эту подыму.
–На Бога надейся да сама не плошай. У меня Леонид уходит. Уже и котомку собрала. Второму пока повестки нет, годами молод, – и повернула голову к Ивану, который так и стоял на прежнем месте: «Дурь-то молодецкую из головы повыкень. Тогда и врагу навредишь и себя сбережёшь. Да матери, хоть коротенькие писульки, чаще отсылай. Потому как её тут тяжелее, чем теде там придётся». С тем и шагнула за порог.
Проводы решили устроить совместные: Ивану и Леониду. Когда посчитали всех гостей: Таврыз с Таврызихой, что жили с права от Родкиных, Пронины Иван и Людка, что жили напротив, Прокоп с Прокопихой, с другого конца барака, да самих восемь человек, стало ясно – за один стол, что приобрёл Тихон, все не поместятся. Принесли ещё один от Татьяны и попытались расставить собранные по соседству табуретки, места всё равно не хватало. Выход нашла Людка. Велела принести две широкие доски, из которых по обе стороны столов соорудили лавочки.
Высокая статная татарка – Таврызиха одела удивительной красоты монисто, собранное из мелких монеток, в каждой из которых было отверстие. Все эти монетки мелодично позвякивали у неё на груди. Низкорослый, кривоногий, с тонкими раздувающимися ноздрями Таврыз, вопреки своему обычному состоянию, пил мало и оставался весь вечер трезвый. Только выражение глаз у него становилось всё злее и злее. С белым билетом его в армию не брали. Болезнь свою он тщательно скрывал, но когда подослал в военкоматовскую комиссию знакомого мужика, чтобы тот прошёл вместо него, то ничего не вышло. За столом, накрытым белой простынёй, сидел участковый врач, который знал и Таврыза в лицо, и болезнь его. Таврызиха всё грустнела, с нескрываемой тревогой ожидая очередных вечерних побоев мужа.
Людка жалась к своему Ивану, украдкой заглядывая в глаза. Ему пока дали отсрочку. Хоть стройку и приостановили, но сделанное следовало законсервировать, а кое-то и продолжать строить. Ну-ка, Иван возьмёт паспорт и рванёт на фронт. С него станется. А тут такой пример! Родкин-то Ванька малолетка, а туда же!
Прокоп особенно не расстраивался. Они с молодой женой даже детишками ещё не обзавелись. И если в ближайшее время война не закончится, думал он, то и на его век хватит. Да и не особенно-то он туда стремился! Стрелок он был отменный и знал, как мгновенно обрывается жизнь. Прокоп и его жена походили друг на друга, как брат с сестрой. Оба маленькие, полненькие, черноволосые, узкоглазые. А еще он замечательно играл а гармошке. Да так по вечерам брал всех за душу, что вездесущий Илюшка стал у него потихоньку учиться.
Елена, взяв младшую сестрёнку на руки, ушла в комнату Прониных. Там было тихо, а ей пора было спать.
И только Надежда, превратившаяся из нескладной девочки в юную девушку: пышногрудую, голубоглазую, с копной русых кудрей на голове, всё пыталась растормошить застолье.
Устинья, сложив на коленях руки, мучительно пыталась удержать застрявшие комом в горле слёзы – не вздохнуть, не выдохнуть. Непьющая совсем, на этот раз проглотила несколько глотков красного вина, но и это не помогло. Душа замерла и никак отходить не хотела. Думала о сыне, который идёт на страшное побоище, о муже, которого и проводить-то толком не успела. Забрали срочно, почитай прямо с работы. Отпусти только за документами домой, переодели прямо в военкомате. На том вокзале, куда привёз их Тихон, погрузили в товарные вагоны и в тот же день, сформировав состав, отправили на фронт.
Татьяна дважды выходила из-за стола, зачем-то ходила к себе в комнату. Сидела на самом краю лавки, и невозможно было понять, что у неё на душе. Только ещё ниже опустила платок на глаза.
Иван и Леонид явно тяготились своим положением и особым вниманием. Поэтому когда Илья сказал: «Мамань, ребятам бы к друзьям, хоть на чуток…», – никто не возразил.
На следующий день в таком же товарном вагоне, что и Тихон, Иван и Леонид отправились на фронт.
А через неделю получила Устинья два письма от мужа. Письма пришли одно за другим. Первое Тихон отправил с какой-то станции, пока добирался до места назначения, а второе уже из части по месту прибытия.
–Теперь бы Ванюшка весточку черканул, – мечтала вслух Устинья.
– Дело военное, не на танцульках, знать возможности нет, – как мог успокаивал мать Илюшка.
Наконец почтальон принёс сразу два письма!!!
–Ах, батюшки! Энто ж надо! Два письма, а я и прочесть не могу! Хучь бы кто из девок быстрее явился! – волновалась Устинья. – Одно, никак от Кулинки. Буквы её рукой выведены, а вот второе уж и не признаю. Должно быть Ванюшкино.
Наконец в дверях показалась Надюшка:
– Никак случилось что?
–Да вот, накось, читай, – и подала дочери два конверта.
И точно, одно письмо было от Акулины. Другое из города Сталино, от Георгия, где он писал, что без толку обивает военкоматовские пороги. У шахтёров бронь, их не призывают. Остаётся одно, «копать» уголёк так, чтобы в нём не было недостатка, а фрицу жарко стало, и чтоб жарился он на том угле.
–Кулинкино-то, Кулинкино – читай, не тяни за душу, – торопила Устинья дочь.
Акулина сообщала, что всех бездетных мобилизовали на трудовой фронт. Деться некуда. Придётся мать оставлять одну. И она решилась просить помощи у соседки, чтоб та приглядывала за ней да за коровой, которая ходила стельная первым телком, да курей кормила. В расчёт договорились, что будет забирать куриные яйца и молоко, после как корова отелится
Ни от мужа, ни от сына писем Устинья не получила. И поздним осенним вечером одна тысяча девятьсот сорок первого года, стоя на коленях, долго молилась перед старыми образами о спасении сына и мужа, да просила весточку от них, чтоб хоть чуть унять наболевшую душу.
Глава 6. Солдаты трудового фронта
Утренний туман белыми пластами стлался над деревенской улицей, заползал во дворы, клочьями повисал на ветках яблонь. Акулина оглянулась на спящую мать. Молоко для неё оставлено в кринке на столе. Пойло корове сварено. В общем, всё, что можно предусмотреть и сделать перед уходом, она по возможности предусмотрела и сделала.
Мать, которая пока луна из окна не ушла, всё ворочалась и норовила о чём-нибудь спросить, теперь спала чутким тревожным сном.
В стойле ворохнулась корова. Стадо ещё не выгоняли. Еле слышный шорох на крыльце и тяжёлая поступь босых ног в сенях заставили Акулину бесшумной тенью метнуться к дверям. На пороге стояла соседка. Женщина грузная, тяжёлая. Ноги её, похожие на две синюшных бесформенных чурки, с потрескавшимися в кровь пятками и чёрными то ли от грязи, то ли от запекшейся крови ногтями тяжело переступали по половицам.
Акулина прикрыла ладонью свой рот и жестом показала во двор. Соседка кивнула, и так же грузно, переваливаясь с ноги на ногу, стала спускаться с крыльца. Долее тянуть было некуда. Перекрестившись на образа, ещё раз глянула на мать, поправила на столе угол полотенца, под которым был оставлен для неё хлеб, хотела вздохнуть, но сама себя оборвала: «Чегой-то я? Как навовсе прощаюсь. Итить пора». И стараясь не шуметь (пусть мать поспит), вышла во двор.
–Ты, Наталья, хучь из утра, когда корову выгонять, да вечером, как подоишь, приглядывай за ней, – кивнула в сторону дома Акулина.
–Энто уж как говорено было. Не сумлевайся. А днём когда и малой забежит посмотреть, как она.
Наталья грузно переступила с ноги на ногу: «Хучь и тяжело тебе, Кулинка, а моя жисть знай тяжельше. Этой ночью Антип опять дома не ночевал. А ить пятерых мне настрогал. Да похоже ещё один прибавится. А он знай своё, по бабам шастает».
–Тю-ю! Какие «бабы»? У нас такая на всю деревню одна. Все деревенские мужики к ней шастають! Не один твой. Глядь, один огородами сигает, а другой уже на приступке. Ты особливо душой не болей. Кому он нужон при таком-то выводке? Думай об детях. В них вся твоя дальнейшая жисть. Ну и покель оставайся тут, а мне пора…
Акулина повернулась к дому, перекрестилась, поправила на голове платок и открыла калитку. Прямо перед ней переминался с ноги на ногу щуплый русоволосый мужичок, в мятой ситцевой рубахе до кален, которую он старательно разглаживал на груди заскорузлыми пальцами.
– Пришёл домой с рыбалки, а дома одни мальцы. Дак итить твою в кандебобер, куды бы, думаю, Наталье моей уйтить? Може, у тебя? Хучь и рань ещё, да ить ты вроде как сегодня собиралась уходить…
– Не мово ума это дело, но ужо и прекратил бы ты, Антип, энту рыбку ловить. – Акулина вышла за ворота, оставив Антипа и Наталью самих решать склизкие рыбьи вопросы.
– Чего энто ты, Наталья, подбоченилась-то? Чего? Там на крыльце окуньки. Вот ушицу сварганим.
Мужичок вошёл в ограду, обошёл Наталью, принявшую воинственную позу, и, не дав ей слова сказать, обхватил со спины.
– Намёрзся за ночь – страсть. Погрела б мужа-то свово.
– У-у-у, горюшко моё! – Наталья боднула мужа головой, вздохнула, и оба, о чём-то негромко переговариваясь, направились к своему дому.
Вдоль деревни навстречу им двигалось деревенское стадо.
– Ой, вихром тебя скати, корову-то Кулинкину не выгнали!
– Ты иди, Наталья, иди, я щас, я мигом…
Наталья с подозрением посмотрела на мужа.
– Да ты чего, чего… Корову Кулинкину выгоню и догоню тебя. Иди, знай себе иди…
Антип шустрым живчиком кинулся назад.
Всё тем же тяжёлым шагом Наталья шла к своему дому: « А вдруг и впрямь окуньки на крыльце? Чего бы зря болобонил? Ить дойду и увижу».
Уже подходя к дому, через редкие жерди старой ограды Наталья, вытянув шею, старалась разглядеть окуньков.
– Ни окуньков, ни мокрого места от них, – сама себе вслух пожаловалась, вошла в дом и принялась шуровать почти прогоревшую печь, которую затопила перед уходом к Кулинке.
В чугунке уже успела свариться картоха, когда Антип вернулся домой. Каку ни в чём не бывало погремел рукомойником и уселся за стол: «Ну, мать, чем Бог послал…»
– Окуньки-то твои где? Окуньки?
–Да ить на крыльце… Куды ж ты их дела?
– Не видала я никаких окуньков. Не было их и не было…
По щекам Натальи катились мелкие слезинки. Она размазывала их ладонью, но те упрямо продолжали катиться одна за другой.
– Вот ить напасть, котов на деревне развелось, что комарья по лесу. Куды ж им, окунькам, было деться? Могёт, сама забыла, куда подевала, положила и забыла, а потом найдёшь и будешь себя костерить: вот дура я, дура! Ну, а уж ежели какой кот изловчился, то тогда поминай как звали тех окуньков. Энто ж надо – ночь из-за них мытарился, мытарился, а ты нет, чтобы убрать, дак оставила котам на прокорм. Где ж теперь их сыщещь?
Наталья от такого поворота и сама не знала, как уж и лучше: притвориться, что поверила али уж решиться на что другое?
«Куды ж я с этим выводком, куды? Да и ноги мои страх!» – мысли её как-то незаметно, сами собой стали выискивать в словах Антипа что-нибудь такое, чтоб самой поверилось.
А деревенский день уже разгорался. И в сельсовете Антипа уже ждала повестка. Хоть и был он признан ограниченно годным, (однако, это не помешало его жене рожать каждый год по ребёнку), подошла нужда и нём.
Что ждало Наталью с пятерыми мал мала меньше, да шестым, которому ещё предстояло родиться, никому не был ведомо. И слава Богу.
К закату того же дня Акулина добралась до места назначения. Предписано было явиться со своей лопатой и запасом продовольствия на неделю. Дорога шла через Фёдоровку, через Выселки, а собирали всех в Михайловке. Акулина направилась к сельсовету, в окнах которого теплился еле заметный огонёк. У крыльца остановилась. Приглядевшись, в темноте нашла щепку, соскребла с обуви налипшую за дорогу грязь, для лучшего вида потёрла пучком травы, одёрнула юбку, поправила на голове платок и осторожно, стараясь не шуметь, приоткрыла дверь.
В полутёмной комнате на сбитых наспех нарах спали женщины, а двое так и вовсе в простенке на полу на охапке соломы. К окну был придвинут, судя по виду, бывший председательский стол. На нём еле теплилась керосиновая лампа, на слабый свет которой и пришла Акулина.
– Не топчись зазря. Подымут затемно. Устраивайся, как сможешь, да узелок под голову положи. А там, кто завтра уйдёт домой на побывку, тебе место будет.
Крупная рыжеволосая женщина, заправив под платок выбившиеся пряди, вздохнув, пожевала губами, устроилась поудобнее и уже в следующую минуту спала так, будто и не говорила ничего.
И тут Акулина под общее посапывание и причмокивание поняла, что нет сил не то, что соломки подстелить, а хоть падай, где стоишь. Села на пол с краю, возле спящих на соломе. Разулась, поверх обувки положила узелок, вместо подушки, скрутилась в маленький комочек и, прижавшись спиной к одной из спящих, попыталась уснуть. Голова казалась непомерно тяжёлой, гудели натруженные ноги, а сон всё не брал. Перед глазами всплывали картины прошедшего дня. Но самое главное, что не давало покою её душе – это мысль о том, что где-то совсем недалеко воюет её Тимофей. «Може, Бог даст свидеться». С этой мыслью, сон, наконец, накрыл маленькую фигурку. Ночь продолжалась, солдаты трудового фронта спали.
Ещё деревенские петухи не прокричали, и над речкой серой ватой стлался туман, когда в комнату, чуть скрипнув дверью, вошёл сержант.
–Девоньки, подъём! – было в этих коротких, негромко сказанных словах что-то такое, что женщины на нарах зашевелились и, перебрасываясь редкими словами, будто и не спали тяжёлым усталым сном, стали торопливо одеваться.
– Собирайтесь. Новенькая, подь сюда!
Акулина уже успевшая обуться, подошла к столу, возле которого на единственном стуле сидел сержант.
– Дай-ка гляну твою обувку.
– Да ты не стесняйся! Он нам тут и за отца родного, и за начальство строгое, и за попа, токмо вот мужа никому заместить не желает, – всё та же рыжая баба легонько подтолкнула Акулину к столу.
– Болоболка ты, Марья. Однако баба справная, – говоря всё это, сержант наклонившись, внимательно рассматривал обувку Акулины.
– У нас тут сухие, да не стёртые ноги – самое главное. С кровавыми мозолями – много траншею не нароешь. Да и с простудой свалишься – тоже не работник.
Удовлетворившись осмотром обувки Акулины, поднял глаза: « С лопатой?»
– Как председатель велел. – Акулина протянула перед собой черенок лопаты, которую на ночь оставляла у дверной притолоки.
Сержант поводил натруженной ладонью по черенку: «Годится».
Отполированный за картофельную копку черенок хорошо запомнил Акулинины руки.
– Идёшь в ряд вместо убывшей. На месте всё сама увидишь.
–Становись!
Акулина вздрогнула и не сразу поняла, в чём дело. Но женщины быстро выстроились, как потом выяснилось, в том порядке, как работали. Одна из них потянула её за рукав: « Сюды тебе».
Сержант молча, серьёзно оглядывая каждую, обошёл строй.
Предупреждаю – немец рядом. Так что кому по нужде приспичит – никакого самовольства. Бегать, куда указано. Обед сегодня будет. Обещали солдатскую кухню прислать.
Женщины негромко переговариваясь, направились к выходу.
Сразу за оградой последнего деревенского дома Акулина увидела извилистую траншею, которая одним концом упиралась в берёзовый колок, а другим вплотную подходила к какой-то старой деревянной сараюшке. Перед траншеей возвышался земляной вал. Подойдя ближе, Акулина увидела, что траншея местами совсем мелкая, а местами её с головой скроет. Вдруг сквозь серое марево тумана на мокрую землю траншеи упал луч восходящего солнца. В берёзовом колке звонко защебетала какая-то птаха. И тут же, перекрывая звуки раннего утра, что-то жутко ухнуло, потом ещё, ещё…
Кто-то громко взвизгнул. Двое кинулись к сержанту: «Убьют тута, как бог свят, убьют!» Остальные молча спрыгнули в траншею.
–Поясняю для новеньких, – сержант сделал паузу, пережидая взрыв, – сюда снаряды не долетают. Но на случай какого шального сидеть в окопе и не высовываться во всё время обстрела. Ясно?
Акулина стояла, как вкопанная. Где-то там, под этими страшными взрывами, под пулями, в такой же холодной и мокрой траншее был сейчас её Тимофей.
– Господи, спаси и помилуй раба твоего Тимофея, Господи спаси и помилуй…
Акулина молча, спустилась в траншею и начала копать. Мокрая земля тяжелыми комьями липла к лопате.
«Землица! Сколько её Тимофей перепахал! Она должна помочь, спасти его в страшную минуту». – Мысли Акулины постепенно стали успокаиваться, и она, продолжая выкидывать на бруствер тяжелые комья мокрой земли, повернула голову к соседке: «В рост надо рыть. Може, наших мужиков спасаем. Да хучь и чужих. Може, и наших кто побережёт».





