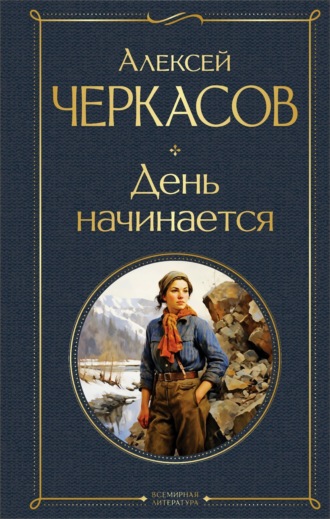
Полная версия
День начинается
«Почему он говорил мне, что у меня агатовые глаза? – иногда спрашивала она себя. – Это ему показалось. Правда, ночью у меня глаза кажутся черными». И она хотела, чтобы моряк увидел ее глаза днем. Но то, что он никогда не увидит ее глаз днем, пугало ее. Она старалась отогнать эту мысль как вздорную, чужую, мешающую жить. Сомнения и колебания, которые возникали в ее душе, когда она думала о нем, сердили ее. Стараясь уйти от сомнений, она работала до полного изнеможения и все-таки избавиться от тревоги не могла. «Жив ли он? И кто этот моряк? И где он?» Чем чаще ее трепещущая мысль возвращалась к нему, тем ярче он вырисовывался в ее сознании.
В особенно трудные минуты, когда, обессилев от голода, не могла подняться на третий этаж своей нетопленой квартиры, она звала его на помощь. И он приходил к ней с тем же ласковым, умным и добрым взглядом больших светлых глаз, и ей становилось легче…
«А как я буду жить в этом городе? – подумала ленинградка, наблюдая, как ветер гнал мглистую порошу снега и лепил рубчатые барханы сугробов. – Как я буду жить здесь? А если он жив? Тогда… Тогда я его навсегда потеряла. Навсегда! Разве он подумает, что та, которая держала его голову на своих руках, теперь за пять тысяч километров от Ленинграда? А он – там, там, там… Зачем я уехала? Там все меня знали. А здесь…»
Да, ее знали и уважали в Ленинграде. И много-много нашлось бы углов, где она могла бы обогреться в такую взвихрившуюся снегом буранную ночь. «Маленькая, обогрейся», – сказали бы ей там. И те солдаты и матросы, которым она сперва неумелыми руками бинтовала раны, улыбались бы ей добрыми глазами. А тут, в этом городе…
– Что же вы, поедемте? – Муравьев тронул ее за рукав.
– П-поедем? Ку-куда? – выговорила она.
– Пойдемте в кабину, да поживее. Вы, кажется, окончательно замерзли.
Он подвел ее к кабине шофера, где в это время сладко вздремнул Одуванчик.
– А? Что? Приехали? – отозвался Одуванчик на толчок Муравьева. – Освободить место для гражданки? Гм!.. Позвольте, позвольте, Григорий Митрофанович! У меня радикулит, извините. В кузове не могу, никак не могу.
– Никакого радикулита у вас нет, вы здоровее египетского слона! А вот совесть у вас действительно подмерзла. Освободите место для женщины.
Что еще сказал Муравьев Одуванчику, поднявшись на подножку, неизвестно, но Одуванчик выкарабкался из кабины и, жалуясь на грубость Муравьева, протянул руки Редькину, который затащил его в кузов, перевалив через борт, как куль с мякиной. Сам Муравьев сел в конце кузова по соседству со своим Дружком.
Широкобедрая Павла-цыганка, прижимаясь могучим телом к Тихону Павловичу, певуче рассказывала своему другу о недавнем неприятном разговоре с начальником геологоуправления Андреем Михайловичем Нелидовым, отцом Катюши.
– Вызвал он меня в кабинет, – говорила Павла, широко жестикулируя, – садись, говорит. Я села. А он ходит этак из угла в угол и своими черными глазищами на меня зыркает. Ну, думаю, быть беде, а сама сижу себе спокойно, как ни в чем не бывало. «С Чернявским, говорит, гуляешь?» «Гуляю». Он сверкнул глазами, пригнул голову. «А у него, говорит, жена и двое детей. Как же, говорит, ты себе позволяешь подобную распущенность?» Тут во мне будто закипело все. «В чем же, спрашиваю, распущенность, Андрей Михайлович? Или я хвостом верчу перед первым встречным, или как? С Тихоном, говорю, любовь у меня не вчерашняя, не прошлогодняя, а довоенная. Любила Тихона и любить буду, пусть хоть все геологи на дыбки встанут. Я разве, говорю, виновата, если на все управление три парня и те заняты? Что мне, с телеграфным столбом гулять, что ли? Или вы думаете, Павла-цыганка не живой человек? Может только производственный план выполнять? А я имею еще один план: чтоб у меня был сын; собственный сын, вот что! А где его взять, скажите пожалуйста?!» Он, знаешь, даже закашлялся. Я так думаю: на лето он разгонит нас в разные партии.
Тихон Павлович, в свою очередь, теснее прижимаясь к возлюбленной, как бы без слов уверяя ее, что на свете нет такой силы, которая могла бы разогнать их в разные стороны, сообщил между прочим о ленинградке, которую Муравьев пригласил на квартиру, и что он, Тихон Павлович, если бы имел подходящий угол, тоже не остался бы безучастным к судьбе девушки, пережившей все муки земного ада. Павла сразу же угадала недоброе: так вот отчего настроение Катюши Нелидовой резко упало после встречи с Григорием!
– Если бы ты пригласил ее к себе, – предупредила Павла, зло шипя в самое ухо Тихона Павловича, – я бы тебе шары-то выдрала, сом. Куда суешь руки, лешак?
– Да ты что? – очнулся Чернявский, освободившись от приятной любовной мечтательности.
– А ничего. Все вы на одну колодку.
А буран дул. Вихрился колючий снег. Впереди с надрывным ревом, тяжело пробивая сугробы, шли машины. Катюша что-то спрашивала у Одуванчика о результатах разведки в Сычеве, откуда возвращался отряд; богатая руда или бедная, каковы ее запасы, имеют ли они промышленное значение и т. п. Одуванчик добросовестно отвечал на все ее вопросы и внезапно сообщил:
– Та, в кабине, симпатичнейшая особа! Искра, молния. Уверяю вас, – раздельно произнес он, косясь на Муравьева: не слышит ли тот его слов. – Поверьте, Андреевна, моему опыту и глазу. У Григория Митрофановича в доподлинном смысле завязка любопытнейшего романа, м-да. Видите, как он погрузился в думы?
– И что же? Кто она, та ленинградка? – хриплым голосом спросила Катюша, низко опуская голову.
Одуванчик рассказал, что знал.
– Она – интересная?
– Как сказать! Для меня – ничтожество. Если поставить рядом с моей Анной Ивановной…
– Не с Анной Ивановной, а вообще?
– Не сравнивая с моей Анной Ивановной – отвечу утвердительно.
На этом их разговор оборвался. Одуванчик натянул на свои большие оттопыренные уши каракулевый воротник, упрятал птичий нос в шерсть меха и, сладко зажмурившись, предался приятному размышлению о том, как его встретит сейчас жена, Анна Ивановна…
Глава вторая
1Есть в старинных городах особнячки, где живут семьи со своими особенными традициями, историйками, привычками, вкусами и взглядами. Каждый особняк всегда чем-нибудь да отличается от себе подобных сооружений. У одного зеленые ставни и оранжевые наличники; у другого – ни ставней, ни наличников и крыша вот-вот свалится, как с пьяного картуз; у третьего до того размалеваны все стены, заплоты и ворота, словно его принарядили для коронации. Иногда в тихих провинциальных городах такими особнячками застроены целые улицы.
Таким особнячком был дом на набережной близ пристани, где уже много лет жил Григорий Муравьев в семье дяди по отцу, Феофана Фомича Муравьева, или, как его все звали во дворе, Фан-Фаныча. Некогда дом принадлежал содержательнице питейного дома Рыдаловой, затем перешел в горжилуправление, едва не развалился от ветхости и был продан квартиросъемщикам, которые в нем жили.
Так Фан-Фаныч, мастер пивзавода, превратился во владельца части домика на набережной. Собственно, домовладельцем был не он, а его приемная дочь, Варвара Феофановна…
Домик – буквой Г, четырехквартирный – был не так высок и широк, но достаточно вместителен. Приземистый, наполовину вросший в землю, с низкими, широкими, выпирающими на тротуар завалинками, перекосившийся в сторону Енисея, он, казалось, каждый день собирался тронуться с места: так ему надоело земное существование. Почерневшие и потрескавшиеся от времени бревна и пологая тесовая крыша, не менее перекосившийся заплот из толстущих лиственных плах с высокими, навалившимися на тротуар столбами калитки и ворот никогда не привлекали внимание постороннего человека: разве прохожий, опасливо кося глазом на столбы, ускорял шаг, подумывая, как бы не стать здесь случайной жертвой.
Квадратные, маленькие, как бойницы, ниши окон с частыми переплетами почерневших рам, тускло смотревшие на пригорок улицы, держались также не на одном уровне: первые четыре окна были на бревно ниже следующих трех окон. С наступлением сумерек ниши окон наглухо задраивались толстущими ставнями с железными накладками, точно обитатели его чурались суетного мира, замыкались в четырех стенах, как устрица в раковине. Ночью дом казался необитаемым: от него веяло древностью былых времен. Ни единого звука не вырывалось в улицу из его стен.
Феофан Фомич и Пантелей Фомич поселились в этом городе лет пятнадцать назад. Муравьевы родом из Черниговской губернии. Еще в 1907 году четверо братьев – Митрофан, Павел, Феофан и Пантелей – выехали с Украины и осели на богатых просторах сибирской земли. Павел Фомич, как наиболее пробойный и умный мужик, избрал себе профессию строителя. И вот уже более тридцати лет он преуспевает в своем занятии. В Минусинске он выстроил мост и паровую мельницу. Вел строительство железнодорожных мостов на Хакасской ветке… Старший из братьев Муравьевых, отец Григория, Митрофан плавал механиком на пароходе купцов Гадаловых. В годы Гражданской войны он был командиром одного из партизанских отрядов в Забайкалье и погиб в боях с семеновцами. Мать Григория, Клавдия, в двадцатом году умерла в доме Феофана на прииске Кирка, оставив Феофану доращивать малолетних племянников Федора и Григория.
Феофан и Пантелей много лет работали на приисках Сибири. Тридцать лет назад Феофан соединил свою тихую, беззлобную жизнь с бурной сухопарой приискательницей Феклой Макаровной. И все тридцать лет проклинает тот час, когда он женился, а развестись с Феклой Макаровной никогда не замышлял. Поселившись в этом городе, Феофан сразу определился на пивоваренный завод. Теперь он единственный в крае мастер пивоварения. На прииске же нашел себе спутницу, дородную Дарью Ивановну, крутой характером Пантелей. Приверженный к горным работам, Пантелей и не расставался с этой профессией. Вот уже более семи лет как он – старший буровой мастер геологоуправления. Как у Феофана, так и у Пантелея детей нет и не было, чем братья очень огорчались.
Приемная дочь Феофана, Варвара, явилась личностью довольно самобытной. По своей натуре Варвара была страстной художницей, беспокойной, неугомонной, чего-то ищущей и всегда неудовлетворенной. Из-под ее рук выходили замечательные изделия вышивки по полотну. Она вышивала гарусом портреты вождей, да так, что не всякий художник мог бы изобразить и кистью. Вышивала виды тайги, любопытные пейзажи, красноярские знаменитые Столбы и всякую всячину. Руководила кружком художественной вышивки при Доме Красной Армии, была непременным членом десятка городских комиссий. Ее можно было видеть на заседаниях крайсовета, горсовета, горжилуправления, в завкоме ПВРЗ, мехзавода, мелькомбината, в крайздравотделе, крайоно, короче говоря, везде, и очень редко дома. В доме она держалась властно, но не деспотично. Мало говорила и еще меньше участвовала в бабьих сплетнях, чему не учить было золовку Дарьюшку. Пантелей называл Варварушку «капитаншей баржи», подразумевая под баржою особняк.
Племянники Феофана и Пантелея Федор и Григорий детство и юность провели в доме на набережной, где и умерла их мать, молдаванка Клавдия. Федор долгое время жил в семье Феофана, потом уехал в Москву, редко давал о себе знать дяде, жену которого, Феклу Макаровну, невзлюбил. Да и Фекла Макаровна не очень-то пеклась о Петухе – так звали Федора в детстве за его песни. Федор рос нервным и впечатлительным мальчиком. То он бурно выражал свои восторги, то вдруг предавался размышлениям, допоздна засиживаясь на Енисее. Раза два он тонул, но от дальних заплывов так и не отказался. Федора от всей души любил Пантелей, поощряя его дерзкие вылазки, Григория – дядя Фан-Фаныч, который в племяннике души не чаял, пророча ему карьеру инженера путей сообщения. И действительно, Григорий стал инженером, только не путейцем, а геологом.
Не в пример Федору Григорий был с детства крепким и малоподвижным пареньком. Он любил часами возиться в глине и песке. Когда подрос, стал увлекаться охотой, лазил по горам и скалам что твоя рысь. Стихов он, как брат Федор, не сочинял, зато хорошо знал книги о минералах. Засыпал с романами Жюля Верна, Купера, Майн-Рида, Джека Лондона… И так пристрастился к таежным приключениям, что однажды чуть не погиб, заблудившись в тайге близ прииска Знаменитого. После Томского университета он работал на Алтае и вот уже третий год в родном городе возглавляет отдел металлов геологоуправления. Никто, пожалуй, из местных геологов не обладал такой огромной выносливостью, напористостью в поисках и терпением, как Григорий Муравьев. Познания его были обширны. Геологи звали его «хитромудрым», хотя он просто был умным, даже талантливым парнем, за что и уважала его Варвара Феофановна.
Впрочем, о взаимоотношениях Григория и Варвары можно было бы много кое-чего сказать, если бы сердце девушки было открыто нараспашку. Нечто было недосказанное, потаенное, запрятанное глубоко внутрь души Варвары в ее отношении к Григорию. Стоило перехватить ее многоговорящий взгляд, обращенный на Григория, вникнуть в ее особенное участие, то можно было бы догадаться, что она просто влюблена в Григория. Откровенно говоря, Варвара Феофановна менее всего желала бы видеть Григория женатым, а Катюшу Нелидову – на положении его жены. Она старалась быть единственным другом Григория, единственным его советчиком во всех житейских и производственных вопросах. Недаром же, страдая большой потерей зрения (результат кропотливой работы иглой по полотну), она ночами просиживала над толстыми геологическими томами, чтобы в свое время подсказать Григорию нужное слово. Иногда она навещала Григория в поисковых экспедициях, не брезгала никакой черной работой – рыла землю, помогала бурильщикам, лазила по горам, стряпала и стирала, подбадривая Григория в минуты уныния и усталости. И Григорий всегда рад был ее присутствию в экспедиции. Все свои трудовые отпуска Варвара приурочивала к «трудным моментикам» Гриши, спеша ему на выручку, где бы он ни был – на Алтае ли, в тайге ли, на Крайнем ли Севере. И надо сказать правду: единственным человеком, перед кем Григорий держал душу открытой, была Варвара. Ни один из его творческих замыслов не обошелся без ее участия. Они вместе думали, вместе рассуждали, вместе радовались успехам и вместе молча переживали горечи неудач. Дружба их была до того светлой и открытой во всем, что ни у кого, не только за пределами особняка на Енисее, но и в границах особняка не повернулся бы язык очернить ее грязью низких сплетен. То была любовь, может быть, довольно странная, но такая, на которую трудно поднять руку.
Знал ли дядя Фан-Фаныч, видела ли тетка Фекла Макаровна тайные пружины единения Варвары Феофановны с племянником? Знали, видели и смирились.
В обществе инженера Григория Варварушке дышалось легко и свободно; она жила его творческой мыслью, его дерзаниями, исканиями, его неукротимой энергией, которая возбуждала в ней физическое желание быть вечно молодой и немножечко беспечной, какими бывают лишь девчонки. Не только жизнь, но и, казалось, сама природа обретала для нее совершенно новые оттенки, каких она не замечала до дружбы с Григорием. Бывая в горах, в скалах, на той же городской, тысячу раз исхоженной Лысой горе, она видела не просто гору или камень, а заключенные в них минералы и металлы, освободить которые необходимо для жизни людей. Та же Лысая гора с ее отвесными краснокирпичными ярами чудилась ей в сверкающем на солнце алюминии, в самолетах, в легких домашних предметах, без чего нельзя прожить современному человеку. Эта мысль подстегивала ее, бодрила, как бодрит усталого человека кружка доброго вина. И все это шло от Григория! Как же ей не полюбить этого человека, который ее спокойной жизни сообщил нечто новое, неизведанное и трудное? Она была такая же ищущая, как и он, но более умудренная жизнью. От Григория можно было ожидать безрассудный поступок, свойственный его годам; она же перешагнула границу безрассудства и жила не столь порывами чувств и оскорбленного самолюбия, виновника многих человеческих бед, сколь глубоким раздумьем, опытом жизни.
Но и сама Варварушка не совсем обычно вошла в тихую гавань семьи Фан-Фаныча. Сам Феофан спас ее как утопающую, и не подозревая, что спасает самоубийцу. В ту пору на Енисее ходил еще плашкоут, и побережье было почти пустынно. Как-то поздним августовским вечером, возвращаясь с правого берега, Фан-Фаныч обратил внимание на белокурую хрупкую девушку в светлом платье, для которой, как говорится, и солнце не светило. Глаза ее подпухли от слез, и вся она была такая жалкая, потерянная и одинокая среди людей, что даже у Фан-Фаныча сжалось сердце. А он был не из породы чувствительных! И вдруг, на самой середине Енисея, белокурая девушка оказалась за бортом плашкоута. Одни говорили, что она оступилась, другие – упала в обморок, вот так, как стояла, так назад себя и шлепнулась в воду. Паромщик кричал, ругаясь напропалую на пассажиров за то, что они сами, черти, вылазят из границ плашкоута. Возле плашкоута была лодка. Покуда ее отвязывали, приноравливались, навешивали в гнезда весла, Феофан, будучи человеком не из робкого десятка, долго не раздумывая, сбросил с себя сапоги, штаны и рубаху да и прыгнул в воду. Все это произошло в какие-то считаные секунды. Девушка вынырнула невдалеке, что-то дико крикнула страшным голосом и опять скрылась под водой. Фан-Фаныч моментально подплыл к тому месту, где еще не успели разойтись круги, и нырнул вглубь. В воде он схватил ее за косу и так подтянул к лодке. Она была без сознания. На берегу к ней подоспела фельдшерица спасательной станции; утопленницу откачали, но вместо радости и благодарности с недоумением услышали от нее проклятия. «Будьте все прокляты! – кричала она. – Уйдите, уйдите! Проклятые!..» Фан-Фаныч сообразил, что это явление не из нормальных и что не следует подобному явлению давать широкую огласку. Он властно отстранил любопытных, схватил несчастную на руки и затащил к себе на квартиру в особняк, что стоял почти рядом. Неделю Варварушка находилась под покровительством сердобольной Дарьюшки и строгой Феклы Макаровны, молчаливая, плачущая, безразличная ко всему и такая жалкая! Как ее ни расспрашивали, кто она и что с ней случилось, ничего узнать не могли, кроме того, что в городе на Енисее она проездом, что родных у нее будто бы нет и что она впервые в Сибири, а жила будто бы где-то в Ростове-на-Дону, и вот приехала в Сибирь искать счастья, да не нашла его. То был тысяча девятьсот тридцать первый год! В городе нелегко было прожить: не хватало хлеба, в магазинах не было ни молока, ни мяса, и даже спички выдавались по талончикам. Нищие кочевали от дома к дому. Среди нищих были и те, кто совсем недавно «засыпался хлебом с головой и мясо жрал от пуза».
Братья Муравьевы в ту пору жили лучше всех. Феофан – возле пивзавода, Пантелей получал «усиленный паек» горного рабочего. В доме был достаток.
Варварушка мало-помалу обжилась. Сперва она работала при клубе железнодорожников, что-то там украшала, рисовала, писала плакаты, организовывала кружки самодеятельности, недурно пела, учила других ставить голос и до того вошла в кипучую жизнь самодеятельности, что самой стыдно было вспоминать о покушении на самоубийство. Она благодарна была Фан-Фанычу не столь за спасение, сколь за укрытие печального факта. Все знали, что она просто оступилась, но никто – что она сама кинулась в воду. Фан-Фаныч определил ее в гражданских правах: выдал ее за несовершеннолетнюю, безродную и удочерил. Никто никогда в доме Муравьевых не ворошил прошлого Вареньки, будто его и не было. Из чувства ли благодарности или из каких-либо других соображений, исключая любовь, Варя согласилась быть приемной дочерью Феофана и Феклы Макаровны, хотя в семье держалась особняком: жила замкнуто, «себе на уме». И как будто тяготилась привязавшимися к ней всей душой Фан-Фанычсм и Феклой Макаровной. Те же и думать не хотели, чтобы отпустить ее куда-нибудь. И вот совсем недавно, за три дня до возвращения Григория из экспедиции, Варварушка вдруг покинула дом Муравьевых: уехала с Сибирской гвардейской дивизией на фронт. Что было тому причиной – трудно сказать. Может, когда-нибудь и разъяснится внезапный уход Варварушки из дома Муравьевых, – кто знает!..
2В сгустившейся снежной мгле машина яростно била снопами света, освещая черные глыбы домов движущимися крылатыми тенями от убегающих вспять запорошенных тополей. Световые рекламы кино, театра, почтамта, магазинов, кафе, аптеки, забиваемые снегом, померкли.
Незнакомка все смотрела вперед на прямую улицу, чем-то напоминающую ленинградские, и щемящее чувство грусти и тоски, нарастающее в ней, подобно снежному кому, все больнее сжимало сердце. Куда она едет? Что она знает о Муравьеве? Не свяжет ли он ее своим участием и помощью? Не лучше ли было бы ей остаться в той же Сызрани, нежели ехать за тридевять земель в Сибирь, в поисках неведомого и сомнительного? В тайниках души она надеялась хоть что-нибудь узнать о семье.
– Значит, из Ленинграда? – проговорил шофер, лобастый молодой парень, искоса взглядывая на соседку. – Хлебнули горького ленинградцы, нечего сказать. Я знаю только по газетам, а в натуре-то, верно, совсем другое. Вот, например, что писали о Харькове? «Отступили на заранее подготовленные позиции». А как это происходило в натуре? Будь здоров! Месили нас немцы три дня и три ночи, аж небу жарко было. Поливали таким кипятком из артиллерии, что в земле нельзя было спрятаться. Потом двинулись эсэсовцы – вот так, во весь рост: «психическая атака», чтоб окончательно повлиять на нервы. Там меня и гвоздануло, под Харьковом. Полгода отвалялся в госпитале после контузии и не мог очухаться от «психической»!..
Когда машина остановилась в третий раз, высаживая кого-то из геологов и рабочих, шофер поинтересовался:
– А вас где высадить?
Соседка не нашлась что ответить. А что, если Муравьев забыл о ней? Вывез в город, да и оставил с шофером…
– Миша, давай ко мне на набережную, к понтонному! – крикнул Григорий, перегнувшись через кузов к окошечку шофера.
Машина свернула в переулок и, тяжело пробиваясь по сугробам, медленно шла в гору, буксуя, затем спустилась к набережной, огибая причудливое пирамидальное здание краевого музея, смешавшего в своей архитектуре и зной египетского неба, и лютую стужу севера.
Григорий легко выпрыгнул из кузова, принял от Редькина тяжелый чемодан и свой рюкзак, нагруженный образцами аскизских гематитов, позвал за собою Дружка, который спрыгнул к нему черным комом и сразу же бросился к ограде почернелого одноэтажного дома с закрытыми ставнями.
– Ну, мы приехали! – сказал Григорий, помогая незнакомке выбраться из кабины.
Машина дала полный газ и, взрыхлив толстый слой наносного снега, скрылась за поворотом улицы. Незнакомка, глядя на широкую полосу, за которой мерцали далекие огни, уходящие куда-то за горизонт, догадалась, что они у самой реки.
– Это Енисей, да?
– Он самый. Красавец и гордость Сибири.
– А что там за огни?
– Они появились там недавно, – ответил Григорий, задумчиво всматриваясь в даль. – Сибирь тем и хороша, знаете, что в ней разгораются вот такие огни. Она вся в движении, в строительстве, в разведке. И чем гуще огни, тем веселее жить. Представляете, сколько будет здесь огней, когда Енисей перекроют плотиной? Сейчас здесь темно, есть и мрачные закоулки, а тогда будет наводнение света…
Григорий постучал в ставень черного домика. Дружок тем временем успел перепрыгнуть через покосившийся заплот в ограду и там залаял. Вскоре вышел Феофан в полушубке внакидку, открыл воротца на цепную щель, присмотрелся:
– Ты, Гриша? И вроде не один?
– Не один. У нас остановится девушка из Ленинграда, – и Григорий пропустил вперед себя в калитку ленинградку.
Фан-Фаныч, на голову выше племянника и чуть ли не в два раза шире в плечах, медлительный в движениях мысли, не сразу понял значение слов Григория.
– Где остановится? У тебя или у нас? Переночевать или как? Места, конечно, хватит. Мы тут с Феклой Макаровной вдвоем коротаем время. Варвара еще позавчера откомандировалась на фронт.
– На фронт? С какой стати на фронт? – удивился Григорий, подходя к крыльцу.
– Да вот, так вышло. Уехала добровольно с сибирской дивизией. И что ей взбрело в голову – ума не приложу, – пояснил дядя, замыкая шествие. В темных сенях, где было три двери: одна на половину Пантелея, другая, прямо, как войдешь в сени, – в комнаты Фан-Фаныча и третья слева – в комнаты Григория, – Феофан сообщил: – Твоя любимица, Гриша, околела еще на той неделе. Ворковала, ворковала, а тут в оттепель выпустил я их облетаться, вроде кто клюнул ее из рогатки, прилетела опосля всех с разбитой головой, поворковала у меня на руках и издохла. Слышь, воркуют – тебя почуяли.
Из темных уголков сеней то здесь, то там раздавалось голубиное воркованье и шорох. Григорий пожалел издохшую голубку, сказал дяде, чтобы он не беспокоился и ложился спать, распахнул дверь в свою комнату, натыкаясь в темноте на стулья, прошел к столу, зажег стеариновые свечи, сбросил с плеч рюкзак и, широко повернувшись, впервые встретился с глазами ленинградки.









