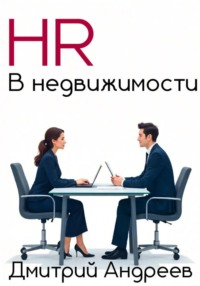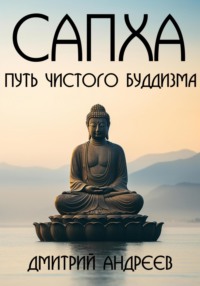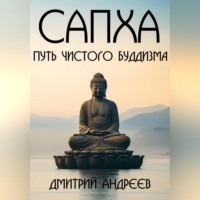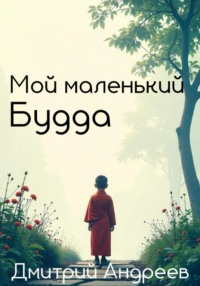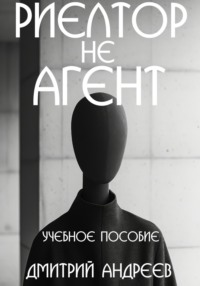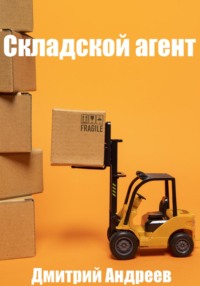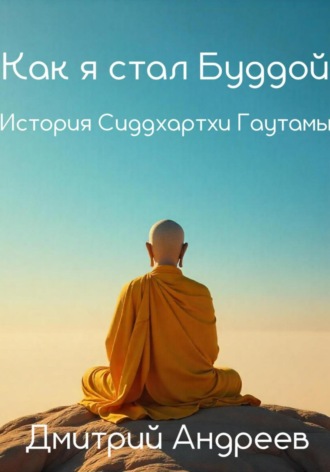
Полная версия
Как я стал Буддой. История Сиддхартхи Гаутамы
А пока Капилавасту жил своей обычной жизнью – размеренной, как течение реки, и вечной, как круговорот времен года.
Дым жертвенного костра стелился по храмовому двору, цепляясь за одежды брахманов. Старший жрец Капилавасту, Джатака, поднял руки к небу, его голос, дребезжащий от возраста, но все еще мощный, выкрикивал священные слова:
– О Агни, бог огня, проводник жертв! Прими это подношение и донеси до богов!
Толпа, собравшаяся на церемонию, замерла. Купцы в дорогих шалях, земледельцы с обветренными лицами, даже дети – все следили, как пламя поглощало топленое масло, рис и ветви сандала. Жара стояла такая, что воздух дрожал, смешивая запах гари со сладковатым ароматом цветущих ашок.
В тени храмовых колонн сидели ученики-брахмачарины, заучивающие наизусть гимны Ригведы. Их монотонные голоса сливались в странную мелодию, прерываемую лишь ударами деревянных палочек – наказание за ошибку.
– Ты снова перепутал слоги, Майтрея! – голос учителя прозвучал резко, как удар хлыста. "Ты что, хочешь, чтобы боги отвернулись от нас? Повтори!"
Мальчик лет двенадцати, с бритой головой и красной нитью на запястье, сглотнул ком в горле и начал сначала. Его пальцы судорожно сжимали край одежды – отец продал корову, чтобы оплатить его обучение.
Но за пределами храма, у восточных ворот, где собирались нищие и калеки, происходило нечто новое. Там, под огромным баньяном, чьи корни сплетались в странные узоры, сидел человек в грязной одежде цвета охры.
Он не просил милостыни. Не совершал ритуалов. Просто сидел, скрестив ноги, с полузакрытыми глазами. Иногда к нему подходили любопытные – купец, чей караван задержался в городе; старая женщина, чей сын умер от лихорадки; даже пара молодых брахманов, тайком сбежавших от учителей.
– Что ты делаешь, отшельник? – спросил однажды сын гончара.
Человек открыл глаза. Они были удивительно ясными, как вода в горном источнике.
– Я ищу – ответил он просто.
– Что
– То, что нельзя найти в Ведах.
В доме главного брахмана Джатаки горел единственный светильник. За толстыми стенами, где не могли подслушать даже слуги, собрались старейшины.
– Это уже третий за месяц! – шипел один из них, разминая больные суставы. "Вчера у реки видели еще двоих. Они говорят, что ритуалы – пустая трата времени!"
Джатака медленно перебирал четки из рудракши. Его лицо, освещенное колеблющимся пламенем, казалось вырезанным из старого дерева.
– Они называют себя шраманами – наконец произнес он. "Отрекшиеся. Но их учение – яд для простых умов".
В углу комнаты молодой помощник жреца, тот самый Майтрея, затаив дыхание, слушал. Его пальцы непроизвольно сжали свиток, который он должен был выучить к утру. Но в голове звучали другие слова – те, что он случайно услышал от странника у ворот:
Истина не в книгах. Она в тишине между мыслями.
На следующее утро, когда солнце только поднималось над горизонтом, у городских стен не было никого. Лишь в пыли у корней баньяна виднелся отпечаток – как будто кто-то долго сидел здесь, а потом встал и ушел.
А в храме Джатака совершал утреннюю пуджу. Дым от огня поднимался ровным столбом к небу, но ветер, внезапно налетевший с востока, разорвал его на клочья.
Старый жрец вздрогнул. Где-то далеко, за стенами Капилавасту, шел дождь. И кто-то – быть может, тот самый странник – стоял под этим дождем босиком, чувствуя, как капли омывают его ноги, смешиваясь с пылью дорог.
Майтрея, стоявший позади с подносом для подношений, вдруг понял: мир, который он знал, уже изменился. Просто никто еще не заметил.
Но время шло дальше, день сменялся другим днем. Шуддходана продолжал исполнять свои обязанности перед народом.
Когда Шуддходана входил в зал собраний, даже старейшие из брахманов непроизвольно выпрямляли спины. Его походка, тяжёлая и мерная, напоминала шествие священного быка Нанди – каждый шаг отмерял не просто расстояние, а вес власти.
Он не был высоким, но казался таковым. Плечи, привыкшие носить доспехи в молодости, сохранили военную выправку. Лицо, обветренное годами правления, с резкими чертами и тёмными глазами, в которых мерцали золотистые искры – те самые, что передавались в роду Шакьев от отца к сыну.
– Царь должен быть как дождевое облако – часто говорил он своему сыну Раджаке, пока тот был жив. "Суровым снаружи, но несущим жизнь внутри".
На пятый день лунного месяца, когда по обычаю разбирали тяжбы, к трону привели старую женщину. Её сына, земледельца, обвиняли в краже риса у соседа.
– Он не виновен, повелитель! – голос старухи дрожал, как лист на ветру. "Мы отдали последнюю корову за семена, а теперь…"
Шуддходана поднял руку. Тишина воцарилась мгновенно.
– Где твой сосед?
Когда обвинитель предстал перед троном – сытый, в новых одеждах, с золотым кольцом на руке – царь долго смотрел ему в глаза. Затем велел принести мешок якобы украденного риса.
– Сколько мер?
– Десять, господин – поспешно ответил сосед.
Шуддходана встал. Его тень легла на дрожащего мужчину.
– Этот рис хранился в амбаре три месяца. Посмотри – он разжал кулак, и на пол посыпались зёрна, перемешанные с трухой и насекомыми. "Твой рис – этого года. Вору не было бы дела до старого".
Сосед побледнел.
Наказание было суровым – вора ждала двойная компенсация. Но когда старуха попыталась поцеловать край царского плаща, Шуддходана остановил её:
– Возьми это – и слуга подал ей мешок свежего риса.
Лишь в личных покоях, когда занавеси опускались, а слуги уходили, царь позволял себе расслабиться. Его пальцы, обычно сжатые в кулак, разжимались, касаясь резного ларца у изголовья. Внутри лежали три вещи:
Первый зуб его умершего сына Раджаки.
Засохший цветок лотоса, подаренный Майей в день их свадьбы.
Осколок меча отца – того самого, что сломался в битве с косалами.
На стене висел старый лук – Шуддходана уже не мог натянуть тетиву так, как в молодости, но каждое утро проводил рукой по полированному дереву, вспоминая, как учил стрелять Раджаку.
– Царь не плачет – шептал он в темноте.
Но боги, если они действительно существовали, знали правду. Они видели, как по ночам он стоял у окна, глядя на звёзды, и как его плечи иногда вздрагивали от глухих, беззвучных рыданий.
Дождь бил по медной крыше оружейного зала, где Шуддходана стоял перед стеной с доспехами предков. Его пальцы скользнули по зазубренному краю щита деда – тому самому, что принял на себя удар косальского меча в битве у реки Рохини.
– Ты мог бы расширить наши земли до предгорий – говорил ему военный советник, вчерашний гость из соседней страны. "Твои воины сильны, а союз с племенем Маллов…"
Шуддходана повернулся так резко, что советник отшатнулся.
– Мои воины пашут землю – голос царя звучал тише шепота, но от этого становился только опаснее. "Их мечи режут рис, а не плоть. И если ты ещё раз предложишь мне войну, твоя кровь станет первым пролитым зерном".
Он не добавил главного – что видел, как умирают молодые воины. Как их матери рвут на себе волосы. Как земля, политая кровью, три года не даёт урожая.
В полночь, когда даже стражи дремали у ворот, царь поднимался на северную башню – ту, что выходила к границе с Косалой. Там, в железном ларце, хранились свитки с отчётами о каждом сражении за последние сто лет.
Шуддходана разворачивал их один за другим, читая при лунном свете:
В год засухи, когда умер скот, царь Вирупакша повёл войско на восток. Из пятисот воинов вернулось восемьдесят. Захвачено десять мер золота и двадцать рабов…
В сезон дождей, когда река вышла из берегов, сын царя Аджиты пал в битве за переправу. Его тело не нашли…
Он не записывал эти истории – они горели у него в груди, как тлеющие угли. И каждый раз, когда советники говорили о слабости соседей, он видел перед глазами не победы, а пустые дома в деревнях.
Дворцовые покои погрузились в предрассветную тишину, когда Шуддходана в последний раз свернул свиток с отчетом о сборе урожая и потушил масляную лампу. В синеватом свете, пробивающемся сквозь резные ставни, его лицо казалось высеченным из камня – резкие складки у рта, глубокие морщины у глаз, будто выжженные постоянной настороженностью.
Он подошел к ларцу у восточной стены – тому самому, что достался ему от отца, – и медленно провел пальцами по сложенному там куску ткани. Шелк, некогда белоснежный, пожелтел от времени. Развернув его, царь коснулся темных пятен, въевшихся в волокна.
– Кровь Раджаки… – его губы едва шевельнулись.
Пять лет назад, когда его первенец умирал от лихорадки, брахманы принесли в жертву белого ягненка. Они клялись, что боги услышат. Но мальчик умер, истекая кровью на этом самом покрывале, а жрецы развели руками: Такова его карма.
Теперь же, когда Асита – тот самый отшельник, что предсказал смерть Раджаки, – вернулся из лесов с новым пророчеством, Шуддходана чувствовал, как старая рана в груди снова разрывается.
Он помнил каждую деталь той встречи. Как Асита, похожий на иссохшее дерево, сидел в тени манговых деревьев, не притронувшись к подношениям. Как его глаза, мутные от катаракты, тем не менее видели сквозь плоть прямо в душу.
– Твой новый сын… – голос старца звучал, словно шелест сухих листьев, – "…увидит то, что скрыто от царей. Он коснется сердца мира".
Шуддходана сглотнул ком в горле.
– Он будет править?
Пауза растянулась так долго, что где-то в саду сорвался и упал перезревший плод.
– Он превзойдет правителей – наконец ответил Асита.
Но не на троне....
После той встречи с Аситой Шуддходана не спал три ночи.
Он стоял на северной стене Капилавасту, сжимая в руках кусок свежеобожженного кирпича. Город внизу спал – лишь редкие огоньки мерцали в домах самых усердных ремесленников. Но царь видел другое: не сегодняшние кривые улочки, а будущие прямые проспекты; не эти глинобитные стены, а каменные бастионы, которые не возьмет никакая осада.
– Прикажи начать завтра", – сказал он на рассвете главному строителю.
Тот, седой, сгорбленный мужчина, чьи предки возводили стены еще при деде Шуддходаны, осторожно кашлянул:
– Господин, это потребует…
– Всего – перебил царь. Возьми всех рабов. Всех осужденных. Всех, кто должен нам зерно. Пусть работают в три смены.
К полнолунию Капилавасту превратился в муравейник. Каменщики из Варанаси, присланные в счет долга царем Косалы, тесали блоки из песчаника. Женщины и дети таскали глину с реки, смешивая ее с рубленой соломой. Даже брахманы, ворча, разрешили использовать священных быков для перевозки тяжестей.
Шуддходана лично обходил стройку каждое утро. Его тень, падавшая на свежую кладку, заставляла рабочих напрягаться втрое сильнее.
– Здесь – на полметра толще, – тыкал он посохом в едва схватившийся раствор. "И арку сделать не полукруглую, как у косальцев, а остроконечную – как в старых чертежах наших предков".
Однажды, когда солнце стояло в зените, к нему подошел старый воин Аджита, едва ковыляя на раненой ноге:
– "Зачем так спешить, господин? Косалы сейчас…"
– "Не косалы", – резко обернулся Шуддходана. В его глазах горело что-то, отчего даже закаленный в боях воин отступил на шаг.
Но одних стен было мало. По ночам, когда город затихал, царь склонялся над чертежами, при свете одной-единственной лампы. Его пальцы водили по коже, на которой придворный инженер изобразил новую систему каналов:
– "Здесь – шлюз. Здесь – водохранилище. А здесь…" – он ткнул в точку у восточных ворот, "…сады. С фигурами. С прудами. Чтобы он видел только красоту".
"Он" – это слово висело в воздухе, не произнесенное вслух, но понятное всем.
Когда брахманы запротестовали – мол, каналы нарушат священные подземные течения, – Шуддходана впервые за годы правления рассмеялся им в лицо:
– "Ваши боги пусть заботятся о небе. Земля – моя".
На следующий день работы начались.
В день, когда закончили последнюю башню, над Капилавасту разразилась невиданная гроза. Молнии били в новые стены, но камень выдержал. Народ шептался – добрый знак.
Гром грянул прямо над головой, но царь не вздрогнул. Он уже поворачивался к дворцу, отдавая последние приказы:
– "Завтра начать мостить главные улицы. И – чтобы ни один нищий не смел приближаться к этим стенам!"
Дождь смыл последние слова, но слуги кивнули. Они давно поняли: это не просто город укрепляют. Готовят золотую клетку для того, кто даже не подозревает, что станет ее пленником.
Дым от священного костра стлался по храмовому двору, цепляясь за пурпурные одежды брахманов. Старший жрец Джатака стоял перед алтарем, его иссохшие руки воздевались к небу, но взгляд был устремлен не на богов, а на Шуддходану, сидящего на резном деревянном троне.
– "Царь должен чтить традиции", – голос Джатаки дрожал не от старости, а от ярости. "Ты отменил жертвоприношение быка в новолуние! Ты позволил шудрам работать на строительстве храмовых стен! Ты…"
Шуддходана медленно поднял руку. Тишина воцарилась мгновенно, будто ножом перерезали голос жреца.
– "Мой дед подарил вашим предкам земли у южного ручья", – сказал царь так тихо, что придворным пришлось затаить дыхание. "Мой отец увеличил ваши доли от урожая втрое. А теперь вы хотите решать, как мне править?"
В толпе брахманов зашевелился молодой священник Вишвамитра. Его золотые серьги блеснули, когда он выступил вперед:
– "Мы – уста богов на земле! Без нашего…"
Царь встал. Его тень, удлиненная заходящим солнцем, накрыла молодого брахмана, словно хищная птица.
– "Вчера", – произнес Шуддходана, не повышая голоса, "ты взял взятку с купца из Варанаси. За то, что объявил его товары "чистыми" после осквернения. Должен ли я напомнить, какое наказание ждет лжецов у алтаря Агни?"
Кровь отхлынула от лица Вишвамитры.
На следующее утро царь появился на городском рынке в простом льняном одеянии, без охраны. Он остановился у прилавка, где старый гончар продавал кувшины для храмовых обрядов.
– "Сколько брахманы платят тебе за каждый?" – спросил Шуддходана, беря в руки сосуд.
Старик заерзал:
– "Они… они берут по праву первенства, господин…"
Царь разжал пальцы. Кувшин разбился о камни мостовой. Потом второй. Третий.
– "Отныне", – сказал он, поднимая глаза на собравшуюся толпу, "храмы будут платить как все. А налоги с их земель – поступать в царскую казну".
В толпе кто-то ахнул. Это значило лишить брахманов главного – независимого богатства.
В ту ночь в доме Джатаки горел одинокий светильник. Пять старших брахманов сидели в кругу, их лица искажали тени от пламени.
– "Он нарушает дхарму!" – шипел Вишвамитра, сжимая кубок с вином так, что костяшки пальцев побелели. "Мы должны…"
– "Молчи", – прервал его Джатака. Старый жрец медленно выливал вино в огонь. Пламя вспыхнуло синим. "Видишь? Даже Агни отвернулся от твоей ярости".
Он поднял глаза на портрет царского деда, висевший на стене:
– "Шуддходана боится только одного. Пророчества о сыне. Вот где наше оружие".
За окном, в темноте, шелестели листья. Никто из них не заметил тени, скользнувшей вдоль стены – царского шпиона, уже бегущего с донесением.
На рассвете перед храмом выстроились царские лучники. Шуддходана лично наблюдал, как они забирают мешки с зерном – недоимку за последние пять лет.
Джатака вышел на ступени, его белые одежды развевались на ветру:
– "Ты навлекаешь гнев богов!"
– "Боги", – ответил царь, "давно молчат. А вот я – нет".
Он повернулся к народу:
– "Отныне храмы получат ровно столько, сколько нужно для обрядов. Остальное пойдет на новые колодцы. На лекарей. На школу для детей всех каст".
В толпе кто-то зааплодировал. Это был сын цирюльника – мальчик, которому на прошлой неделе брахманы запретили даже смотреть на священные тексты.
Джатака побледнел. Он понял главное: царь играет в долгую игру. И ставка в ней – будущее, которое брахманы уже считали своим.
А вдалеке, за стенами города, одинокий аскет в рваной одежде сидел под деревом и улыбался. Он-то знал, что настоящая битва еще впереди. И что когда-нибудь родится мальчик, который разрушит все стены – и каменные, и те, что в умах людей.
Теперь, когда дорогой читатель познакомился с великим Шуддходаной, настало время узнать о его супруге, о Майе.
Город Девадаха спала под серебристым покрывалом тумана, когда маленькая Майя впервые осознала тяжесть своего происхождения. Ей было семь лет, и она стояла на мраморной галерее родового дворца, наблюдая, как внизу, у священного озера, брахманы совершают утренние омовения.
– "Наш род древнее лунных циклов", – говорила ей мать, поправляя жасминовую гирлянду в волосах дочери. Ее пальцы, украшенные кольцами с рубинами – фамильными реликвиями, – дрожали от торжественности момента. "Когда прадед твоего прадеда правил этими землями, даже цари Косалы присылали дары к нашим воротам".
Озеро Анарта, вокруг которого вырос город Девадаха, было сердцем их власти. Его воды, по преданию, появились от слез богини Парвати, оплакивающей разлуку с Шивой. Каждое утро женщины из рода колиев приходили сюда, неся на головах медные кувшины с выгравированными фамильными знаками – переплетенными змеями, символом мудрости и вечности.
Майя помнила тот день, когда ее впервые допустили к ритуалу.
– "Ты должна почувствовать воду кожей", – наставляла тетя Сумати, окуная ее маленькие ладони в прохладную гладь. "Наши предки заключили договор с духом озера. Он дает нам силу видеть то, что скрыто".
Девочка тогда не поняла этих слов. Но когда она подняла мокрые руки к солнцу, капли, стекающие по ее пальцам, вдруг застыли в воздухе, сложившись на мгновение в четкий образ – взрослую женщину (ее саму?) с ребенком на руках, вокруг которого сиял странный свет.
– "Что это…?" – испуганно прошептала она.
Тетя резко сжала ее запястье:
– "Молчи. Никогда не говори о видениях при чужих".
Только годы спустя Майя узнала правду. Их род, хоть и знатный, носил в крови дар – или проклятие – прозрения. Прабабка видела смерть своего сына за три дня до битвы. Дядя предсказал засуху, просто прикоснувшись к зерну.
И теперь, стоя на пороге своего замужества с Шуддходаной, Майя снова смотрела на озеро. Его вода, обычно прозрачная, сегодня казалась черной, как ночное небо.
– "Ты везешь с собой не только приданое", – сказала мать в день отъезда, завязывая ей на руке защитный талисман – серебряную змейку с изумрудными глазами. "Ты везешь кровь колиев. И то, что видишь, однажды изменит мир".
Карета тронулась, поднимая облака пыли. Майя не плакала. Она смотрела в маленькое зеркальце, подаренное тетей, и видела в нем не свое отражение, а странную тень – огромного белого зверя, медленно идущего сквозь время ей навстречу…
Караван из Девадахи растянулся вдоль дороги, как жемчужное ожерелье. Впереди – слониха с позолоченными бивнями, несущая на спине паланкин из сандалового дерева. За ней – тридцать повозок с приданым: благовониями, шелками, священными свитками и землей с берегов озера Анарта в серебряных сосудах.
Майя сидела неподвижно, чувствуя, как каждая кочка на дороге отдается в ее усталом теле. Ей было всего шестнадцать, но сегодня она ощущала себя старше самых древних деревьев, мимо которых проезжал караван.
– "Не бойся", – шепнула тетя Сумати, поправляя ей фату. "Ты ведь видела его в водах озера".
Действительно, за месяц до сватовства, во время ритуального омовения, Майя заметила в воде лицо незнакомого мужчины – с резкими чертами и горящими глазами. Тогда она подумала, что это игра света. Теперь же понимала – это был Шуддходана.
У ворот Капилавасту их встретил оглушительный гул раковин и медных тарелок. Но когда занавес паланкина приподняли, Майя увидела не толпу, а только его – будущего мужа, стоявшего у жертвенного огня в белых одеждах.
Он был выше, чем ей показалось в видении. Шрамы на его руках рассказывали истории, которые ей еще предстояло услышать. Когда их взгляды встретились, Шуддходана слегка нахмурился – будто пытался разгадать загадку.
– "Она не похожа на других", – прошептал кто-то из свиты.
Царь медленно подошел и протянул руку. Его пальцы, грубые от меча и лука, неожиданно нежно коснулись ее ладони.
– "Добро пожаловать домой", – сказал он. И в его голосе Майя услышала вопрос, а не утверждение.
Семь ночей горели костры вокруг Капилавасту. Семь раз Майя и Шуддходана обходили священный огонь, произнося обеты. На седьмом круге, когда жрецы пели гимны, маленькая девочка из толпы вдруг закричала:
– "Смотрите! Пламя разделилось!"
Действительно, языки огня на мгновение раздвоились, образовав подобие лотоса. Старший брахман побледнел, но быстро заговорил о "благословении богов". Лишь Майя заметила, как Шуддходана сжал ее руку чуть сильнее.
Первые месяцы брака были похожи на странный танец. Шуддходана – привыкший командовать, но неумелый в любви. Майя – знающая тайны озерных духов, но не понимающая языка мужских сердец.
Он строил для нее беседки в саду, где росли цветы из Девадахи. Она учила поваров готовить блюда с кардамоном и тамариндом, как делали в ее родном доме.
По вечерам, когда царь принимал послов, Майя сидела на террасе и наблюдала за звездами. Иногда к ней присоединялась сестра – Махападжапати, единственная, кто понимал ее тоску по дому.
– "Ты скучаешь по озеру?" – спрашивала та.
– "Я скучаю по той, кем была там", – отвечала Майя, сжимая в руках серебряную змейку – последний подарок матери.
На вторую годовщину свадьбы Шуддходана подарил ей зеркало из полированной бронзы – редкую диковинку, привезенную из Таксилы.
– "Чтобы ты всегда видела свою красоту", – сказал он неловко.
Майя взглянула в гладкую поверхность и вдруг вскрикнула – вместо ее отражения в глубине зеркала мелькнуло лицо старухи с глазами, полными скорби.
– "Что случилось?" – обеспокоенно спросил царь.
– "Ничего", – она быстро перевернула зеркало. "Просто… игра света".
На пятом году замужества, когда Майя уже научилась скрывать свои видения, случилось непредвиденное.
Во время церемонии в честь дня рождения Шуддходаны, когда жрецы лили масло в огонь, пламя вдруг взметнулось вверх, образовав четкий силуэт – фигуру сидящего человека с поднятой рукой.
Толпа ахнула. Брахманы зашептались. А Майя, не в силах сдержаться, вдруг четко сказала:
– "Он придет через семь лет".
Шуддходана резко обернулся. В его глазах читался не гнев, а… страх?
– "Кто?"
– "Тот, кто изменит все", – прошептала Майя, сама не понимая, откуда берутся эти слова.
В тот вечер они впервые спали в разных покоях. А через месяц царь начал строить новую стену вокруг дворца – выше, крепче, непреодолимее.
Но Майя знала: никакие стены не остановят того, что предначертано водами озера Анарта.
Шло время…
Капилавасту привыкло к блеску оружия и громким речам воинов. Но с приездом Майи во дворце появились островки тишины. Она не любила шумных пиров, предпочитая уединяться в южном саду, где рабыни по ее приказу разбили цветник из голубых лотосов – таких же, как росли в Девадахе у храма богини.
– "Госпожа, царь ждет тебя на совете", – робко напоминала ей служанка.
Майя откладывала свиток с поэмами Вальмики (редкая роскошь, привезенная за три года караваном из Таксилы) и медленно поднималась. Ее движения напоминали течение реки в сезон засухи – плавные, но полные скрытой силы.
– "Скажи мужу, я приду после омовения".
Она знала: Шуддходана ценил эту ее особенность. В мире, где все торопились кричать, ее молчание становилось островком покоя.
На двадцатом году замужества, когда отчаявшиеся лекари уже шептались о бесплодии, Майя начала просыпаться по ночам с криком.
– "Опять?" – Шуддходана садился на ложе, его рука непроизвольно тянулась к мечу.
– "Один и тот же…" – она дрожала, обнимая колени. "Лес. Огромное дерево. И ребенок – нет, не ребенок, а свет в форме ребенка…"
Царь хмурился. Он не понимал этих мистических бредней. Но когда на третий раз Майя описала точное расположение войск Косалы (о котором узнали лишь на следующее утро), приказал позвать брахманов.