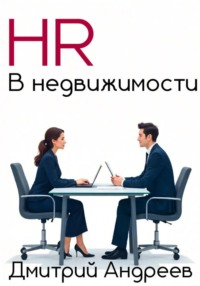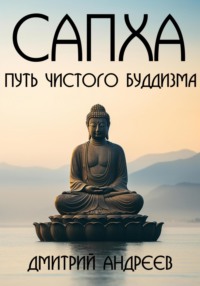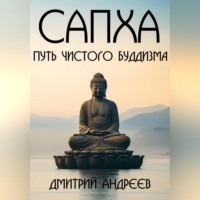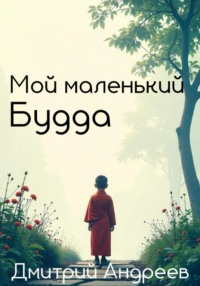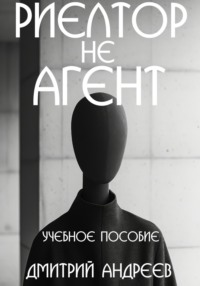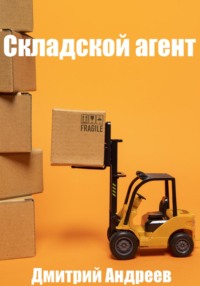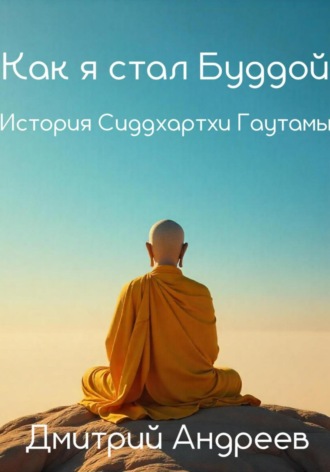
Полная версия
Как я стал Буддой. История Сиддхартхи Гаутамы

Дмитрий Андреев
Как я стал Буддой. История Сиддхартхи Гаутамы
Сначала я искал – потом исчез.
Сначала страдал – потом освободил.
Сначала был принцем – потом стал всем.
От автора
Меня зовут Дмитрий Андреев. Много лет назад я открыл для себя Буддизм и с тех пор следую этому пути. Книга, которая перед вами, – не первое моё произведение, но я считаю важным продолжать, пока есть силы и вдохновение. Надеюсь, что мои труды помогут людям понять Буддизм таким, каким его задумал один из величайших учителей в истории человечества.
Я рад приветствовать вас в самом начале знакомства с историей самого известного из всех Будд – Сиддхартхи Гаутамы. Именно ему мы обязаны тем, что сегодня знаем о Буддизме, даже если его учение со временем претерпело изменения.
Если вы открыли эту книгу, значит, хотите изучить Буддизм со всех сторон, включая историю его главного проповедника. Вы на правильном пути – когда-то я начал так же. Невозможно составить объективное мнение, не рассмотрев вопрос под разными углами. Когда то, именно этот подход вдохновил меня на написание книги "Сапха. Путь чистого пути Буддизма".
Скажу вам честно – иногда меня посещает особое желание изложить свои мысли. Можно назвать это вдохновением. И что удивительно, чаще всего это происходит именно с темой Буддизма.
Для меня остаётся загадкой, почему так происходит со мной и не случается с другими. Но я твёрдо знаю: во всём есть смысл, а значит, он есть и в этом.
Книга, которую вы держите в руках, предлагает уникальный опыт: перенестись во времена Сиддхартхи и прожить его жизнь вместе с ним. Однако важно понимать: я не претендую на абсолютную историческую точность. Наш герой жил примерно с 563 по 483 год до н. э. (хотя некоторые источники указывают 480–400 годы до н. э.), и за прошедшие века его история неизбежно искажалась.
Для контекста: Сиддхартха Гаутама, известный как Будда Шакьямуни, был современником таких событий и личностей, как:
Закат ведического периода в Индии и расцвет шраманских движений.
Кир Великий (559–530 до н. э.) – создатель Персидской империи, покоритель Вавилона.
Конфуций (551–479 до н. э.) – китайский мудрец, живший в ту же эпоху.
Пифагор (570–495 до н. э.) – греческий философ и математик.
Завоевание Египта персами (525 до н. э.) при царе Камбизе II.
Фараон Амасис II (570–526 до н. э.) – последний великий правитель независимого Египта.
Махавира (599–527 до н. э.) – основатель джайнизма.
Дарий I (550–486 до н. э.) – персидский царь, расширивший границы империи до Индии.
А что же происходило на землях будущей Руси? Государств там еще не существовало, но уже шли процессы взаимодействия скифских кочевников и лесных племен.
Да, это не эпоха строительства Египетских пирамид, но время было не менее значимым. Учение Будды распространялось, дробилось на школы, переосмыслялось – и в итоге приняло тот вид, который мы знаем сегодня.
Надеюсь, это путешествие в мир Сиддхартхи поможет вам понять его ближе и понять для себя – каким был чистый Буддизм в древние времена. Добро пожаловать!
Есть еще одна небольшая особенность, которая отличает мои книги о Буддизме от множества других – я стремлюсь писать максимально просто и понятно для обычных людей, которые, возможно, никогда раньше не открывали подобных текстов.
Я считаю крайне важным, чтобы материал было комфортно читать и легко понимать. Да, я действительно стараюсь избегать сложных терминов, но иногда без них не обойтись – они необходимы для контекста. Поэтому я придумал полезное решение: Словарь.
Прямо сейчас читать его не обязательно, но по мере знакомства с книгой, когда вы встретите незнакомое слово, скорее всего, сможете найти его объяснение здесь.
Словарь терминов
Шраманское учение – Духовные течения Древней Индии (VI-IV вв. до н.э.), противопоставлявшие себя официальной ведической религии. Характеризовались аскетической практикой, поиском новых духовных путей. Именно в этой традиции зародился Буддизм.
Брахманы – Высшая варна (социальная группа) в древнеиндийском обществе – жрецы, хранители ритуалов и священных текстов, священнослужители, выполнявшие сложные обряды ведической религии
Веды – Древнейшие священные тексты индуизма (ок. XV-VI вв. до н.э.), написанные на ведийском санскрите. Включают: гимны, песнопения, жертвенные формулы, заклинания.
Брахма – в индуистской мифологии: Бог-создатель, один из тримурти (наряду с Вишну и Шивой). Абсолют, высшая реальность в философских учениях
Шакьи – Племя и государство в предгорьях Гималаев (современный Непал), где родился Будда Гаутама. Управлялись советом старейшин, имели республиканское устройство.
Рама-чандра – Герой древнеиндийского эпоса "Рамаяна", седьмая аватара Вишну. В буддизме почитается как образец добродетельного правителя.
Рисовое пиво (сура) – Традиционный слабоалкогольный напиток в Древней Индии, изготовлявшийся путем брожения риса. Широко употреблялся во времена Будды, включая ритуальные практики.
Косала – могущественное древнеиндийское царство (совр. Уттар-Прадеш), главный геополитический соперник государства Шакьев. Столица – Шравасти. В буддийских текстах часто упоминается как место проповеди Будды.
Варанаси (Бенарес) – Священный город на берегу Ганги, духовный центр Древней Индии. Место, где Будда произнёс свою первую проповедь о Четырёх Благородных Истинах. В древности – важный торговый и религиозный узел.
Бадьян – Тропическое дерево с ароматными звёздчатыми плодами, использовавшееся – в ритуалах как благовоние, в медицине (особенно при проблемах пищеварения), в быту как природный освежитель.
Саловое дерево – (Шорея робуста) Священное дерево в индийской традиции: в тени салового дерева родился наш Будда, древесина использовалась для строительства и изготовления ритуальных предметов, источник ароматной смолы для благовоний.
Циновка – Плетёное полотно из тростника/травы, имевшее в древнеиндийской культуре: практическое значение (постель, подстилка для медитации), символический смысл – отречение от роскоши, использовалось аскетами и бедняками.
Джайнизм – Религиозное учение, возникшее одновременно с буддизмом (VI в. до н.э.): основатель – Махавира (Джина), главный принцип – ахимса (ненасилие), крайний аскетизм и учение о карме. Отличалось от буддизма более строгими аскезами.
Махавира – (599-527 до н.э.). Основоположник современного джайнизма, проповедовавший строгий аскетизм и принцип ахимсы (ненасилия). Его учение стало главной альтернативой буддизму в шраманский период.
Шраманы – (от санскр. "усердствующие") Движение странствующих аскетов (VI в. до н.э.): отвергали авторитет Вед, практиковали медитации и йогу, включали будущего Будду и Махавиру, искали альтернативные пути освобождения
Ашока – Величайший император династии Маурьев (III в. до н.э.): после кровавой войны обратился в Буддизм, распространил Дхарму по всей Азии, оставил знаменитые эдикты на колоннах, созвал Третий буддийский собор
Ригведа – Древнейший из ведических текстов (ок. 1500 г. до н.э.): собрание 1028 гимнов богам, основополагающий текст Брахманизма, содержит космогонические мифы, написана ведийским санскритом
Пуджа – Ритуальное подношение в индуизме и Буддизме: включает цветы, благовония, светильники, может быть храмовой и домашней. В буддизме – форма почитания Трёх Драгоценностей, часто сопровождается мантрами
Шудры – Низшая из четырёх варн в ведической системе: слуги, ремесленники, рабочие. Не имели права изучать Веды. В буддизме – могли стать монахами. Символ социального неравенства
Поэт Вальмика – Легендарный автор "Рамаяны": до просветления был разбойником, Его история – пример духовного преображения. В буддизме упоминается как мудрец.
Рамаяна – Древнеиндийский эпос на санскрите (V-IV вв. до н.э.), приписываемый Вальмике. История царевича Рамы, воплощения Вишну. В буддийских текстах часто упоминается как образец добродетели. Состоит из 24 000 шлок (стихов).
Таксила – Древний университетский город (совр. Пакистан), важный центр обучения в VI в. до н.э. Здесь изучали: медицину (Аюрведу), военное искусство, философию, языки (включая санскрит)
Девадаха – Родина царицы Майи (матери Будды) из племени колиев. Город славился священным озером Анарта, где проводились ритуалы плодородия. В буддийских текстах упоминается как место детства Майи.
Страна Колиев – Республиканское племя, родственное шакьям. Известны: демократическое правление, культ воды (священное озеро Анарта), родственные связи с Буддой (по материнской линии)
Дхарма – Многозначный термин:
Учение Будды
Вселенский закон
Нравственный долг
Элементы бытия (в философии)
В Буддизме – прежде всего Четыре Благородные Истины.
Сангха – Буддийская монашеская община, одна из Трёх Драгоценностей. Первоначально – группа из пяти аскетов, первых учеников Будды. Позже – все буддийские монахи, соблюдающие Винаю (монашеские правила).
Восьмеричный путь – Срединный путь освобождения от страданий:
Правильное воззрение
Правильное намерение
Правильная речь
Правильные действия
Правильный образ жизни
Правильное усилие
Правильное памятование
Правильное сосредоточение
Четыре благородные истины – основополагающее учение Будды:
Истина о страдании (дуккха)
Истина о причине страдания (тришна)
Истина о прекращении страдания (ниродха)
Истина о пути (марга)
Три драгоценности Буддизма – Будда – Просветлённый, Дхарма – Учение, сангха – Община. Основа Буддийской духовной практики. Более подробно о ней, и других основах Буддизма, подробно написанно в моей книге Сапха.
Пещера Саптапарни – место проведения Первого буддийского собора (483 г. до н.э.) в Раджагрихе. Здесь: Ананда воспроизвёл законы и заметки о учении Будды, которые были систематизированы.
Нирвана – Состояние полного освобождения: угасание страстей и неведения, выход из круга сансары, полный покой, достигается при жизни
Паринирвана и ее отличие от Нирваны – Окончательная нирвана после смерти физического тела Будды. Полное прекращение перерождений, описывается как "угасание без остатка".
Лес Урувела – Место аскезы Будды перед просветлением (совр. Бодхгая). Здесь: он практиковал 6 лет, достиг крайнего истощения, отверг крайний аскетизм, нашёл Срединный путь.
Дерево Бодхи (фикус религиоса) – Священная смоковница в Бодхгае, под которой Будда достиг просветления. Сегодня: потомок оригинального дерева, объект паломничества, символ пробуждения, называется "Махабодхи"
Складывать мудры – Мудры – это символические жесты руками, используемые в Буддийской и индуистской практиках для выражения определённых состояний сознания или передачи духовных учений. Складывать мудры означает выполнять эти жесты, которые могут сопровождать медитацию, ритуалы или проповеди. Каждая мудра имеет своё значение, например, мудра сострадания или мудра бесстрашия.
Раджагриха – Древний город в Индии, столица царства Магадха. Важный центр политической и духовной жизни во времена Будды. Здесь проходил Первый буддийский собор после смерти Будды, а также находилась Пещера Саптапарни, где были систематизированы его учения.
Особые правила Снгхи – Набор дисциплинарных правил для Буддийских монахов, регулирующих их поведение и взаимодействие внутри общины (сангхи). Эти правила могут включать запреты на определённые действия, предписания для совместной жизни и практики, а также нормы этикета. Они направлены на поддержание гармонии и духовного роста.
Дерево Ним – Тропическое дерево (лат. Azadirachta indica), широко распространённое в Индии. Известно своими лекарственными свойствами и использованием в аюрведе. В буддийских текстах упоминается как дерево, под которым медитировали аскеты, включая Будду. Символизирует исцеление и защиту.
Весали – Древний город в Индии, важный центр буддийского учения. Будда неоднократно посещал Весали и читал здесь проповеди. Город также известен как место, где Будда объявил о своей скорой паринирване (окончательном уходе из мира).
Шравасти – Столица древнего царства Кошала, один из главных городов, где Будда проповедовал. В Шравасти находится Джетавана – монастырь, подаренный Будде богатым купцом Анатхапиндикой. Здесь Будда провёл множество сезонов дождей и произнёс значительную часть своих учений.
Пролог: Мир до Будды
Капилавасту просыпался вместе с криками павлинов. Первые лучи солнца скользили по глинобитным стенам, окрашивая их в теплый медовый оттенок, и город казался вылепленным из самого света. Он стоял в долине, где две реки – Рони и Банганга – сливали свои воды, словно сестры, сплетающие руки в вечном танце.
Земля здесь была плодородной, щедрой. Рисовые поля, словно куски изумруда, ступенчато спускались к воде. По утрам, когда туман еще цеплялся за верхушки саловых деревьев, крестьяне выходили на работу, их спины сгибались в поклоне перед землей, которая кормила их поколения.
Город окружала стена – невысокая, но крепкая, сложенная из глины, смешанной с соломой и коровьим навозом. Каждую весну, перед сезоном дождей, женщины обмазывали ее свежей охрой – так стены становились похожи на застывшие языки пламени. Ворота – массивные, из тикового дерева, обитые медными пластинами – всегда стояли открыты днем, впуская купцов, странников, а иногда и шпионов соседних царств.
В центре Капилавасту, на небольшом холме, стоял дворец Шуддходаны. Не такое уж величественное здание – скорее большой укрепленный дом с широкой верандой, где по вечерам собирались старейшины. Его крыша, покрытая черепицей из обожженной глины, краснела на солнце, как спелый плод. Во дворе росло старое дерево ашока – под ним, как гласила легенда, прадед нынешнего царя принимал важные решения.
Улицы города петляли между домами, как тропы в джунглях. Здесь не было строгой планировки – каждый строил там, где хотел, лишь бы не загораживать дорогу священным коровам. По утрам воздух наполнялся запахом топленого масла, куркумы и дыма от очагов. Дети бежали к реке с кувшинами, женщины мололи зерно на каменных жерновах, а старики сидели в тени, вспоминая времена, когда Капилавасту был всего лишь маленькой деревней у переправы.
Но за этой идиллией скрывалась тревога. На севере, за густыми лесами, лежало могущественное царство Косала. Его правитель, Прасенаджит, хоть и называл Шакьев "своими верными вассалами", давно точил зубы на их земли. Каждый месяц в Капилавасту приходили гонцы с данью – шелками, рисом и юношами для армии. И каждый раз, когда Шуддходана принимал их в своем дворце, его пальцы непроизвольно сжимались в кулаки.
На востоке же, за топкими болотами, начинались земли Магадхи – молодого, но агрессивного царства, где новые правители смеялись над старыми традициями. Иногда до Капилавасту доходили слухи, что там, в Раджагрихе, царь Бимбисара советуется с бродячими аскетами, а не с брахманами.
Капилавасту был городом на перекрестке – не только дорог, но и эпох. Здесь еще чтили Веды, но шепот новых учений уже просачивался сквозь стены вместе с пылью дорог. Город, застывший между прошлым и будущим, между покорностью и гордостью, между реками и небом.
В главном зале дворца, где дым священных трав смешивался с запахом старого дерева, на стене висел свиток, выцветший от времени. На нем золотыми чернилами был изображен Икшваку – первый царь Солнечной династии, рожденный из глаз самого Брахмы. Его фигура, строгая и величественная, казалось, излучала свет даже сквозь пыль веков. Перед этим свитком каждое утро Шуддходана совершал поклон, касаясь лбом холодного каменного пола.
– Мы – сыновья света, – шептал он древние слова, которые слышал еще от своего отца.
Шакьи не просто гордились своим происхождением – они дышали им, как воздухом. Каждый ребенок в Капилавасту знал историю своего рода прежде, чем учился держать лук. Старцы на площади, попивая рисовое пиво, снова и снова пересказывали легенды:
– Наш предок Икшваку правил в Айодхье, когда мир был молод! Его сын Викукши первым совершил жертвоприношение кролика под полной луной! А прапрадед царя Шуддходаны, Махаджанака, отрекся от трона ради мудрости!
Но больше всего Шакьи любили рассказ о Раме – идеальном царе, воплощении самого Вишну. В долгие вечера сезона дождей, когда ливни стучали по крышам, женщины пели детям:
"Рама-чандра, светлый как месяц,
Шагнул за пределы страха и гнева,
Но даже в изгнании остался царем –
Ибо солнце в крови не затмить тьмой…"
Эта гордость проявлялась во всем – в том, как Шакьи держали спины прямыми даже перед лицом более могущественных правителей. В том, как их женщины носили золотые обручи на щиколотках – не как украшение, а как знак принадлежности к "касте колесничих". В их обычае начинать любое важное дело только после того, как первые лучи солнца коснутся жертвенного алтаря.
Но главным доказательством их происхождения были глаза – большие, темные, с золотистыми искорками на радужке. "Глаза солнечных царей", как говорили брахманы. Когда Шуддходана гневался, в его взгляде вспыхивало что-то, от чего даже самые смелые воины опускали взгляд.
Однажды, когда посол Косалы позволил себе усомниться в их родословной, старый воин Аджита, не говоря ни слова, снял с шеи родовое ожерелье – 108 золотых бусин, переданных ему дедом. Он бросил его в жертвенный огонь и произнес всего одну фразу:
– Солнце не горит в огне.
Наутро ожерелье нашли среди пепла – целое и невредимое, лишь слегка почерневшее. С тех пор в Капилавасту говорили: "Наша гордость – не от ума, а от крови. И пока в наших жилах течет свет – мы не станем рабами".
Дожди начались раньше обычного в тот год. Ливни, тяжелые и бесконечные, превратили дорогу в Варанаси в грязное месиво, по которому с трудом пробирался царский гонец. Его колесница, украшенная знаком лотоса – символом Косалы, застряла у самых ворот Капилавасту, и это показалось Шуддходане дурным предзнаменованием.
Он стоял на крытой галерее дворца, наблюдая, как слуги вытирают грязь с ног посланника. Тот нес в руках ларец из сандалового дерева – изящный, с серебряной инкрустацией. Но Шуддходана знал: внутри не подарок, а очередное напоминание.
– Царь царей, повелитель Косалы, господин Прасенаджит, шлет привет своему верному вассалу – голос гонца звенел фальшивой сладостью, как перезревший плод.
В зале для аудиенций, где на стенах висели шкуры убитых леопардов – трофеи предков, собрались старейшины. Они молча наблюдали, как Шуддходана открывает ларец. Внутри лежал свиток из тончайшего шелка и… горсть земли.
– Это с наших западных полей! – прошипел Васанта, самый старший из советников. Его пальцы вцепились в посох так, что костяшки побелели.
Шуддходана развернул свиток. Чернила, выведенные рукой царского писца, гласили: "Ко времени сбора урожая ожидаю двойную дань. Ибо земли, которые ты обрабатываешь, по праву принадлежат трону Косалы. Да пребудут с тобой боги. Или мои войска".
Тишина в зале стала густой, как смола. Даже попугаи, обычно болтавшие под потолком, притихли. Все знали, что значит этот намек. Пять лет назад Прасенаджит аннексировал земли племени Маллов под тем же предлогом. Тогда реки три дня несли красную воду.
– Передай своему господину – Шуддходана говорил медленно, подбирая каждое слово, как воин выбирает стрелу, "что Шакьи помнят договор. Но мы также помним, что наша династия правила этими землями, когда его предки пасли коз в горах".
Гонец побледнел. В его глазах мелькнуло что-то – страх? Уважение?
– И еще… – царь Капилавасту поднялся с трона. Его тень, удлиненная закатным солнцем, легла прямо на посланника, скажи ему, что земля, которую он прислал, будет помещена в наш храм. Рядом с урной с прахом моего деда, который взял эту землю в бою. Из его черепа.
Когда гонец уехал, а старейшины разошлись, Шуддходана остался один. Он вышел во внутренний дворик, где росло старое дерево ним. Здесь, в тени его листьев, стоял камень с высеченными словами: "Огонь может спать, но он не умирает".
Царь опустился на колени и прикоснулся лбом к камню. Где-то далеко, за горами, Прасенаджит пировал в своем дворце, окруженный сотнями воинов. А Капилавасту был всего лишь маленьким городком у границы. Но когда Шуддходана поднял голову, в его глазах горел тот самый огонь – тот, что передавался от Икшваку через поколения.
Он не знал еще, что его нерожденный сын однажды пройдет по этим землям босиком. И что царь Косалы, этот самый Прасенаджит, будет сидеть у его ног, слушая проповедь. Но в тот вечер, когда первые звезды появились над Капилавасту, Шуддходана поклялся: "Мой ребенок никогда не склонит голову".
А ветер шелестел листьями нима, словно отвечал: "Он и не склонит. Он сломает трон".
Перед рассветом, когда туман еще стелился над рисовыми полями, низкий звук раковины разносился по Капилавасту. Это старый Гхоша, страж ворот, будил город. Его предки делали так же – пять поколений подряд встречали утро этим гулом, похожим на голос самого океана.
На восточной окраине, где дома были попроще, а дворы – побольше, заскрипели деревянные жернова. Женщины, закутанные в грубые шали, мололи зерно для утренних лепешек. Запах горячей муки смешивался с дымом очагов, где в глиняных горшках уже варился рис с кардамоном.
– Анджали, не забудь поднести первую лепешку священному огню! – крикнула пожилая женщина девочке лет десяти. Та кивнула и аккуратно положила кусочек теста на плоский камень у домашнего алтаря.
К полудню, когда солнце становилось беспощадным, крестьяне уходили в тень баньянов. Их спины, покрытые каплями пота и прилипшими рисовыми стеблями, горели от труда.
– В этом году урожай будет богатым – говорил Раджа, самый опытный земледелец в округе. Его пальцы, узловатые от многолетней работы, осторожно разминали комок земли. "Почва жирная, как масло. Боги милостивы".
Но не все зависело от богов. Система каналов, которую построили еще при деде Шуддходаны, требовала постоянного ухода. Каждую неделю мужчины собирались чистить русла от ила, а дети бегали вдоль берегов, отгоняя птиц от посевов.
К третьему часу дня площадь у западных ворот превращалась в шумный водоворот жизни. Сюда приходили торговцы из Варанаси с тюками шелка, грудами медных сосудов и редкими специями. Их голоса, перекрывая друг друга, выкрикивали цены:
– Настоящий мускус из Гималаев! Кто купит?
– Серебряные кольца для прекрасных дам!
В углу, под навесом из пальмовых листьев, сидели менялы. Перед ними на циновках лежали груды раковин каури – местная "монета". Старый Сумен, слепой на один глаз, мог на вес определить подлинность любого серебряного слитка.
На закате, когда жара спадала, молодые воины собирались на тренировочном поле. Их тела, смазанные кунжутным маслом, блестели в лучах заходящего солнца.
– Смотри, Девадатта, твой лук дрожит! – смеялся один из юношей.
– Зато моя стрела всегда находит цель! – парировал тот и выпускал тетиву.
Старший инструктор Аджита, ветеран многих кампаний, наблюдал за ними молча. Лишь иногда он поправлял стойку того или иного бойца. Его собственное тело было покрыто шрамами – каждый рассказывал свою историю.
Когда темнота окончательно опускалась на город, брахманы зажигали огни в храме. Женщины зажигали масляные лампы у домашних алтарей. А старейшины собирались в доме собраний, где пили рисовое пиво и обсуждали новости.
В эту ночь разговор шел о странных слухах:
– Говорят, в Раджагрихе появился новый учитель…
– Опять эти шраманы со своими ересями!
Но крестьяне, уставшие за день, уже спали. Их сны были просты и понятны – о хорошем урожае, здоровых детях и своевременных дождях. Они не знали, что скоро в их мир войдет тот, кто изменит все.