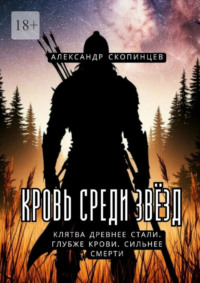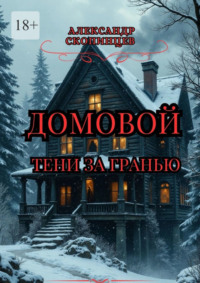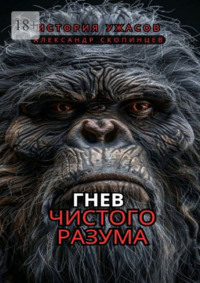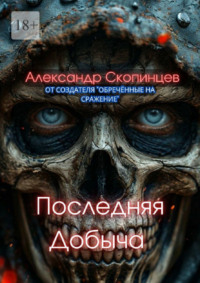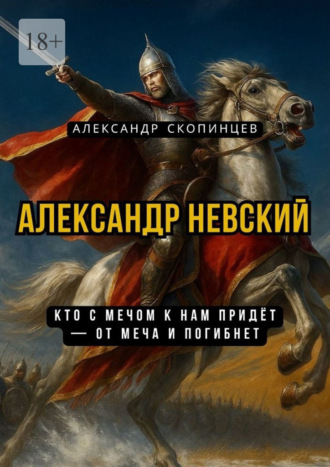
Полная версия
Александр Невский. Кто с мечом к нам придёт – от меча и погибнет
– Эй ты, баба неразумная! Какая тебе русская земля? Где ты её видала? У каждого свой двор, своя изба – вот и вся земля! Каждый сам для себя стоит, сам себе хозяин!
К боярам подбежал поп в мантии чёрной, человек тощий и подобострастный, с глазками бегающими. Он начал кланяться и поддакивать, расшаркиваясь перед знатными господами:
– Истинную правду говорят бояре наши! Каждому своё, каждому своё! Не нам, убогим, судить о делах великих!
Псковский воин, собрав последние силы, поднял голову, и единственный здоровый глаз его сверкнул ненавистью. Он поглядел на попа, на бояр сытых, и прохрипел едва слышно, но так, что каждый в толпе услышал:
– Пёс… собака продажная…
И тут толпа взорвалась окончательно, словно бочка с порохом от искры. Сотни голосов слились в рёв негодования. Полетели шапки к небу, поднялись кулаки мозолистые, раздались крики и ругательства такие, что даже вороны с колокольни поднялись и закаркали испуганно.
– Продажные твари! – кричал рыбак, размахивая руками.
– Торгаши проклятые! – вторил ему кузнец, и голос его гремел, как молот по наковальне.
– За золото землю продают! – голосила баба из толпы.
Женщины запричитали, покрывая головы и раскачиваясь в горе, а мужики начали поносить последними словами тех, что сидели на стене высокой. Молодые парни подбирали с земли комки грязи и швыряли их наверх, хотя стена была высока и камни не долетали.
– Сытые брюха! – кричали из задних рядов.
– Немцам мзду дать хотят! – добавляли другие.
Из толпы выступил человек средних лет, широкоплечий и крепко сбитый, опоясанный передником кожаным с пятнами от угля и железа. То был Игнат, мастер кольчужный, человек прямой и острый на язык, которого в городе уважали за умелые руки и честное сердце.
Игнат посмотрел наверх на бояр холёными глазами, полными презрения, и сказал громко, так чтобы вся площадь слышала:
– Всякий гад – на свой лад!
Толпа засмеялась, поддерживая Игната. Его слова разлетелись по площади, и люди повторяли их, смеясь злобно. Игнат выступил ещё на шаг вперёд и, глядя прямо в глаза главному боярину, произнес с усмешкою горькою:
– Не корми меня тем, чего я не ем!
Боярин нахмурился, не понимая, к чему клонит кольчужный мастер. Но Игнат уже повернулся к народу и заговорил голосом звучным:
– Знаю я этих господ! Им, богачам жирным, всё едино! Что мать родная, что мачеха лютая – всё одно! Где выгода да барыш, там и родная земля для них! За серебро и душу продадут!
Он поднял руку, указывая на бояр:
– А нам, малому люду, смерть верная под немцами!
Толпа поддержала его криками одобрения. Голоса сливались в единый рёв:
– Правду говорит Игнат!
– Так оно и есть!
– Не дадимся немцам поганым!
Игнат поднял обе руки над головою, и мышцы на его руках, привычных к тяжкому труду, напряглись. Он набрал полную грудь воздуха и изо всех сил, так что голос его прогремел над площадью, закричал:
– Надо звать Александра! Немцев бить до смерти!
Площадь взорвалась согласием, словно гром грянул среди ясного неба. Сотни голосов подхватили этот клич:
– Александра! Зовите Александра!
– Не хотим Александра!
– Александру быть здесь!
Люди толкались, размахивали руками, кто-то подпрыгивал, стараясь перекричать соседа. Старые воины, что помнили ещё прежние битвы, кивали головами и говорили товарищам: «Правильно кричат! Только Александр может!»
Со стены Ян Власьев, красный от злости, попытался перекричать толпу, размахивая руками:
– Нечего тут Александру делать! Не ждите его, не придёт! Соберёмся сами, ударим на немца! Домаш Твердиславич нас поведёт! Он воевода опытный!
Но голос его потонул в общем гуле. Толпа не желала слушать.
Тут на стену, рядом с боярами, поднялся муж статный и представительный. То был Домаш Твердиславич, воевода новгородский, человек средних лет, с бородою русою, тронутою сединою. На нём была рубаха полотняная белая, поверх – кольчуга блестящая, а сверху – плащ из сукна доброго, зелёного цвета. При бедре висел меч в ножнах кожаных, украшенных серебром. Лицо его было серьёзное и думное, глаза – умные и добрые.
Домаш поправил плащ на плечах, поклонился народу низко, по-доброму, и поднял руку, призывая к тишине. Постепенно гул стих, ибо Домаша в Новгороде знали и уважали за храбрость и честность.
Когда стало тихо, воевода заговорил голосом глубоким и торжественным, и каждое слово его звучало, как колокольный звон:
– Братья мои милые! Сыны и дочери земли русской! Беда идёт на нас большая! Враг лютый подступает к стенам нашим, и не простой это враг – немец окаянный, что веру нашу православную искореняет, а людей русских в рабство вечное гонит!
Он помолчал, давая словам своим дойти до сердец слушающих, а затем продолжил с ещё большею страстью:
– Больших людей от нас такая беда потребует, великих дел и жертв немалых! Не я для того годен – другой потребен, у которого рука крепче моей, голова посветлее, сердце пожарче! И чтобы слава его была по всей земле русской, от моря до моря, и чтобы враг его боялся, только имя услышав, и ведал о искусстве его ратном!
Голос Домаша становился всё громче, всё торжественнее:
– Тут нужен только князь – и не иной кто, а тот самый Александр Ярославич! Один только он может русскую землю от напасти избавить!
Народ внизу заволновался, задвигался, зашептался. Имя Александра переходило из уст в уста, словно молитва спасительная. Женщины крестились, мужчины кивали головами.
Из толпы выступил другой мужчина – Гаврила Олексич. Он нахмурил брови чёрные и воскликнул воодушевлённо, так что голос его прозвенел над площадью:
– Слушайте, люди православные! Как погонит немец русских людей в полон, как зажмёт нас меж своими полками, как поставит над нами воевод басурманских – вот как тогда и напляшемся под чужую дудку!
Он сжал кулак и потряс им в воздухе:
– Не дождёмся мы от немцев милости! Только меч может нас спасти, только битва честная!
Гаврила поднял руку, словно отдавая приказ дружине, и закричал так, что голос его разнёсся по всему Новгороду:
– Звать Александра! Звать немедля!
И тогда вся площадь торговая загудела, словно море во время бури великой. Тысячи голосов сливались в единый клич, что поднимался к небесам серым и низким:
– Александра! Александра Ярославича!
– Зовите князя нашего!
– Без него погибели не миновать!
Люди размахивали руками, подбрасывали шапки, кричали до хрипоты. Старики и малые дети, мужчины и женщины, богатые и бедные – все сливались в едином порыве. Кто-то из молодых парней вскочил на лавку торговую и завопил:
– На коленях молить будем, только пусть придёт!
– Землю поцелуем под ногами его! – вторила баба из толпы.
– Спаси нас, княже! – кричали женщины, воздевая руки к небу.
Колокола всё били, всё звали, и медный звон их сливался с голосами человеческими в единую песнь-молитву. Казалось, что сама земля Русская вопиет о помощи, о заступнике, о том, кто способен поднять меч за веру православную и землю отчую.
Бояре на стене переглядывались с беспокойством. Они видели, что народ не на их стороне, что толпа требует князя, которого они боялись больше немцев. Ибо знали: придёт Александр – и власть их торгашеская кончится.
А вдали, за лесами дремучими, за реками быстрыми, за болотами топкими, уже слышался топот коней немецких и звон доспехов крестоносных. Время шло неумолимо, и каждый час был дорог, как жизнь человеческая. Судьба Новгорода Великого, судьба всей земли Русской висела на волоске…
И всё громче, всё настойчивее звучал над заснеженною площадью призыв отчаянный:
– Александра! Зовите Александра!
3 глава: Падение Пскова
Словно саван из преисподней, опустился над Псковом дым – густой, удушливый, пропитанный запахом крови и пепла. Ветер что шелестел в листве берёз и нёс смех детворы, ныне разносил по улицам гарь пожарищ да предсмертные стоны умирающих. Воздух дрожал от жара догорающих строений, и казалось, что сама земля стонет под тяжестью обрушившегося на неё горя.
Псков – град, что гордо стоял на берегах Великой – ныне лежал поверженным. Белокаменные палаты бояр, что ещё вчера горделиво возносились к небесам, отражая в своих окнах блеск солнца, стояли обгорелыми остовами. Их резные наличники почернели от огня, крыши провалились, а из окон, словно из глазниц черепа, валил дым. Стены храмов, что прежде сияли белизной, теперь были покрыты копотью и кровавыми потёками.
По мостовым, где ещё недавно звенели голоса торговцев, зазывавших купить заморские товары, где смеялась детвора, гоняя обручи, где степенно прохаживались почтенные граждане, обсуждая дела градские, – ныне валялись тела. Псковичи и крестоносцы лежали вперемешку, их кровь смешалась на камнях. Кони, что гордо несли в битву своих всадников, распростёрлись рядом с хозяевами, и стрелы торчали из их боков, словно смертоносные цветы.
Смрад смерти стоял в воздухе – тяжёлый, приторный, он забивал ноздри и вызывал тошноту. Мухи роились над трупами, а вороны, осмелев, садились на тела и принимались за свою мрачную трапезу. Собаки, что остались без хозяев, бродили по улицам, воя.
По этому кладбищу, что ещё недавно было вольным и многолюдным градом, мерно шагали железные колонны завоевателей. Рыцари Тевтонского ордена двигались в полном молчании – лишь позвякивала сталь их доспехов да скрипела кожа ремней и сбруи. Топот их коней был глухим и мерным, словно стук молотов по наковальне. Каждый шаг отдавался эхом в пустых улицах, напоминая о том, что здесь теперь хозяйничают чужеземцы.
Белые плащи с чёрными крестами развевались на ветру, словно знамёна смерти. Эти кресты – символ их веры, что они несли огнём и мечом, – казались кровавыми пятнами на белизне ткани. Топфхельмы – железные шлемы с узкими прорезями для глаз – придавали рыцарям вид бездушных призраков войны. Через эти щели проглядывали холодные глаза, в которых не было ни жалости, ни сострадания – только жестокая решимость покорить и уничтожить всё.
Кольчуги их были сплетены из мельчайших колец, каждое звено отполировано до блеска. Поверх кольчуг надеты кирасы – нагрудники из закалённой стали, что могли выдержать удар меча или наконечника стрелы. На руках – наручи, на ногах – поножи, всё тело закрыто железом. Щиты украшали гербы знатных родов: львы, орлы, кресты и мечи – символы власти и войны.
Пехотинцы шли следом за рыцарями – люди попроще, но не менее жестокие. На них были кольчуги покороче, шлемы попроще, но в руках – те же мечи и копья, что несли смерть людям. Лица их были грубыми, обветренными, в глазах светилась жадность – они уже прикидывали, что можно захватить в качестве добычи.
Главная площадь Пскова, где прежде собиралось вече, где звучали пылкие речи о вольности и правде, где решались судьбы града, – ныне превратилась в позорище. Старые камни, что помнили ещё княжение Всеволода-Гавриила, были забрызганы кровью. Посреди площади пылал огромный костёр – выше человеческого роста, жадно пожиравший останки защитников города. Пламя било ввысь, искры летели в стороны, а треск горящих брёвен смешивался с шипением плоти.
Вокруг костра, точно чёрные вороны над падалью, сновали католические священники в тёмных мантиях. Они воздевали к небу кресты – не православные, четырёхконечные, а латинские, с удлинённой нижней перекладиной – и бормотали молитвы на непонятном простому люду языке. Голоса их были гнусавыми, монотонными, и от этого бормотания по спине бежали мурашки.
У стен Троицкого собора, что один остался нетронутым среди разрухи – его белые стены всё ещё сияли, а золотые кресты на куполах отражали отблески пожаров, – воздвигли трон. Это было кресло из дубового дерева, обитое красным бархатом, с высокой спинкой, украшенной латинскими письменами. На нём восседал епископ – человек грузный, с обрюзгшим лицом, изрытым оспинами. Глаза его, мелкие и жестокие, блестели от сытости и довольства. На голове – широкополая шляпа с красным пером, на руках – перчатки из тонкой кожи с символикой аббатства.
Мантия епископа была из дорогого сукна, подбитого мехом горностая. На груди – золотая цепь с крестом, усыпанным драгоценными камнями. Он сидел, откинувшись на спинку трона, и обводил площадь взглядом хозяина, что осматривает своё новое владение. Время от времени он поднимал к губам кубок с вином и медленно отпивал, смакуя каждый глоток.
Перед троном, на коленях, в кровавых путах стояли пленные псковичи – более сотни мужей, что защищали родной город до последнего вздоха. Это были ремесленники и торговцы, воины и простые горожане – все, кто не успел бежать и не пожелал покориться. Одежда их была разорвана в битве, лица избиты, руки скручены за спинами грубыми верёвками, что врезались в плоть.
На многих зияли раны – рубленые мечом, колотые копьём. Кровь засохла на рубахах, смешавшись с грязью и потом. Волосы спутались, бороды покрылись пылью и сажей. Но в глазах многих по-прежнему пылал неукротимый огонь – огонь гордости и непокорности. Они не опускали взора перед победителями, не молили о пощаде, а смотрели грозно, исподлобья.
Некоторые шептали молитвы, крестясь, как могли, связанными руками. Другие молчали, стиснув зубы, готовые принять смерть с достоинством. Третьи бормотали проклятия в адрес захватчиков, не боясь навлечь на себя ещё больший гнев.
За спинами пленников, у стен собора, в тени его древних стен, жались друг к другу женщины с детьми. Их не связывали, но страх сковал их хуже любых пут. Было их человек полтораста – жёны, матери, дочери, сёстры тех, кто пал в бою или стоял теперь на коленях. Все знали, что творят немецкие захватчики с побеждёнными, какая участь ожидает жён и дочерей воинов.
Бабы качали на руках младенцев, пытаясь унять их плач. Груднички чувствовали материнский страх и хныкали, а матери прижимали их к груди, шепча колыбельные дрожащими голосами. Девицы прятали лица в материнские подолы, старухи крестились дрожащими руками, бормоча молитвы к Пресвятой Богородице.
Молодые женщины, понимая, что их ожидает, обнимали детей покрепче, будто пытаясь защитить их собственными телами. Глаза их были красными от слёз, но плакать вслух не осмеливались – боялись привлечь внимание захватчиков. Лишь изредка вырывались сдавленные всхлипы да шёпот молитв.
Рыцари стояли кольцом вокруг площади – железная стена, о которую разбивались последние надежды псковичей. Их доспехи сверкали в отблесках костра: кольчуги, поверх которых надеты кирасы, наручи и поножи из полированной стали. Каждая деталь была выкована лучшими оружейниками Европы, каждое звено кольчуги проверено в бою.
Щиты их были расписаны геральдическими знаками: золотые львы на красном поле, чёрные орлы на жёлтом, серебряные мечи на синем фоне. Копья с треугольными наконечниками вознеслись к небу, словно стальной лес смерти. Древки их были из крепкого ясеня, наконечники – из закалённой стали, способной пробить любую броню.
Мечи висели на поясах в богато украшенных ножнах. Рукояти были обмотаны кожей для удобства хвата, навершия украшены гравировкой. Это было оружие не только для битвы, но и для демонстрации богатства и власти.
Среди рыцарей выделялся один – магистр Тевтонского ордена. Он был выше других ростом, шире в плечах, и само его присутствие источало власть и силу. Доспехи его были самыми дорогими – каждая деталь сияла, как зеркало, каждое украшение говорило о высоком положении владельца.
Магистр медленно, с расчётом на впечатление, поднял руки к голове и снял свой топфхельм. Движения его были неторопливыми, величавыми – он знал, что все взоры устремлены на него, и наслаждался этим вниманием. Шлем он взял в руки и держал перед собой, словно корону.
Лицо его было суровым и властным: белокурые волосы, тронутые сединой, зачёсаны назад, открывая высокий лоб. Глаза цвета зимнего неба смотрели холодно и расчётливо. Мощный подбородок говорил о решительности, тонкие губы – о жестокости.
Белый плащ с чёрным крестом развевался за его плечами. Крест был вышит золотыми нитками, а по краям плаща шла кайма из соболиного меха. Под плащом виднелись доспехи работы лучших миланских мастеров – каждая пластина была подогнана идеально, каждый шарнир работал без скрипа.
– Господин магистр! – раздался льстивый голос, разрезавший тишину площади. – Что повелите делать с сими псами? Весь град у ваших ног лежит!
Говоривший – Твердило, боярин псковский, человек властной натуры и неспокойного духа, некогда сидевший на посадничьем месте, ведавший судом, словом, и городским порядком. С виду – породист, степенен, с правильными чертами и речью неспешной, украшенной вежливыми оборотами. Но под этой наружной гладью давно гнездилась скрытая жажда – жажда власти не ради дела, но ради себя, и золота не на службу общему, но в закром душевный, без дна.
В год бедствий, когда тевтонский рыцарь встал стеной у западных рубежей, когда немец подошёл к стенам Пскова, а дым чужих костров заволок небо, Твердило не поднял меча. Он поднял глаза к тем, кто пришёл с крестом в одной руке и мечом в другой – и склонился перед ними. Не с молчаливой покорностью пленных, но с хитростью торговой: открыл ночью ворота, и впустил врага в сердце города, как вор пускает грабителя в дом соседа, надеясь на долю в добыче.
Он предал город, в котором вырос, и стены, что некогда защищал. Предал не из страха, не по принуждению – по воле своей, по расчёту, по страсти к власти, что бывает сильней долга и родства. И имя его с той поры звучало не как память, но как напоминание: что легче всего сдать врагу не стены – душу.
Твердило подобострастно кланялся магистру, заглядывал ему в глаза, ждал одобрения. Он потирал руки и улыбался, глядя на страдания своих соплеменников, и в этой улыбке было что-то звериное, отвратительное.
Магистр неторопливо окинул взглядом пленных псковичей, задержал взор на их лицах – гордых, непокорных. Потом посмотрел на горящий костёр, на трупы, разбросанные по площади, на дым, что поднимался к небу. Всё это было плодами его победы, и он наслаждался зрелищем.
Затем магистр повернулся к Твердиле, и голос его прозвучал низким басом, что разнёсся по всей площади, отразился от стен собора и заставил всех притихнуть:
– Так города не сдают, Твердило.
В голосе его звучало презрение – не к врагам, а к предателю. Магистр понимал ценность мужества, даже если оно было направлено против него самого. А предательство вызывало у него лишь отвращение.
– Если ты мне и Новгород так же сдашь, – продолжал магистр, указывая на тела рыцарей и пехотинцев, что пали от мечей защитников Пскова, – повешу на первом же суку.
Твердило побледнел, отшатнулся, понял, что навлёк на себя гнев того, кому служил. Руки его задрожали, улыбка сползла с лица. Он попятился, пытаясь скрыться за спинами других приближённых.
В этот миг к ногам магистра бросился монах Ананий – подручный Твердилы, человек малого роста, с хитрыми глазками и лысиной, что блестела от пота. Рясы его была запачкана грязью, лицо покрыто испариной. Он упал на колени, простёр руки к магистру:
– Великий магистр! – завопил он дрожащим голосом. – Прикажи верёвки грузить!
– Что? – переспросил магистр, нахмурившись.
– Новгородских смутьянов вязать! – зашептал Ананий, подползая ближе. – Новгородцы сопротивляться задумали, за Александром посылать хотят!
При имени Александра в толпе пленных прошёл шёпот. Многие подняли головы, в глазах вспыхнула надежда. Имя князя Александра Ярославича было известно всей Руси после победы на Неве над шведами.
– Это тот, что на Неве шведов побил! – продолжал шептать Ананий.
Твердило наклонился к уху Анания:
– Мути народ против Александра… Опасен сей князь…
Магистр усмехнулся – усмешка была холодной, презрительной. Он отвернулся от Твердилы, словно от назойливой мухи:
– Ещё не родились люди, могущие нас побить.
Его плащ развевался на ветру, как и белые плащи других рыцарей. Ветер поднимал пыль, разносил дым, и казалось, что сама природа содрогается от происходящего на площади.
Магистр кивнул в сторону десятка знатных воинов, что стояли поодаль в дорогих доспехах. Это были рыцари знатных родов, что прибыли в крестовый поход против язычников и схизматиков:
– А князей у меня вассальных сколько угодно, – произнёс он с гордостью.
Он указал на одного из рыцарей – высокого, широкоплечего, с тёмной бородой:
– Доблестный рыцарь Губертус! Как старший князь покорённых русских земель жалую вас князем Псковским!
Рыцарь медленно снял свой топфхельм, обнажив загорелое лицо с глубоко посаженными глазами. Он низко поклонился, приложил руку к сердцу:
– Благодарю, господин магистр! Буду служить верно!
– Рыцарь Дитрих! – продолжал магистр, указывая на другого воина – молодого, с русыми волосами и голубыми глазами. – Жалую вас князем Новгородским!
И этот воин обнажил голову в знак покорности, склонился перед магистром:
– Приму сию честь, господин магистр!
Каждый раз, когда называли имя нового «князя», пленные псковичи стискивали зубы, в глазах их вспыхивал гнев. Видеть, как чужеземцы раздают русские земли словно поместья, было для них мучительнее физических страданий.
Тут поднялся с трона епископ, расправил плечи, воздел руки к небу. Мантия его заколыхалась, золотая цепь зазвенела. Голос его был гулким, надрывным, и он зазвучал над площадью, разносясь до самых дальних углов:
– На небе один Господь! – возгласил он, и голос его отразился от стен собора. – На земле один его наместник! Одно солнце освещает вселенную и сообщает свой свет другим светилам! Один римский властелин!
Епископ говорил с пафосом, с убеждением, словно проповедуя с амвона. Каждое слово он произносил отчётливо, с расстановкой, чтобы все поняли:
– Всё, что непокорно Риму, должно быть умерщвлено! Нет спасения вне единой истинной церкви! Схизматики и еретики – враги Христовы!
Речь его была долгой, обличительной. Он говорил о том, что православные – не истинные христиане, что их обряды – мерзость перед Богом, что их храмы – рассадники ереси. Пленные слушали эти слова шепча молитвы.
Твердило, воспользовавшись моментом, навис над пленными псковичами. Лицо его исказилось злобной усмешкой:
– Ну как, православные? Согласны служить истинному Богу? Согласны принять латинскую веру?
Он ходил перед ними, заглядывал в лица, ждал ответа. В глазах его светилась жестокая радость – он наслаждался своей властью над теми, кто ещё недавно был равен ему.
Тогда один из пленников – седобородый муж в разорванной и окровавленной рубахе – подскочил на коленях, насколько позволяли путы, и прохрипел надорванным в битве голосом:
– Не бывать, по-твоему, Твердило!
Это был Павша, псковский воевода, что командовал обороной города. Лицо его было изрублено, левая рука висела плетью – её изрубили ещё в бою. Но глаза горели неукротимой яростью, а голос, хоть и хриплый, звучал твёрдо:
– Не пойдёт Русь под немца! Бивали мы вас и прежде, побьём и ныне!
Эти слова прозвучали как клич, как призыв к сопротивлению. Другие пленные подняли головы, в их глазах вспыхнула прежняя гордость. Кто-то зашептал: «Правда, воевода! Не сдадимся!»
Твердило побагровел от ярости. Он указал на Павшу закованным в железо пальцем, и голос его сорвался на крик:
– Казнить сего охальника! Немедля казнить!
К воеводе подбежали пехотинцы – грубые, жестокие люди в кольчугах и шлемах. Они схватили Павшу за плечи, поднимали его на ноги. Воевода не сопротивлялся, лишь гордо выпрямился, расправил плечи.
Тогда из толпы женщин раздался пронзительный крик. Из-за материнских подолов выскочила девушка – молодая, красивая, с длинными русыми волосами, что развевались по ветру. Это была Василиса, дочь Павши, девица лет семнадцати, что славилась своей красотой по всему Пскову.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.