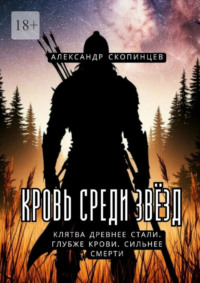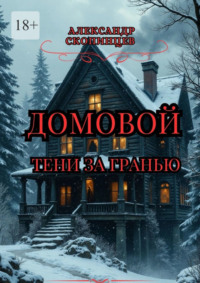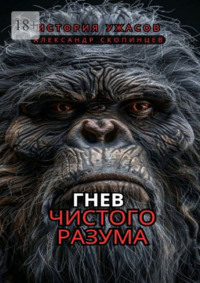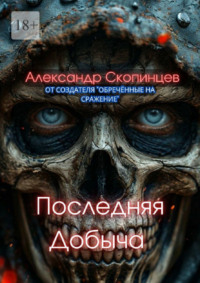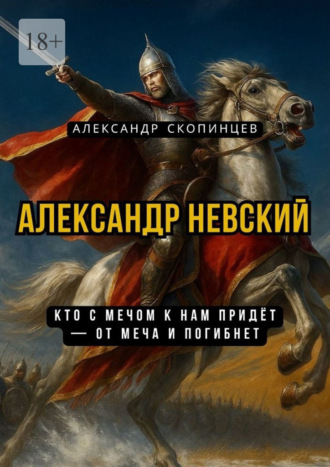
Полная версия
Александр Невский. Кто с мечом к нам придёт – от меча и погибнет

Александр Невский
Кто с мечом к нам придёт – от меча и погибнет
Александр Скопинцев
Иллюстратор Александр Скопинцев
© Александр Скопинцев, 2025
© Александр Скопинцев, иллюстрации, 2025
ISBN 978-5-0067-5741-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Аннотация
Когда пала надежда – поднялся он. Александр Невский, молодой князь с огнём в сердце, встал между Русью и стальным валом крестоносцев. Предательство, кровь, ледяное побоище – история, что стала легендой. Эта книга – не просто хроника войны. Это гимн силе духа, стойкости народа и герою, чьё имя невозможно забыть.
Кто с мечом к нам придёт – от меча и погибнет
ПРОЛОГ
Лето от Сотворения Мира 6740-е, от Рождества Христова 1230-е
В те дни, когда солнце русское померкло от дыма пожарищ, а земля православная стонала под копытами иноземных коней, разделилась Русь на многие княжения, словно разбитый меч на острые осколки. Не стало более единой державы от Новгорода до Киева, от Смоленска до Рязани – каждый град стоял особняком, каждый князь держал свою волю, а враги, аки волки голодные, окружали русские пределы со всех сторон света.
На западе, за частыми, будто сплетёнными из мрака и смолы, псковскими и новгородскими лесами, начинались земли иного духа – суровые, каменные, под тяжестью готических крестов и чуждой речи. Там, где замирают ветры над болотами и хвойные чащи обступают дороги, начинались владения рыцарей – немецких и датских, меченосных и надменных, что скрывали под белыми плащами с чёрными крестами мечи и холодную волю покорителей. Там, в Ливонии, Орден Меча, некогда укоренившийся в землях эстов и ливов, оставил за собой след из пепла и крови – селения выжженные дотла, капища сокрушённые, веру обратившуюся в страх.
Тысячи язычников были крещены не словом, а железом, не молитвой, а кнутом. Но жажда завоевания не знала предела: алчные взоры рыцарства устремились теперь на земли православные – туда, где звонили колокола и кадился ладан, где святые лики смотрели со стен храмов, и крестились люди, как завещано им от праотцев.
На том пути первым стоял Псков – молодой, но гордый, как крепкий дуб рядом со старым лесным исполином. Он был младшим братом Новгорода, наследником вольных обычаев, той же веры, того же языка и закона. Псков не просто хранил западную заставу – он был щитом, прикрывавшим путь к самому сердцу вольной земли, к Новгороду, где вече держали мужи, где купцы с воском и мехами вели дело с дальними странами, где народ сам избирал своих посадников и судей.
Дорога к Новгороду шла через Псков – через его стены, башни, через руки его воев и дружин. И потому взгляд крестоносцев, повёрнутый на восток, всегда натыкался прежде на город, что стоял на камне у воды, в кольце стен, и в нём звучала та же молитва, что и в Новгороде, – на русском языке, с православным знаменем.
Потому и тревога гнездилась ныне в душах: не за один город стоял вопрос – а за всю землю от Пскова до Великого Новгорода, за душу народа, за право жить, по совести, своей, а не под плетью чужого закона.
Рим папский благословлял сии завоевания, нарекая их «священной войной за истинную веру». Булла папы Григория IX гласила: «Да будут обращены в истинную веру все народы северные». А король датский Вальдемар Победоносный и епископ рижский Альберт слали послания во все концы германские, призывая рыцарей к походу на Русь. Обещали им отпущение грехов и богатые земли за службу верную.
На севере, в водах студёных Балтийского моря, господствовали корабли шведские под знамёнами ярла Биргера. Швеция тех времён крепла под властью конунга Эрика Эрикссона, и мечтали шведы о том, чтобы воды Невы и Ладоги стали их внутренними морями. Католическая церковь шведская разжигала рвение воинов, нарекая поход на Русь «делом богоугодным» и «крестовым походом против схизматиков». Биргер Магнуссон, ярл могучий и воин искусный, собирал дружины под знамёна трёх корон шведских, готовя удар по землям Руси.
На юге же, в степях половецких, рождалась гроза страшнейшая из всех, что видала Русь от начала времён. За Волгой и Яиком двигались тумены монгольские под стягами Чингиз-хана и его наследников. Батый-хан, внук великого завоевателя, уже прошёл огнём и мечом по землям булгарским и половецким, и дым пожарищ стлался от Каспия до Днепра. Рязань, Москва, Владимир – все сии грады склонили главы пред саблями монгольскими, а князья русские либо пали в бою, либо бежали в леса дремучие.
Монголы сии, что звались себя «народом войлочных кибиток», знали лишь один закон – закон сильнейшего. Ясак тяжкий налагали они на покорённые народы, а тех, кто противился, истребляли до последнего младенца. Была у них поговорка: «Трава не растёт там, где прошла монгольская конница». И правда сия оказалась – города русские лежали в развалинах, а поля заросли бурьяном и тернием.
Среди княжеств русских не было согласия. Князь Юрий Всеволодович владимирский враждовал с князем Михаилом черниговским. Галицкий Даниил Романович вёл войны с волынским Васильком, братом своим родным. Рязанские Ингваревичи кровью поливали землю в усобицах со своими же соседями. А Новгород Великий, что стоял особняком от всех княжеств, держал свою волю вечевую и не желал склоняться ни пред кем из князей.
В Новгороде том была власть особая – не княжеская единодержавная, а вечевая, народная. На площади у Софии Премудрости собирались все мужи градские – и бояре богатые, и купцы именитые, и ремесленники искусные, и даже смерды простые. Била вечевой колокол, и решалось на том вече всё: кого князем звать, с кем воевать, с кем мир заключать. Посадник и тысяцкий правили градом от имени веча, а князь был лишь военачальником наёмным, что мог быть изгнан, коль скоро не по нраву придётся новгородцам.
Богатство новгородское основывалось на торговле. Купцы новгородские ездили и в Константинополь к грекам, и в Любек к немцам, и в Лондон к англичанам. Соль из Старой Руссы, меха соболиные и куньи из лесов северных, воск и мёд, лён и пенька – всё сие богатство текло через Новгород, как реки в море. А взамен приходили в Новгород сукна фландрские, вина заморские, пряности индийские, серебро немецкое.
Но было у Новгорода и слабое место – хлеб. Земля новгородская, болотистая и лесистая, не родила достаточно зерна для прокормления всех жителей града великого. И потому зависел Новгород от поставок хлеба из земель суздальских и рязанских. Сие обстоятельство использовали князья для принуждения Новгорода к покорности – стоило перекрыть подвоз зерна, как начинался в граде голод страшный.
В те самые годы, о которых ведём речь, сидел на престоле великого княжения владимирского Юрий Всеволодович, муж храбрый, но часто гневливый и своенравный. Сыновья его – Фёдор, Александр, Андрей, Ярослав – росли в учении ратном и книжном, готовые принять бремя княжеское. Старший сын, Фёдор, уже был посажен отцом в Новгороде на княжение, но преставился внезапно, и опечалилось сердце отца великого князя.
Тогда-то, в лето 6745 от Сотворения Мира, и призвали новгородцы к себе на княжение Александра Ярославича, сына Ярослава Переяславского, внука великого князя Всеволода Большое Гнездо. Был тот Александр юн летами – всего двадцать лет от роду, но уже прославился умом острым и храбростью несомненной. В Переяславле-Залесском, отчине своей, показал он себя правителем мудрым и воином искусным.
Принял Александр княжение новгородское в час тяжкий для Руси. С юга надвигались тучи монгольские, с запада – рыцари немецкие, с севера – викинги шведские. А Русь, разделённая междоусобицами, не могла дать отпора всем врагам разом. Нужен был воин, что смог бы объединить силы русские и встать на защиту веры православной и земли отцовской.
В монастырях и храмах служили молебны о избавлении от нашествия иноплеменных. Старцы вспоминали пророчества древние о «временах лютых», когда «будет народ на народ и царство на царство». Летописцы записывали: «Въ лето 6745 бысть знамение в солнци, и померче день, и быша звёзды видимы». И толковали книжники сие знамение как предвестие великих потрясений.
Между тем, в землях немецких и датских собирались силы огромные для похода на Русь. Папа римский Григорий IX призывал: «Да не будет более промедления! Да будут крещены народы северные мечом и огнём!» Магистр Ордена меченосцев Фольквин фон Наумбург собирал ратников из всех земель германских. Датский король Вальдемар II обещал своим рыцарям богатые земли новгородские за службу верную.
Готовили они удар тройной: с севера должны были напасть шведы, с запада – немцы и датчане, с юго-запада – литовцы и поляки. План был прост и ужасен: окружить Новгород кольцом железным, перекрыть все торговые пути, заставить город сдаться голодом и принять веру латинскую.
А в самом Новгороде шли споры великие. Одни бояре говорили: «Лучше покориться немцам, чем погибнуть от монголов». Другие возражали: «Не быть рабами латинянам! Лучше смерть с честью, чем жизнь в поругании!» Купцы роптали на торговые потери, ремесленники жаловались на тяготы военные. А простой люд молился в храмах и уповал на князя молодого, что должен был стать щитом для града и веры православной.
Так, в годы те лихолетные, когда «земля трясяшеся и вода кипяше», готовилась битва великая между Русью православной и всеми врагами её. И стоял у порога той битвы князь Александр Ярославич, ещё не ведая, что имя его прославится в веках как имя защитника земли русской и веры христианской.
Время испытаний приближалось, словно гроза летняя, что собирается над полями и лесами. И в тишине той грозовой слышались уже дальние раскаты грома – топот коней вражеских, звон мечей, крики битвы грядущей. А над всем этим – колокольный звон новгородский, что звал сынов русских на защиту Отечества и веры православной.
1 глава: На брегах Плещеева озера
Тринадцатый век стал для русских земель временем жестоких испытаний. Словно разверзлись небеса над православными пределами, изливая бедствия неслыханные. С востока пришли татарские орды под предводительством хана Батыя, прошедшие огнем и мечом по городам и селам. Рязань была сожжена дотла, Москва обращена в пепел, под Коломной в битве полегли русские князья. Дымные следы нашествия еще тлели по всей стране, когда с запада появилась новая угроза – тевтонские рыцари в железных доспехах, носившие кресты на плащах, но душой служившие дьяволу.
Русь оказалась между двух огней, словно овца среди голодных волков. Одни советовали мириться с ордынцами, платить дань, но обороняться от железных немцев. Другие кричали, что нужно бить проклятых латинян, а с татарами разбираться потом. В этой страшной смуте люди искали сильного защитника, мудрого воеводу, который указал бы путь из великой беды.
На берегах Плещеева озера, где чистые воды синели под широким небом, где зеленые камыши шелестели на ветру, а плакучие ивы опускали ветви в воду, кипела привычная работа. Озеро раскинулось широко, словно малое море посреди русской земли, и тихие волны плескались о песчаный берег, унося щепки и стружки от корабельных работ.
По всему берегу были разбросаны кучи бревен – дубовых, сосновых, березовых. Одни уже обтесаны острыми топорами, другие еще в коре, только что привезенные из леса. Мужики, больше двадцати человек, в холщовых рубахах до колен, подпоясанных веревками или кожаными ремешками, с закатанными до локтей рукавами, таскали эти бревна, подгоняли друг к другу, мерили, тесали.
На самом берегу, где вода была мелкой, стоял остов будущего корабля – деревянные ребра уже поставлены, киль положен, но бортов еще не было. Одни мужики носили тяжелые доски, сгибаясь под их весом, другие сверлили отверстия для железных гвоздей, третьи смолили щели паклей, чтобы не протекала вода. Работа шла споро, с песнями и прибаутками, хотя пот струился по загорелым лицам.
Рядом с верфью, в воде по пояс, стояли рыболовы, тянувшие тяжелый невод. Вода была прозрачной, и видно было, как в сетях билась серебристая рыба – зубастые щуки, полосатые окуни, широкие лещи, мелкая плотва. Рыбаки, взявшись за края невода, медленно тянули его к берегу, стараясь не спугнуть добычу.
– Не спеши, Федька! Рыба уйдет! – покрикивал кто-то из них. – Держи крепче, не отпускай!
На невысоком пригорке стояла смотровая изба, срубленная из сосновых бревен с тесовой крышей. У входа сидел на лавочке седобородый старец лет семидесяти, в заштопанной рубахе, подпоясанной кушаком. Лицо его избороздили глубокие морщины, узловатые руки лежали на коленях, а глаза, хоть и подернутые старческой дымкой, все еще зорко следили за работой. Это был Микула, старший над всеми работными людьми, человек опытный и мудрый.
Небо над озером то хмурилось серыми тучами, то вдруг проглядывало ясным солнцем, и тогда вся водная гладь загоралась золотом, а капли воды на веслах и сетях сверкали, как дорогие самоцветы. Озерный ветер то стихал совсем, то поднимался сильными порывами, рвал недошитые паруса, развевал русые бороды работников, гнал волны к берегу.
Мужики трудились с утра, и к полудню многие изрядно устали. Кто-то присел на бревно отдохнуть, кто-то пошел к ведру напиться воды. Несколько человек собрались в кружок и затянули протяжную песню:
– Эх, да по морю, морю синему,
По синему морю широкому плывет, плывет корабль…
Голоса сливались в печальный и красивый унисон, песня разносилась над озером, отдаваясь эхом от противоположного берега. Но не успели они допеть до конца, как вдали, за пригорком, послышались иные звуки – конский топот, звон сбруи, крики на чужом языке.
Сначала никто не обратил внимания – много ли кто по дорогам ездит. Но топот становился все громче, и вот уже над пригорком поднялась желтая пыль, а затем показались всадники. Впереди ехал воин на кауром коне, в кожаных доспехах с железными бляхами, в меховой шапке с соболиным хвостом. Лицо его было смуглым, скуластым, глаза узкие и хитрые, черные усы свисали по сторонам рта. У пояса висела кривая сабля в богато украшенных ножнах.
За ним тянулась длинная и печальная колонна. Ехали ордынские всадники, человек тридцать или больше, одетые в разные доспехи – кто в железные кольчуги, кто в кожаные куртки с нашитыми пластинами, кто в стеганые халаты. Шапки на головах были самые разные – меховые, войлочные, кожаные, но все непременно с завязками под подбородком. Кони под ними – степные, крепкие, привычные к дальним походам.
Но самое страшное было то, что тянулось за всадниками. Пешком, закованная в железа, шла толпа пленных – мужчины и женщины, старики и дети, юноши и девушки. Все они были в белых рубахах, по которым можно было угадать, что это русские люди. Руки связаны грубыми веревками, на ногах железные кандалы, которые звенели при каждом шаге. Лица пленных были бледными, истощенными, в глазах – отчаяние и безнадежность.
Ордынские пехотинцы, вооруженные копьями, саблями и кистенями, шли по бокам колонны и подгоняли отставших ударами древков или плетей. Кто-то из пленных споткнулся и упал – тотчас получал удар и принуждение встать. Женщины тихо плакали, дети жались к матерям, мужчины шли молча, стиснув зубы.
В середине колонны ехала повозка, запряженная быками, на которой стояла войлочная юрта – походное татарское жилище. Из-под полога выглядывало лицо ордынского чиновника в дорогих одеждах – шелковом кафтане с золотыми нашивками, соболиной шапке. Это был Хубилай, один из темников Батыя, человек жестокий и хитрый, посланный собирать дань с русских земель.
Увидев на берегу работающих людей, всадники остановились. Передний воин поднял руку, и вся колонна встала. Пыль, поднятая конями и ногами пеших, медленно оседала. Ветер с озера донес запах дыма от походных костров, конского пота и человеческого горя.
Работники на берегу тоже остановились, опустив топоры и инструменты. Все повернулись к неожиданным гостям, в глазах читалось беспокойство. Слишком хорошо знали они, что значит появление ордынцев – ничего хорошего это не сулило.
Передний всадник стукнул пятками коня и подъехал ближе к группе рыбаков, которые как раз тянули невод к берегу. Конь заржал и замотал головой, почуяв незнакомые запахи. Всадник грозно посмотрел на русских людей и гаркнул по-татарски что-то резкое и командное. Потом перешел на ломаный русский:
– На колена! Перед воинством ордынским головы склоните!
Рыбаки переглянулись между собой, но невод не отпустили. Один из них, молодой парень, крепкий, с еще редкой бородой, по имени Гаврила, сплюнул в сторону и буркнул:
– Сами на колени вставайте.
Но другие мужики, постарше и поопытнее, знали, что с ордынцами лучше не спорить. Они медленно опустили невод и нехотя встали на колени, понурив головы. Видели они, сколько сабель над их головами сверкает.
Всадник довольно хмыкнул, но тут заметил, что один из рыбаков, тот самый Гаврила, не только не встал на колени, но еще и выпрямился во весь рост, сжав кулаки. Лицо парня покраснело от гнева, глаза метали искры.
– А кого ищешь, батька? – выкрикнул он дерзко. – Чего к честным людям пристал?
Всадник рассвирепел. Он ударил коня стременами, подскакал к Гавриле и хлестнул его плетью по спине так сильно, что парень покачнулся и чуть не упал в воду. На рубахе осталась красная полоса.
– Молчать, пес! – закричал татарин. – Учись языком своим болтать с господами!
Тут уж не выдержали товарищи Гаврилы. Вскочили они все разом, схватились кто за топор, кто за багор, кто за рыбацкий нож. Старший из них, Тимофей, бородач с проседью, замахнулся топором:
– За что бьешь, поганец? Что за неправда такая?
– Сами напросились! – крикнул молодой Микита, поднимая весло. – Не дадимся!
Завязалась потасовка. Мужики толкались с ордынскими воинами, которые соскочили с коней и обнажили сабли. Кричали, ругались, размахивали оружием. Пока что без кровопролития – больше угрожали, чем дрались, но было видно, что еще немного, и дело дойдет до настоящей драки.
В это время в озере, поодаль от суеты, стоял еще один человек. Он был выше и крепче остальных, с широкими плечами и могучим станом. Русые волосы падали ему на плечи, густая борода спускалась до груди. Одет он был в белую рубаху с вышивкой по вороту и рукавам – славянскими узорами, какие искусные мастерицы вышивали своим мужьям. Рубаха была закатана до колен, и видны были крепкие ноги, привычные к ходьбе и стоянию в холодной воде.
Этот человек стоял в воде по пояс, широко расставив ноги, и держал руки на бедрах. Лицо его было спокойным, но в глазах светился острый ум и твердая воля. Он смотрел на потасовку, но не спешил вмешиваться, словно размышлял о чем-то важном.
Услышав крики и шум, он повернул голову и окинул взглядом происходящее. Потом вдруг громко, на весь берег, крикнул:
– Чего орете, черти? Рыбу всю распугаете!
Голос у него был мощный, привычный к команде, и все – и свои, и чужие – невольно обернулись. Ордынский начальник поднял руку, подавая знак своим воинам, и те отступили на шаг, хотя сабли не убрали в ножны.
Человек из воды неторопливо направился к берегу. Шел он медленно, степенно, не выказывая ни страха, ни спешки. Вода стекала с его тела, рубаха прилипла к телу, но он этого словно не замечал. Выйдя на берег, он подошел к своим людям.
– Не лезьте в драку! – приказал он строго, и в голосе звучала привычка повелевать. – Отойдите.
Мужики послушались, опустили топоры и весла, отступили в сторону. Было видно, что этого человека они уважают и слушаются беспрекословно.
Потом он прошел мимо своих людей, мимо рыбацких сетей и лодок, и направился прямо к ордынскому начальнику. Тот сидел на коне, высокомерно поглядывая сверху вниз, но, когда русский приблизился, в глазах татарина мелькнуло что-то похожее на настороженность.
Русский остановился рядом с конем, протянул руку и положил ее на рукоять сабли всадника. Сделал он это спокойно, без угрозы, но с достоинством. Посмотрел всаднику прямо в глаза и сказал негромко, но четко:
– В дом входя, хозяев не бьют. Такой обычай на Руси.
Из юрты на повозке высунулся ордынский чиновник. Лицо его было умным и хитрым, глаза быстрые, все подмечающие. Он внимательно посмотрел на русского, оценивающе, как торговец оценивает товар.
Всадник на коне повернулся к пришельцу всем корпусом и спросил с любопытством:
– Кто будешь, русич? По виду не простой мужик.
Русский выпрямился еще больше, расправил плечи и ответил с гордостью:
– Я князь здешний – Александр.
– Невский! – басом прогудел чиновник из юрты, и в голосе послышалось узнавание. – Ах, это ты… Согласен, это меняет дело.
Ветер над озером вдруг усилился, словно сами небеса откликнулись на встречу этих двух людей. Он рвал одежды, трепал ордынские знамена с изображением волка, развевал русые бороды и конские гривы. Волны на озере поднялись выше, и слышался их плеск о берег.
Чиновник медленно вылез из юрты. Это был человек средних лет, не высокий, но плотный и крепкий. Одежды на нем были богатые – шелковый кафтан с золотым шитьем, широкие шаровары, мягкие сапоги из тонкой кожи. На голове соболья шапка, на руках золотые перстни. Двигался он неторопливо, с достоинством, привычный к почету и повиновению.
Подошел он к Александру, проходя между рядами своих воинов, которые почтительно расступались перед ним. Остановился в двух шагах от князя и, поглаживая бороду, изучающе глядел на русского.
– Ты шведов бил на Неве? – спросил он, и, хотя говорил по-русски с сильным акцентом, речь его была правильной.
Александр развернулся к нему лицом, встал в привычную позу – ноги на ширине плеч, руки на бедрах – и ответил твердо:
– Бил я их. Наголову разбил, и воевода их, Биргер, еле ноги унес.
– Слышал, слышал, – кивнул чиновник. – Добрая слава о том бое до Каракорума дошла. А здесь что делаешь? Почему не в Новгороде сидишь, не княжишь?
– Рыбу ловлю, – просто ответил Александр. – Корабли строю.
Стояли они теперь друг против друга – представители двух миров, двух судеб. Ордынский чиновник в шелках и соболях, привыкший к роскоши и власти, и русский князь в простой рубахе, опоясанной веревкой, похожий на своих мужиков, но отличающийся от них гордой осанкой и властным взглядом.
– Другой работы нет? – спросил татарин с усмешкой. – Князь, а рыбу ловишь, как простой мужик.
– А чем эта работа плоха? – строго ответил Александр. – Корабли построим, за море торговать поедем, богатство в землю русскую привезем. Верно говорю, братцы?
И обернулся он к своим людям. Те, видя, что князь их не унижается перед захватчиками, воспрянули духом и дружно закивали головами:
– Верно, князь! – Правду говоришь! – Корабли – дело нужное!
Чиновник поднял руку, и его воины отступили еще дальше. Русские мужики тоже отошли в сторону, и между двумя предводителями образовалось свободное пространство.
Ордынский темник подошел вплотную к Александру. Был он головой ниже князя, но держался с достоинством человека, привыкшего повелевать. Взглянул он в глаза Невскому – упрямо, испытующе, но и с уважением. Александр взгляда не отводил, стоял твердо, как скала, но враждебности в лице его не было – только готовность защищаться, если потребуется.
– В Орду поезжай, Александр, – сказал чиновник негромко, но веско. – Хан Батый воинов умных ценит. Большим начальником будешь, города править станешь. Как друг тебе говорю – таким воеводам, как ты, у нас почет великий. Богатство, власть, слава – все будет.
Александр слушал внимательно, но лицо его оставалось непроницаемым. Когда чиновник замолчал, князь тоже помолчал, будто взвешивая предложение. Потом медленно сказал:
– Есть у нас на Руси поговорка древняя: с родной земли умри, но не сходи.
И сложил руки на груди крестом, показывая, что разговор для него окончен.
Шелковые одежды татарина развевались на озерном ветру, но лица он не изменил. Не был он огорчен отказом – видно, ожидал такого ответа. Продолжал улыбаться, человек уверенный в своей силе и в войске своем. Сложил руки на животе, постоял рядом с Невским, словно еще что-то обдумывая, потом повернулся и пошел к своим воинам.
– Твое дело, – сказал он через плечо. – Но подумай еще. Время есть – пока ханская воля окончательная не пришла.
Колонна снова пришла в движение. Ордынские воины сели на коней, пехотинцы взялись за веревки, которыми были связаны пленные. Чиновник забрался в свою юрту, один из слуг подставил спину, чтобы господину было удобнее. Повозка заскрипела, заржали кони, и вся печальная процессия двинулась дальше по дороге.
В колонне были люди всех возрастов – седые старики, которые еле передвигали ноги, молодые мужчины, еще не сломленные неволей, женщины с детьми на руках, девушки с заплаканными лицами. Все они были одеты в белые рубахи, по которым можно было угадать их русское происхождение. Кто-то шел молча, стиснув зубы, кто-то тихо плакал, дети жались к родителям.