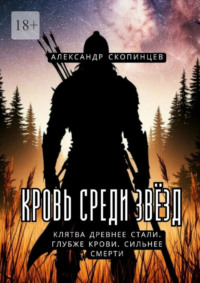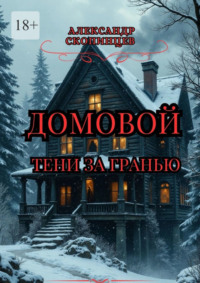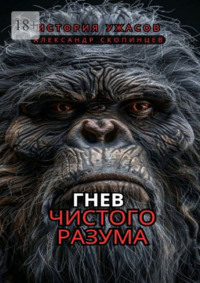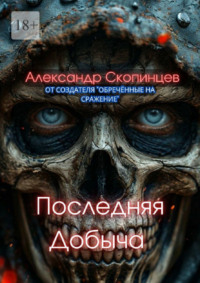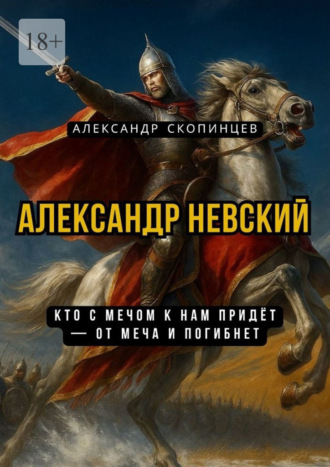
Полная версия
Александр Невский. Кто с мечом к нам придёт – от меча и погибнет
Ордынские пехотинцы, вооруженные копьями с железными наконечниками, саблями в ножнах и кистенями на поясах, шли по бокам колонны и внимательно следили за пленными. Если кто-то отставал или спотыкался, тотчас получал удар древком копья или плетью. Жалости в глазах стражей не было – для них это была обычная работа.
Маленькие степные жеребята бежали рядом с большими конями, иногда отбиваясь в сторону, но потом возвращаясь к табуну. Пыль поднималась из-под копыт и ног, ветер разносил ее по берегу озера.
Александр с мужиками стояли на берегу, крепко сжимая в руках топоры и багры, и долго смотрели вслед уходящей колонне. В глазах князя читалась боль – ведь это были его люди, русские, которых где-то на других землях взяли в плен и теперь везли в дальнее рабство, в степи, откуда мало кто возвращался.
Когда колонна скрылась за пригорком и стих конский топот, старец Микула, который все это время молча наблюдал с крыльца смотровой избы, медленно спустился вниз и подошел к князю. Лицо его было изборождено морщинами, руки дрожали от старости, но глаза еще горели ясным умом.
– Тяжелый народ, сильный, – сказал он, поглаживая седую бороду, что спускалась до пояса. – Трудненько будет бить их. Войско у них большое, кони быстрые, стрелы меткие.
– А есть охота? – спросил Александр, не отрывая глаз от дороги, по которой ушли ордынцы.
Старик положил ему узловатую руку на плечо и заговорил мудро, как говорят люди, прожившие долгую жизнь и многое повидавшие:
– С ордынцем пока болтать можно, Александр Ярославич. Подождать можно. Они хоть и поганые, а дань берут и уходят.
– А вот опаснее татарина враг есть – ближе к нам, злее. От него ни выкупом не откупишься, ни данью не отделаешься. Немец то есть. – кивнул Александр. – Немец веру нашу корнем вырвать хочет, души в латинство обратить.
– Вот именно! – горячо подхватил старик. – Его разбивши, и за татар можно взяться. А так – двух зайцев гнать, ни одного не поймать.
– Ну так с кого же начинать? – спросил князь, и в голосе его слышалась готовность к решению.
– Немцы так немцы, – решительно похлопал дед Александра по плечу. – А нам драться невтерпеж. Дальше терпеть уже некуда – народ измучился, земля горит.
– Без Новгорода немцев не одолеть – Новгород брать надо. Последняя вольная Русь там, последняя сила.
– И правда, – согласился дед. – В Новгороде дружина хорошая, казна есть, стены крепкие.
Облака по синему небу все продолжали плыть, то открывая яркое солнце, то закрывая его, и их тени бежали по земле, по водной глади озера, по лицам людей. Озерный ветер не утихал, гнал волны к берегу, где они разбивались с тихим плеском.
Александр еще постоял, глядя на дорогу, по которой ушли захватчики, потом вдруг спохватился:
– А рыба-то уходит! Эй, братцы, за дело!
И побежали мужики к воде, подняв высокие брызги. Присоединились они к тем, кто еще стоял в озере с сетями, и снова закипела работа. Тянули неводы, вытаскивали рыбу, чинили порванные места в сетях. Но песни уже не звучали так весело, как прежде. Каждый думал о своем – о доме, о пленных, о том, что будет завтра.
2 глава: Господин Великий Новгород
Над Господином Великим Новгородом плыл густой, медный колокольный звон – ровный, как дыхание самого времени, и мощный, словно голос древнего колокола Перуна. Он стекал с позолоченных крестов Софийского собора, разносился по каменным башням Детинца, отдавался в скатах черепичных кровель и в изгибах деревянных хором, стелился по мощёным улицам, как благословение. День стоял ясный, наполненный южным теплом и свежестью молодой травы. Солнце играло в зелени берёз и поблёскивало на влажной глине речных берегов. И жил древний град, как жил веками – размеренно, торжественно, насыщенно: торгами, ремёслами, заботами, радостями и тревогами простого, но вольного новгородского люда.
Толпы двигались непрестанно – вдоль широких площадей, по крепким дубовым мостам, переброшенным через бурные весенние ручьи и протоки. Звенели кольчуги дружинников, что шли с высоко поднятыми головами – в блеске железа, напоминавшего чешую речных зверей. Степенно шествовали купцы в тяжёлых кафтанах из сукна, с меховой оторочкой, в соболиных шапках, украшенных янтарными застёжками и позолоченными пряжками. Простые смерды в льняных рубахах и лаптях сновали между телег, неся на плечах корзины с рыбой, медом, пенькой. Всё это струилось и сливалось в пестрый, звенящий людской поток, словно сама река жизни текла меж древних стен.
Но выше всех и весомее всех была Иванова Сотня, старинное купеческое братство, которое держало под своим покровом лучших торговцев воском, мёдом и хлебом. Их деревянные лавки, богато украшенные резьбой и обиты медью, стояли ближе к Опокам, у церкви святого Иоанна Предтечи, чья высокая глава вздымалась над рынком, будто молитва над суетой.
Ивановское сто возникло не вчера – их устав был дан ещё самим князем Всеволодом Мстиславичем, и с тех пор члены сотни пользовались особыми привилегиями: могли торговать без мыта, имели своих судей, и даже слово их на вече звучало тяжелей, чем у иных бояр. Их узнавали сразу – по высоким шапкам из барса, по тяжёлым перстням на пальцах, по серьгам в ухе, что были не прихотью, а знаком купеческой чести. Они говорили негромко, но каждое слово весило, как пуд воска.
Среди них были и те, кто владел целыми артелями пчельников в псковских и тверских лесах. Их воск – чистый, белый, как утренний иней, и душистый, с запахом лугового меда – шел не только в новгородские храмы и княжеские палаты, но и за море: в Любек, Ригу, Сигтуну. За него давали серебро, шелка, красную ткань, иноземные ножи и стеклянные бусы, что потом украшали локоны новгородских невест.
Их суда – ладьи и струги с драконьими головами – стояли у смоляных причалов, покачиваясь на реке, как звери на привязи. На их бортах были выжжены имена владельцев, а в трюмах – поклажи, обвязанные восковыми печатями. Молодые купцы Ивановой сотни обучались с малолетства – сперва при лавке, потом в дороге, а к двадцати годам уже могли вести собственную партию товара на юг, к Полоцку или даже к Днепровскому порогу.
И вот сегодня, как и сто, и двести лет назад, Новгород жил: звенел, дышал, двигался. Звон колоколов сливался с криками торговцев, с гулом людской речи, с плеском воды под борта ладей. На этом торгу заключались сделки, вручались невесты, звучали присяги и строились мечты. Город хранил в себе и древнюю силу, и неиссякаемую живую энергию – и в её сердце билось имя, данное с уважением и любовью: Иванова Сотня.
Повсюду слышались детские голоса – малые ребятишки с визгом и беззаботным смехом носились между взрослыми, играя в войну деревянными мечами и самодельными щитами, а где-то вдалеке доносились мерные удары кузнечных молотов да протяжный скрип тяжело нагруженных телег, везущих всякий товар из дальних весей.
Праздничная атмосфера витала в весеннем воздухе, словно благословение самого небесного свода. Взрослые мужики, проходя по улицам по своим делам торговым и ремесленным, не могли не засматриваться на красивых девушек и молодых замужних жен, что степенно и с достоинством шествовали по городским стезям в своих лучших праздничных нарядах.
Женщины были одеты по всей новгородской красе: в длинные цветные сарафаны из добротного сукна – синего, зеленого, багряного, – что надевались поверх белоснежных холщовых рубах с искусно вышитыми золотыми нитками воротами и манжетами. Головы их покрывали узорчатые шелковые платки или высокие кокошники с жемчужными поднизями и серебряными бляшками, что переливались на солнце. Девицы на выданье носили свои русые и темные волосы в две тугие косы, перевитые цветными лентами и украшенные металлическими подвесками, а замужние женщины благочестиво прятали свои локоны под белые льняные убрусы.
У самого дальнего причала, возле целой горы мешков с отборным зерном и связок сушеной рыбы, стояла особенно приметная девушка в богатом наряде. Ольга Даниловна была хороша собой – высокая и стройная, с ясными серыми глазами и двумя тяжелыми медными косами, что спускались ей на плечи из-под узорчатого шелкового платка. Сарафан её был сшит из дорогого заморского сукна темно-синего цвета, подпоясанный широким шелковым поясом с серебряными бляхами, а на ногах красовались сафьяновые сапожки красной кожи с загнутыми носами. Рядом с ней толпились её подруги – тоже нарядно одетые боярские и купеческие дочери, и все они что-то оживленно обсуждали, то и дело поглядывая на проходящих мимо молодых мужчин и посмеиваясь.
Двое молодых новгородцев – один с окладистой темной бородой, другой еще безбородый – уже добрую половину утра не сводили с красавицы глаз. Делая вид, что их живо интересуют разнообразные товары на торжище, они неприметно следовали за девушкой и её веселыми спутницами, переходя от одной торговой палатки к другой, притворяясь, что выбирают себе что-то нужное.
Кругом кипела бурная торговая жизнь города. Нескончаемой вереницей шли прохожие, неся в руках плетеные корзины со свежим хлебом и вяленой рыбой, на плечах тащили тяжелые мешки с мукой, солью и пшеном, а скрипучие деревянные волокуши, запряженные выносливыми низкорослыми лошадьми, медленно ползли под непомерной тяжестью самого разнообразного груза – от дубовых бочек с душистым медом и березовым дегтем до тюков с дорогой пушниной: соболями, куницами, горностаями.
Городской гул и гам стоял неумолкаемый с раннего утра и до поздней ночи: где-то раздавались раскатистые мужские голоса и звонкий женский смех, где-то азартно препирались торговцы с придирчивыми покупателями, кто-то бранился и толкался, пробираясь сквозь плотную толпу к своему делу. Постоянно слышались зазывные крики уличных разносчиков, нахваливающих свой товар на все лады, звонкое ржание коней и заливистый лай бродячих собак, что вертелись под ногами в надежде поживиться объедками.
Ближе к самому центру города, на главной торговой площади перед белокаменным собором, плотными рядами стояли добротные деревянные палатки и просторные лавки именитых купцов, доверху заваленные всевозможными товарами. Здесь шла торговля цветными сукнами и дорогими мехами, острым оружием и женскими украшениями, заморской утварью и искусными изделиями местных ремесленников. Между торговыми рядами степенно прохаживались седобородые старые купцы в дорогих одеждах, опытным оценивающим взглядом поглядывая то на выставленный товар, то на снующих покупателей.
Ольга Даниловна неспешно подошла к обширной палатке, торгующей тканями, где за широкими деревянными прилавками стоял дородный бородатый купец в высокой меховой шапке и ярко-красном праздничном кафтане. Он разложил на своих прилавках самые дорогие заморские сукна – фландрские, немецкие, византийские. Двое её неотступных преследователей тут же оказались рядом, делая вид, что им срочно понадобилось что-то купить.
Это были Гаврила Олексич, сын боярский из знатного новгородского рода, парень крепкого сложения, широкоплечий и статный, с умными карими глазами под густыми бровями и аккуратной окладистой бородой каштанового цвета. На нем был добротный синий кафтан с серебряными пуговицами и высокие сапоги из мягкой кожи. Рядом с ним, переминаясь с ноги на ногу, стоял его закадычный товарищ Василий Буслаев – еще безбородый, но уже под тридцать, веселый и лихой малый с озорными зелеными глазами и русыми кудрями. Одет он был проще – в серый суконный кафтан и простые кожаные сапоги.
К ним сразу же подошел еще один человек – пожилой мужик средних лет в поношенной, но чистой одежде ремесленника, с хитроватыми глазками и ловкими руками. Он начал увертливо кружить вокруг молодцев, настойчиво предлагая им свой товар:
– Кольчуги новые, господа добрые, витые! Шлемы боевые! Мечи булатные! Всё из-за границы везенное – индийская сталь самая лучшая, татарская работа искусная, китайские украшения дивные! Игнат-мастер народ честный, не обманет, всё по совести!
Василий весело рассмеялся, показав белые зубы, а Гаврила Олексич неторопливо повернулся к назойливому кольчужному мастеру и сказал с лукавой усмешкой:
– Не бойсь, Игнат-мастер! Сам своими руками делаешь да бьешь ночами напролет, а нам продаешь, словно из-за далеких морей везенное.
– Теперь вольные птицы своим клювом добычу достают!
Между тем оба приятеля неотрывно смотрели на Ольгу Данилову, которая со знанием дела перебирала разноцветные ткани на прилавке, выбирая себе материю для нового платья. Её движения были грациозны и неторопливы, а лицо сосредоточенно.
Василий вдруг заметно погрустнел и задумчиво сказал:
– Отвоевались, братцы… По-другому теперь думать нужно, по-мирному.
Кольчужный мастер Игнат, уловив перемену в настроении молодца, лукаво подмигнул и в шутку заметил:
– Бычки бунтуют, весну чуют! Женихи засиделись!
– Отвоевались, правда… – Василий почесал затылок и повторил с тяжелым вздохом. – Теперь и о себе подумать самая пора пришла.
Гаврила Олексич хитро прищурился и не преминул подколоть товарища:
– А что это, Василий Буслаев призадумался так? Не женитьба ли на уме? Не красна ли девица сердце тревожит?
Игнат-мастер тут же подхватил:
– А я уж слышал от добрых людей – Васька жениться задумал! Козёл через высокий тын поглядывает!
– Эх, замаялся я, братцы, – признался Василий, которого явно пристыдили такие открытые намеки на его симпатии к девушке. – Надоело мне это всё – поножовщина разная, драки пустые.
Он взял один из выставленных на продажу боевых топоров с прилавка Игната и задумчиво потрогал острое лезвие пальцем.
– День дерусь не покладая рук, а два следующих в тоске лежу на печи. Хотел бы на широкую Волгу податься, с лихими людьми поиграть топоришком по-настоящему! – более весело и бодро закончил он, лихо махая тяжелым боевым топором над головой.
Он даже сделал вид, будто бреется этим топором, проводя лезвием около щеки, но потом опять заметно погрустнел, украдкой поглядывая на прекрасную Ольгу.
Гаврила, видя смущение друга, решил подколоть его еще больше:
– А что это, Василий-братец, не в монахи ли собрался? Может, в монастырь подаваться хочешь от мирских соблазнов?
– Сердешный наш Василий! – подхватил Игнат, хлопая себя по коленям от смеха. – А вот не выйдет ничего, по моему разумению! Смешно сказать, – смеётся Игнат, – сам без сапог, а мечтает, как её в кивоте к венцу поведёт! Уж не вилами ли путь расчищать думает?
Оба насмешника – и Гаврила, и Игнат – громко засмеялись, дружески хлопая друг друга по плечам и подмигивая окружающим. Василий от их подначек стал еще грустнее и растерянней.
Между тем Ольга Даниловна, закончив свои дела у торговца тканями, стала неспешно удаляться. Гаврила, заметив это, поспешно оставил своих приятелей и догнал красавицу.
– Ольга Даниловна! – почтительно обратился он к ней, слегка поклонившись.
Она остановилась как вкопанная и подняла на него свои ясные серые глаза. Вблизи стало еще заметнее, какая это была писаная красавица – с правильными чертами лица, нежной кожей и длинными темными ресницами.
Тут подоспел и запыхавшийся Василий.
– Прикажи, красавица, сватов к твоему батюшке засылать! – торжественно произнес Гаврила, вытянувшись по струнке как настоящий дружинник.
В это самое время подскочил разгоряченный Василий:
– Коли уж засылать сватов, так от меня! – громко и решительно объявил он, гордо выпятив широкую грудь и задрав подбородок.
– Пусть сама знак подаст, кого выбирает, – более сдержанно и хмуро сказал Гаврила, бросив косой взгляд на соперника.
Ольга Даниловна в замешательстве переводила взгляд с одного молодца на другого, явно не ожидая такого внезапного и прямого объяснения.
– Пусть её доброе сердце само выберет достойного, – повернулся Гаврила к девушке с галантным поклоном. – Ольга Даниловна, дай знак – кому из нас двоих сватов к родителю засылать?
– Простите меня, добрые люди, – потупившись, извинилась девушка и попыталась пройти мимо них, скромно опустив глаза долу. – Не ведаю я, кому свататься… Простите великодушно, не знаю, о чём речь ведете.
И она попыталась пройти мимо, но молодцы преградили ей дорогу.
– Ну как же не знаешь, красавица? – искренне возмутился Василий. – Чего вола за хвост тянуть понапрасну? Говори прямо, за кого замуж пойдешь! Выбирай любого по сердцу! Хочешь высокого да веселого? – Он указал на себя. – Или выберешь степенного да скучней? – Он кивнул в сторону Гаврилы. – Поклонись тогда Гавриле-то, – более грустно и обиженно закончил Василий.
– Хочешь битой быть и мужа слушаться? – как бы в шутку, но довольно грозно прорычал Гаврила, театрально поклонившись сопернику.
– Хочешь хозяйкой в доме быть и детишек растить? Я тебе буду верный муж! – более мягко и почти на ухо прошептал Гаврила девушке.
Но она, так и не оборачиваясь к говорящим, тихо произнесла:
– Не знаю, что и сказать вам, добры молодцы.
Потом оглянулась через плечо и добавила с легкой, едва заметной улыбкой:
– Оба вы хороши и статны. Дайте срок подумать.
И более чувственно, с легким придыханием, как бы невольно играя с чувствами обоих настойчивых женихов, повторила Ольга Даниловна:
– Дайте срок… время всему есть…
И тут внезапно зазвенели колокола – не радостно и торжественно, как утром, а тревожно и грозно. Все люди на площади разом обернулись в сторону, откуда несется набатный звон, и, бросив свои дела, устремились туда бегом. На улицах все прохожие, забыв о торговле и ремеслах, помчались к центру города, пробегая мимо золотых церковных куполов и белокаменных боярских хором.
Прибежав на соборную площадь, сбежавшиеся люди увидели страшную картину: несколько человек несли на руках тяжело раненого воина, всего замотанного в кровавые тряпицы, а высоко в колокольне звонари неистово били в большой медный колокол.
Медные колокола Святой Софии Премудрости Божией разлились по всему Великому Новгороду тревожным, надрывным звоном, что прокатывался волнами по заснеженным кровлям теремов и избушек. Не радостно и торжественно, как в дни праздничные великие, когда весь христолюбивый люд собирается на молитву, а горестно и призывно били они, созывая народ на вече грозное. Звук медного литья дрожал в морозном воздухе февральском, отражался от белокаменных стен храмов намоленных и деревянных срубов, почерневших от времени, катился по узким улицам кривым.
На торговую площадь широкую, что раскинулась меж рядами купеческими и лавками ремесленными, стекался люд всякий – посадские бородатые в тулупах овчинных, ремесленники в передниках кожаных, купцы в шубах соболиных, бояре в мантиях горностаевых, смерды и холопы в зипунах серых. Шли они поспешно, с тревогою великою на лицах обветренных, ибо весть уже прошла по городу, словно пожар по соломе сухой: Псков пал под немецкою силою проклятою, и враг движется к стенам Новгородским крепким.
Женщины семенили в платках цветастых, придерживая подолы, чтобы не замарать о дорогу. Старцы седобородые ковыляли, опираясь на посохи резные. Молодые парни спешили, расталкивая плечами прохожих. Дети льнули к матерям, чувствуя недоброе. Даже собаки дворовые поджимали хвосты и скулили тихонько, словно предчувствуя беду великую.
Посреди площади торговой, у самого подножия колокольни каменной, стоял человек, весь обмотанный тряпицами кровавыми и грязными. Стоял он, пошатываясь, как береза на ветру, и каждое движение давалось ему с мукою великою. Левый глаз его был заплыв и закрыт повязкой из холста, что покраснела от запекшейся крови. Правая рука висела плетью безжизненною, обвязанная бинтами, сквозь которые проступали пятна алые. Лицо, искаженное болью нестерпимою, хранило следы жестокой сечи – рубцы свежие, ссадины, синяки багровые. Это был псковский воин, который один из немногих избежал смерти лютой и добрался до Новгорода, чтобы поведать правду о беде великой.
Народ обступал его плотным кольцом, словно стена живая. Впереди стояли мужики крепкие – кузнецы с руками в мозолях, плотники с топорами за поясом, рыбаки, пахнущие озерною тиною. За ними толпились женщины всякого звания – от боярынь в дорогих шубах до простых баб в полушубках заношенных. Старики кряхтели и перешёптывались, качая головами седыми. Молодёжь тянула шеи, стараясь рассмотреть получше пострадавшего.
В наступившей тишине, что давила на уши, словно перед грозою страшною, слышно было лишь тяжелое дыхание раненого, что вырывалось из груди хрипом болезненным, да скрип снега под ногами сотен людских, да далёкий звон колоколов, что всё призывал и призывал.
Пскович с великим трудом поднял здоровую руку, и пальцы его дрожали, как листья осенние на ветру. Горло его перехватило, дыхание сбилось, но он заставил себя говорить. Голос его, хриплый от ран и усталости, надорванный от горя, разнесся по площади, и каждое слово падало в тишину, как камень в воду:
– Словене-новгородцы! Отцы и матери, сыны и дочери! Немец поганый Псков взял, и на вас идёт ратью великою! Ратных людей всех перебил, что мечи против супостатов подняли. Кого с оружием поймали – секли по мечу железному, кого с хлебом насущным – за хлеб брали и мучили. Матерей родных да жен верных истерзали за сынов их да мужей…
Голос его сорвался, и он закашлялся, выплёвывая кровь на снег белый. Женщины в толпе заахали, мужчины угрюмо нахмурились. Кто-то из задних рядов крикнул: «Говори дальше, служивый!»
Воин перевёл дух и продолжал, уже почти шёпотом, но слова его долетали до каждого уха:
– Кто вскрикнул от боли – секли за крик, кто смолчал, терпя муку – за молчание казнили. Нет пощады ни старому, ни малому. Немецким воеводам, проклятым всю Русь, расписывают!
Слова его падали на толпу, как искры на солому сухую. Сначала прокатился ропот тихий, потом он стал громче, и вот уже вся площадь загудела, словно растревоженный улей. Женщины заголосили, покрывая головы платками и раскачиваясь в горе. Мужчины сжали кулаки большие, и жилы на шеях их набухли от гнева. Молодые парни ругались сквозь зубы, старики качали головами и крестились.
– Вот оно что! – выкрикнул из толпы рыбак с седою бородищею. – Вот она, правда-то горькая!
– И до нас доберутся, гады немецкие! – вторила ему баба дородная, тряся кулаком в воздухе.
Раненый качнулся, едва держась на ногах, и две молодые женщины поспешили подхватить его под руки. Но он отмахнулся здоровою рукою и продолжал говорить, сквозь боль и слабость выдавливая из себя каждое слово, каждый звук:
– Кому теперь Псков, кому Новгород? Все земли русские расписывают немцы окаянные по своим баронам да воеводам басурманским! Не стало Пскова вольного – не будет и Новгорода Великого!
Тут из толпы, раздвинув плечами стоящих впереди, выбежала девушка – Ольга Даниловна. Лицо её, обычно спокойное и приветливое, теперь горело праведным гневом, а глаза метали искры. Она подхватила падающего воина под руки и воскликнула на всю площадь:
– Слышите, люди добрые? Слышите, чем нам немцы грозят?
В этот самый миг на стене крепостной, что возвышалась над площадью каменною твердынею, появились трое мужей в дорогих одеждах. То были знатные бояре новгородские, что правили городом и торговлею заморскою ведали. На старшем из них была мантия из сукна багряного, подбитая мехом соболиным, на шее – цепь золотая тяжёлая, на пальцах – перстни с каменьями дорогими. Двое других были одеты не менее богато – в шубах беличьих да лисьих, с поясами серебряными, на которых висели ножи в ножнах резных да кошели кожаные, туго набитые.
Главный из них, человек средних лет с бородою ухоженною и лицом сытым, поднял руку в перчатке дорогой, призывая к тишине. Посадник Ян Власьев. Голосом спокойным, почти насмешливым, полным презрения к простому люду, он произнес:
– Погоди, служивый! Чего зря шум подымаешь? Чего людей добрых морочишь страхами пустыми? С немцами у нас мир крепкий записан, грамоты подписаны!
Толпа притихла на мгновение, словно ушатом холодной воды окатили. Но молчание это было грозное, как перед бурею. Лица людские потемнели, брови сдвинулись, и в глазах заплясали огоньки гнева.
Другой боярин, что стоял по правую руку от главного – человек тучный, с брюхом круглым и щеками отвислыми, – махнул рукою в рукавице расшитой и закричал голосом довольным и беспечным:
– Да мало ли что Псков взяли? Дело житейское! Авось выйдет – откупимся от немцев добром! У нас товару девать некуда, Новгород богат несметно! Все причалы завалены товаром заморским, все лари забиты серебром да золотом!
Третий боярин, молодой ещё, но уже с брюшком наеденным, добавил, смеясь противно:
– И что нам до Пскова? Каждый за себя стоит, каждый свою выгоду блюдёт!
Ольга Даниловна, всё ещё поддерживавшая раненого, вскинула голову, и косы русые её выбились из-под платка. Глаза её сверкнули, как молния в грозовой туче, и она закричала так, что голос её перекрыл весь шум:
– Русскую землю на товар меняешь, окаянный?! За серебро родину продаёшь?!
Со стены раздался смех противный и пошлый. Главный боярин наклонился над стеною и насмешливо проговорил: