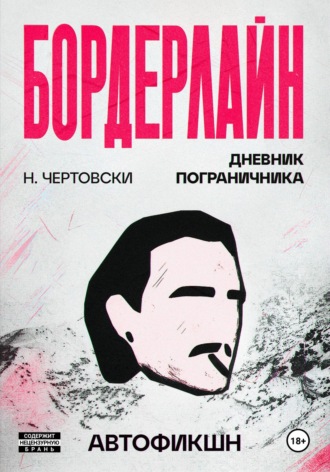
Полная версия
Бордерлайн
– Мечты, в которых ты живой, – если бы это сказали все мои новоприобретённые близкие по дурке, я бы вкусил и распробовал, каково улыбаться от радости.
Я бы отвлёкся от бесконечного цикла, запертого в полупустых коридорах и пасмурных палатах. Я бы отвлёкся от «шума», на который ссылался обычно Монах. Я бы простил своё безумие и отказался его вкусить, разорвав зубами – разорвав часть себя. Но не могу. А жить я боюсь больше всего на свете. Боюсь, потому что потом сойду с ума из-за кредитов, будто я – одной крови с Рэтчед. Боюсь, потому что моя утерянная любовь закончится не сказочным домом на берегу, а как у Серёги – одним сплошным разрушением, которым я и без того насыщен отродясь. Боюсь, что моя дружба будет мимолётна, как у Серёжи с тем самым Серёгой, которые после несчастного периода в отделении вряд ли встретятся на воле снова. Боюсь, что, будучи прокажённым, буду утаивать это от любимого человека, а потом наслаждаться каждой нотой его запаха во время мимолётных встреч, в ожидании дня пограничника – в ожидании, когда смогу прожить тот же самый путь вновь, но предварительно запомнив все ошибки, чтобы переиграть; но жизнь тщетна, как вскакивающая на ногу собака-кастрат. Боюсь, что моё творчество станет моим «торчеством», как у ребят из уральской диаспоры.
Но, – главное, – я боюсь себя. Боюсь жить. День пограничника подходит к концу, а ветерок всё тот же, что и с утра. Парни крошат вафли через полторы стенки за форточку, подзывая голубей. Моя одинокая кушетка ждёт в свои холодные объятия, чтобы я пал в них, и попытался вернуться в сон. Но я тоже не могу – я должен выйти отсюда.
– Сон, где меня ждёт снова мой лазурный берег, на котором стоит она, – я бормочу себе в нос, – буду жить, – независимо от этого бесконечного круговорота пограничных дней, – мне надо было стараться сделать всё, чтобы ни один из них не стал моим целенаправленно последним.
Дней, в которых я вступаю не омытыми стопами на запыленный табурет или обрыв над чернейшей пучиной. Сначала я постараюсь сделать это во сне, – пока голуби воркуют недалеко от моей головы над крошками вафель, – а ветер раздувает волосы; постараюсь выйти в сон. Я вскрываю мусорный пакет из общей палаты, отобранный у «торгаша» за остатки моих белорусских папирос – мой финальный бартер; если зачинать жизнь, то без вредных привычек и обрадовав наконец дядьку… доказать, что я не слаб. На дне кулька валялись сплетением местных судеб – свидетелем жизней которых мне выпало быть, но затеряв меж началом и концом собственное «я» в этой летописи закольцованных дней, недель или даже лет – затёртые струны от гитары Папаши Шивы, что тот заменил на новые, звонкие и заводские; их тому принесла дочь ранее днём. Дочь, что может быть и у меня, рыскающая в беготне по пляжу корни своего древа; ибо наши сны – это лишь касательная того мира, что выпал другим «нам», о чём я понял благодаря Монаху.
И если выходить, так с песней.
Я единственный, кто приглядывал за этим местом, но после меня обязательно будут другие – все мы на самом деле чуть больше, чем пациенты.
Кто бы что не говорил.
– Лазурный берег, я иду к тебе… а после – надеюсь, что больше ни в какой очередной день пограничника, – я заверяю себя, как на преклонении пред молитвой.
В коридорах тишина. За окнами стихает всё живое и сущее.
Я обматываю турник струной – как мой дядька обматывал нитью фрукты у себя в кладовой, уча меня гнать лимонку – и вяжу узел, смиренно превращая ушами ноты и переборы в морской шум, дожидающийся меня где-то там. Передо мной навис слегка подёргивающийся плакат с распечаткой пейзажа и напутствием, прошёптанным мной же легонько вслух:
– Сказать жизни да.
Струна произвела пронзительный, проникающий в тело тонюсенький аккорд – я совершаю выход в сон, выход в море, отпустив опору в коленях и затянувшись покрепче сожжёнными ладонями за позолоченную нить вокруг шеи.
Мой завершающий трюк безукоризнен; не надо меня спасать от смерти – ведь надо было спасать от жизни.
Где-то плещется море. Кричат санитары.
***
Голуби летят мимо окон больницы.
ФИАЛКИ ДЛЯ ПОЛЕМИКИ
– Вот это у Валерьевича опять гробом воняет! – мы несёмся наверх через раскрытый проём 16-й квартиры с кульками из алкомаркета.
– Да не Валерьевич он, – сквозь сжатые папиросой зубы мычит Лёха, который на 5-й день дружного запоя начал носить солнцезащитные очки на регулярной основе. По логике, он должен носить другие – для спасения зрения, но у него здоровски опухает лицо, когда выпьет. Вот наш блудодей так и спасается. Чтобы огородить социум от домыслов, а не для собственного удобства – это вообще здорово иллюстрирует Лёхину натуру.
– Один хрен смертью пахнет, – констатировал главный сомелье Максим, чьё состояние души никак не коррелировалось с трезво выбранной подработкой – на стройке по чёрной схеме он делает всякую шелуху для кровельщиков. Один раз на него опрокинулась тележка всякого массивного дерьма. Строительным мусором из кирпичной крошки и огрызков рубероида прижало его стопу – кровь со слов труженика сочилась даже через носок «Вэнса», повидавшего ни одну крышу. Макс успокаивал себя, что это вино.
На его правой ступне пришлось сделать ампутацию двух пальцев – средний и безымянный оказались раздроблены в кашу вместе с костями фаланги, а на миниатюрных культях я позже сделал ему партачный пунктирчик. Шустро бегать за пивом, впрочем, ему это не мешает.
– Ты разве знаешь, какая смерть на запах? – спросил я, звеня ключами на повороте лестничной клетки к своей квартире. Сам-то в курсе – за одной фразой скрыто столько историй, сколько невозможно передать за попойку. Но мой затянувшийся запой объясняет трагичность общей картины лучше, чем её отдельные зарисовки.
– Не души, золотце, и так дышать нечем. Мы знаем, какая ты прокажённая душа – вечно эзотерически настроенная Леся срезала разговор, когда я уже открывал чистилище для трезвых, где пока не выпьешь – не выйдешь.
Но смертью действительно пахло.
Под моей хатой жил с вечно приоткрытой дверью престарелый бедняк – от его склепа дурно несло то ли сырой землёй, то ли сажей. Люди со всех этажей жаловались в какие-то важные инстанции.
Соседа вблизи никому из нас не удавалось рассмотреть; в моменты, когда мы толпились под его разбитыми окнами, обычно он сливался с тенью, теряясь без звука в неизвестные нам углы своего жилища. Возможно, оттуда мужик смотрел на нас своими мутными глазами. Но чаще всего мнимый Валерьевич пролетал сквозь скопище моих пропойц, как обычный мужчина, которому стыдно за свой быт. Жизнь, заложником которой он стал по веренице причин – такой вариант был самым приземлённым, но флёр персонажа-загадки вводил в ступор. После его бесшумных выходов из подъезда, дверь которого была постоянно подпёрта камнем, лишь окурки на прилежащем крыльце свидетельствовали о человеческой природе жильца из 16-й. Но рядом с дверной щелью помимо гадкого запаха всегда ощущалась жуткая сила – внутри никогда не было света или живого звука.
Однажды родилась байка, что его зовут Валерьевич – во время одного из куражей, мой приятель Костян спал на балконе, невзирая на наставления выживших к трём часам ночи, чтобы тот хотя бы прикрылся пледом – июльской ночью так и почки застудить можно. Дружище якобы общался с «Валерьевичем» – тот сам так представился.
– Костян, ну, ты это… на ещё пледос, а то кровью ссаться будешь! – я увидел из своего раскладного кресла, как после этих заботливых слов мой однокурсник Макс перекинул сквозь внутреннее окошко балконному лежебоке шерстяное укрытие. Оно шло в комплекте с моей хрущёвской однушкой. На утро же Костик-с изложил за столом, что не мог уснуть: кусала мошка, мы громко храпели, в голову вдарила зорька – всё в пачке.
– Лежу-лежу, парни, смолю, но как-то без души. Тут опа-с – голос старческий слышу! Говорит тихонько с улицы: «Молодой человек, сигаретой угостите?», а в руках у него ещё что-то красное, странное было, помню.
– Костя, одинаково же пили, какой к черту голос? – пробудившимся женским басом произнесла из угла комнаты Леся, едва прикрытая – она никогда не стеснялась при нас спать в трусах, но я из вежливости— и от греха подальше, чего таить – всегда отдавал ей спальные шорты и прочие шмотки. Она почти жила у меня.
– Да короче, вижу в темени под навесной плитой у падика мужик. Разглядеть, конечно, мало что можно было, но когда я ему скинул сигу, он ответил: «Дай бог здоровья, я сам – Валерьевич. Если свидимся – здороваться буду, я-то тут рядом… ты это, ну, не спал бы лучше на балкончике», – после чего мы почувствовали, будто Костян приоткрыл перед всеми завесу сумеречной зоны – тот Костян, что часто лается с Лесей из-за её всякой иррациональной духоты. Я жил на втором этаже и сам не всегда различал подходящих к домофону гостей в свои угодья, так что, в принципе, поверил другу. Хоть тот и не смог чётко определить, был ли это наш постоялец с первого.
– Смотрю на него, а сам оторваться не могу. Гипнотический мужик какой-то, – Костя, как ответственный за прикосновение к необъяснимому нечто, продолжал играть заводилу в обсуждении случившегося.
Я курил, пока все ели горелый омлет и заправлялись топливом: фруктовым пивом, «Кагором» и гаражным самогоном, всю ночь простоявшим в рюмках. Лёха уже сидел в очках, а Макс воодушевлённо стебал его – он успел увидеть расплывшуюся физиономию кореша. Леся снимала с плиты завтрак, прикрывая голые ноги моей сатанинской футболкой – на ней, с татушками вроде ловца снов на кисти с тысячей перстней, она выглядела под стать.
Сам я поглядывал из окошка вниз – как раз свисая головой над одним из окон соседа.
Стряхивал пепел, думал вслух:
– Валерьевич, значит.
Я вернулся к реальности на третьем обороте замка, после чего раскрыл свои двери и выпустил спёртый воздух на волю, заставив его встретиться со смердящим духом подъезда.
– Вскрывайте пакеты и суйте всё в холодильник, я пока себя в порядок приведу.
Мы готовились к пятничному аншлагу: собрали согласие пить до последней капли с оравы моих одногруппников, Макс – своих, Лёха и Костян – разношёрстных дружбанов. Через полчаса было начало мероприятия и мне хотелось выглядеть соответствующе для такого торжества. Пока я мылся, Леся ходила туда-сюда – желала тоже быть в тонусе, но скорее энергетически. Я не стеснялся её, а она меня – это всё же был платонический уровень взаимоотношений. Она подала полотенце, я обсушился и, встав у зеркала, поймал ноту тревоги в своих болотных глазах, за которыми бушевал истощённый алкоголем и заученным одиночеством разум. Подруга заметила.
– Ты какой-то понурый, – тонко уловила Леся.
– Просто ощущение странное, – мне казалось, что сегодня будет что-то особенное.
– Сегодня будет кое-кто особенный, я позвала подружку. Она интересуется тобой, мальчик мой. Вам будет интересно вдвоём, она тоже неспокойный человек – в дурке не лежала и стихи не писала, но разговор обо всём поддержит.
– Интересные у тебя друзья, конечно. Ладно, посмотрим – я не раскрыл Лесе, что предвещал это.
Костя, Лёха и Макс уже вертелись на кухне, бренча стекляшками.
С первым звонком в квартиру время начало ломаться: люди приходили одни за другими, алкоголь разливался и хлебался, а воздух пропитывался дымом, не подпуская смерть из подъезда. Я валялся раненой звездой на полу, изображая, как откусываю Максу фантомные пальцы – пацаны гототали, а девочки фукали: «Вы такие мерзкие». Мне нравилось, вечер успел в процессе оправдать себя. Я подрезал Лёхины очки, чтобы дополнить образ рокстара с пиджаком на голое тело – тот, сняв петельку изнутри ванной, выполз с какой-то девочкой и стал материться заплетающимся языком, а все смеялись с его отёчного лица, особенно Костик. Он был непривычно игривый.
С забитых пылью и табаком динамиков чьей-то мобилы доносился бумбэп, когда я угарал с Максом, попутно маневрируя едва початой бутылкой водки, чтобы не пролить ни капельки – это святое. В те несколько секунд тишины, в которых трек переключался, в зал вошла утаившаяся от моего взора Леся:
– Золотце, ребятки, здоровайтесь – это моя подруга Полемика.
В проёме появилась она.
Если бы я не катался битым зверем, то, скорее всего, свалился – ни на ковёр, так на Макса или кого-то из гостей точно. Один тот факт, что её представили не по имени, уже отличал её от прочих из этого мира, не говоря уже об ауре, как попросила бы выделить Леся. Полемика выглядела как девушка со смуглой кожей, но это самая малость, которую я мог описать. Её необузданные вибрации и тёмная харизма были более ценными мазками полотна, но пепельное пальто и ядрёно-красные губы – понятными.
– Всё хотела тебя найти, а ты в ногах тут валяешься у всех на виду? – она присела ко мне, наклоняясь бесцеремонно близко, практически стуча подвеской-фиалкой по Лёхиным очкам, что скрывали теперь мои захмелевшие глаза. Волосы плавали со скул на шею.
– На то и говорят: «то, что мы ищем – чаще всего валяется у нас под ногами», – я не был уверен в целесообразности этого ответа, потому что он через секунду от вылета из моего рта сразу показался каким-то слащавым и тупым. Но ей понравилось, она легла рядом.
С первых секунд её вхождения в комнату я понял, что «кто-то» особенный, терзавший меня перед тусовкой, – это она. Стрелки на часах продолжали изломанно проматывать время вперёд, а люди хаотично уходить и приходить, шурша ртами, стаканами и сигаретами. Я был с Полемикой. Честнее сказать, это она была со мной – я стал зависим от женщины всего за несколько часов, проведённых вместе на ковре. Из восприятия выбивалась окружающая ситуация: друзья, почуяв мой улёт вовне, пожелали всего хорошего и постепенно выходили за стены чистилища – туда, где пахло гробами, где-то существовал Валерьевич, Лёха не просил вернуть очки, а пацаны во главе с Костей не пытались откусить не существующие пальцы Макса.
За плеядой разговоров и стихающего галдежа гостей я обнаружил, что нас осталось трое – я, Полемика и спящая на диване, в моих шортах, Леся. Она ни разу не отвлекла Полемику с вопросом: «Когда домой?»; более того, я ни разу не отвлёкся на бутылку водки – впервые за столько дней меня пьянила не она, а человек в непосредственной близости.
Полемика сидела уже на моих коленях, будоража в бараний рог низ живота.
– Пойдем на улицу, скоро рассвет. Леся пусть спит тут, ей не привыкать – новоприобретённая «кто-то» сама позвала добить эту ночь. Заодно и меня романтическим кастетом под дых.
Мы пролетели проклятую щель на первом, но даже там больше не пахло гробами – что-то в этой реальности изменилось вместе с появлением в ней Полемики. Воздух поглощался свободнее, битые стёкла на выходе прибрали, – те перестали резать землю, а небесная лазурь медленно окроплялась в розовый залив.
– Красивый у тебя отсюда вид, – она вышла в лёгком летнем платье чёрного цвета, с которым её кожа выглядела особенно нежно. Держала своё пальто в руках, предплечья которых украшали ветвистые вены, и осторожно тянулась ими к моим. Ни то прикоснуться, ни то вцепиться ногтями – я был согласен на оба варианта.
Мы общались под всплывающим солнцем:
– Знаешь, Полемика, ты должна держаться от меня на расстоянии выстрела – особенно, если я буду говорить про чувства и искренность. Я боюсь открываться, но тебе, кажется, я хочу это делать – утопаю как пьяный дурак в её карих глазах. Не верю, что такое говорю.
– Я сама буду решать, насколько далеко захочу держаться. Уверенно могу сказать, что хотела это сделать ещё с момента, как впервые увидела тебя.
– Сделать что?
Она поцеловала меня, заставив отринуть страх жить и быть живым – любить, даже если это мимолётно, глупо и сказочно. Мы смотрели друг на друга несколько секунд, прежде чем она просто с улыбкой не сказала, что найдёт меня сама.
Я отпустил её подвеску, она ушла, сверкая под рассветом подолом, а я остался стоять у своего дома с растекающимся по груди теплом – я больше не ощущал себя дефектным, что определённо важно не только мне, но и Лесе. В чём-то это и её заслуга.
Присел на строительный блок, чтобы подкуриться – огонь обжигал губы, но не так сильно, как Полемика.
Сзади меня – сквозь обломки окон – из глубин16-й квартиры раздался шорох:
– Молодой человек, тысяча извинений, сигаретки не найдётся? Я ваш сосед, цветочки развожу. Валерьевич звать.
– Валерьевич… махнёмся на фиалки для моей дамы?
ЛЁД
В морозилке лёд заготовил – видел такое в эротическом фильме. Две гетеры ютились в проходе, мешая Егорику с дырявыми пакетами на руках: сначала щипали друг друга за грудь, хихикая как куколки из телешоу, а потом заставляли того краснеть. Это была их естественная коммуникация – выделять из всех пор разом лошадиную дозу половых гормонов, устраивая за ширинкой любого праведника маленький, жаркий рай. Красотки знали, что подобрав ко мне пароль, они выпустили из-под замка то, что принято гладить против шерсти – так мы и спелись. Обули свои здоровенные ботфорты, потеснив «мистера-переезжаю-к-своей-девушке-Егорика», чмокнули его на прощание в ежовую щёку и игриво сказали мне, запуская руки в чёрные одёжки с вешалки:
– Не скучай, Иона! Мы на пары и обратно! Сходи тоже как-нибудь, целуем! – я грел на древнекарфагенской кухне сваренный принцессой своего без пяти минут бывшего товарища по жилплощади суп, вываленный в чашку. Посмотрел из-за сбитого дверного косяка в коридор и крикнул вдогонку, прямо в спины их плащей, галдящим эхом в парадную:
– Как наливать разрешат, так приду! – но мой летящий вдоль этажей со сколотой плиткой вопль столкнулся о невесту Егорика, поднимающуюся по лестнице с цокотом каблуков – не нужно быть медиумом, чтобы расслышать в этом приближающемся звуке великий габарит сучьего недовольства.
До этого – около часа назад – дружище заехал за последним баулом вещей, но суетился из-за неловкости перед моими двумя новыми соседками:
– Вы что, Иона, спите все втроём прямо в одной кровати? Моя ж пустая остаётся! – спрашивал меня он, мужчинка, что едва старше меня, но намного усидчивее: и по учёбе, и в прочей занятости. Но в чём-то всё ещё не обтёрший рот от материнского молока, а ещё носящий подштанники вплоть до апреля.
– А твоя кровать будет гостевая, приятель, – отвечал с лисим прищуром ему я, пока перекладывал формы со льдом по нужным уголкам морозильника – это чтобы тот вышел прозрачным, презентабельным и без застывших пузырей воздуха внутри; полости должны быть заморожены равномерно. Ну, насколько позволяют бытовые условия нашей кухни: раскатывающаяся громом микроволновка с моим супом – как и холодильник – выглядели смертельно уставшими; будто пережили Леонида при Фермопилах или эпидемию крысиной чумы, зарывшись в катакомбах под Пер-Лашезом в груду черепов, а после материализовавшись между стен хрущёвки нашего района – причём, не самого стыдного, аж в 15 минутах от центра. Не Спарта, не Париж, но тоже ничего так: у нас, бывает, и младенцы летают с высотных балконов, и ménage à trois не по графику имеется – особенно на обжитой мной квартире. Tout compris.
У меня были планы на лёд этим вечером – и я бы не хотел ничего срывать.
Формочки с нижней полки нам оставил в качестве подарка Егорик; мы долго обнимались на прощание, а в подъезде – не поздоровавшись – стояла его избранница. Царапала облезшую краску с блеклых стен, дожидаясь проклятого суженного с остатками позабытых на нашей квартире шмоток – та вернулась из величавой заокеанской страны под звёздным флагом.
Mon ami и бывший сожитель – истосковавшись по ней – смог отлепиться от моих тонких плеч, едва завидев её винный трикотаж. Она уезжала на несколько месяцев по программе обмена и работы: то ли собирала злаковый урожай в полях неизвестного мне штата, то ли великодушно занималась прочим аграрным ремеслом при какой-нибудь ферме в стиле дикого запада с амбарами, караванами и салунами – ведь её волонтёрской натуре подходила, мне кажется, деятельность примерно такого рода; на благо. Подходила даже больше, нежели вынос уток из хосписов с онкобольными малышами в разноцветных тапочках и больничных халатах – с дальнейшим перекуром трясущейся ладонью и взглядом на две тысячи ярдов – или обслуживанием пиджаков за наличный расчёт в мотеле под неоновой вывеской. Мне кажется, ей подходило второе – и это бы стало самым озлобленным, но типичным сценарием для Егорика, что созванивался с ней по утрам и заметно менялся с первыми гудками в голосе: «как ты, принцесса?» – вопрошал тот иногда в трубку, а она говорила, что устала и потом перезвонит. Я представлял, как она выходит из картонного номера – типа карточного домика – и садится на прикрученную к бетону скамью у автомата с газировками и снеками. Доходила бы до неё с хлюпающей походкой и дрожью в ляжках, и придумывала: какую бы байку про американских старичков в широкой шляпе под аризонским солнцем и выцветших фланелевых рубашках рассказать своему принцу? И где-то сзади бы в выдвижной койке запыхался усталый дальнобой или шулер подвальных матчей в покер – смотрел на девчонку сквозь жалюзи и считал в уме чаевые. У Шуры пелось что-то про «твори добро», «дари любовь» – мне думается, что некоторым не дано это. А если те и пытаются, то выходит лишь дефектно и патологично – как у ведьмы Егорика; впрочем, как и у меня, наверное.
Что-то не нравилось мне в ней, а я – пуленепробиваемо и очевидно – не нравился ей: такие люди, как она, становятся веганами исключительно ради того, чтобы язвительно – сжимая челюсть и выпучивая глаза – сквозь зубы называть других трупоедами и трястись над чужим свежеразогретым обедом.
Они с Егориком прошли из парадной за мной на кухню, я достал её суп, и вдруг всмотрелся в него – тот был пуст и густ; сплошная жижа, смотрящая обратно – как ницшеанская бездна – в ответ. Хищница, сварившая его, встала надо мной и затмила столешницу тенью.
– Это извращение, Иона, – начинает она, – жить в содомии с этими двумя.
Сзади перебирал тряпьё Егорик.
– Твой борщ без мяса и фасоли – вот что извращение, – отрезал я.
Сзади больше не перебирал тряпьё Егорик. Ему нравилось веганство – говорил, что завязка от мяса лучше любой синей; молодеешь, да и поршень работает более здраво – типа тебе снова 11 и ты изобрёл симулятор траходрома.
По стенкам чашки с её то ли супом, то ли борщом кружилось только омрачённое стремление с кулаком на груди верить при жизни в то, что она с её переиначенными догматами, ввинченными в короб черепа – нечто большее, чем просто тело с кучкой потребностей и пустых идей. Опять-таки сплошная жижа – в веганство, может, я и верил; но не верил ни на толику в искренность гарпии в сетчатой блузке над моей едой.
– И вот зачем ты пичкаешь себя мясом? – вот-вот перья падут мне на темя.
– Чтобы помнить, что я тоже мясо, – но я выставил когти первый.
Она фыркнула и ушла из комнаты, отравив воздух своим присутствием – почти что вылетела на улицу сразу, забрав с полки свой шарф. На таком даже повеситься было бы жалко, да и негде – советские люстры не выдержали бы моего веса, хоть тот и не превышает тушу племенного барана, нанизанную на крюк с живодёрни. Невеста поторопила Егорика и велела вызвать ещё одну машину, как только тот закончит со своими кульками – он послушался.
– Через пять минут Daewoo Nexia синяя, – держал мешок с пледами одной рукой, ковыряясь в телефоне другой.
– Бывай, брат! – мы пожали руки, и тот пошёл сгружать нажитый хлам вниз.
Растут цены на «Ипу», серая пасть неба поджирает виньетку сущего, Егорик съезжает – мироздание схлопывается, словно шарик на именинах. Я не солдат, чтобы мои веки застилал хлад мужской тоски, но всё же настигающее ощущение выкорчёвыванной зубчатым скальпелем частицы не покидало меня.
Ладно хоть я ему нравился, а тот даже мне – поэтому спасибо за оставленные формочки для льда, ставшие первым шагом приятеля к открытию собственного дела по изготовлению оных в причудливых наружностях для баров и заведений. Те зачем-то нуждаются в этой показательно пафосной искорке для громогласного бренда: лёд-алмаз, лёд-виноград, лёд-пирамидка и прочее. «Заходите к нам после 23:00 и посмотрите, как в вашем стакане с виски-колой трещит кристально чистый кубик льда – нет, даже не кубик, а земной шар!» – в бюллетенях, наверное, это бы выглядело как-то так: нарочито жирным шрифтом без засечек и вирусным слоганом снизу про «самый чистый лёд». Целая планета бы шипела в агонии и покрывалась сколами, пустоты которого заполнял джин и тоник, пляшущий друг с другом по кругу; но единственное, чью пустоту ни один кубик или шарик в спиртном не смог бы заполнить – так это человека, что сидел бы с опрокинутым через шею галстуком на липком седалище этой барной стойки, за которой мог стоять Мефистофель в жилетке – бармен, оборвавший тысячи судеб и даже не подозревающий об этом. И всё это с денег невестки Егорика.


