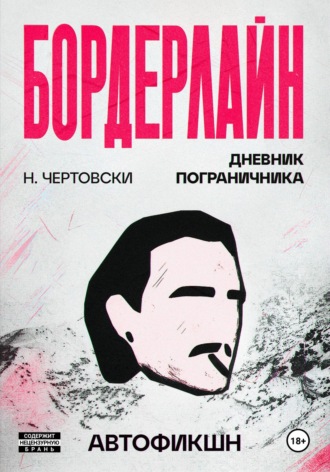
Полная версия
Бордерлайн

Никита Чертовски
Бордерлайн
Препарированное из уголков прокажённых мозгов размышление о собственной патологии, впечатанное кеглем в форму свободной прозы: как допиться будучи юношей до микроинфаркта, сойти с ума из-за женщин на койке психиатрического диспансера и даже оказаться пред пиком Эльбруса – обо всём этом в своей книге «Бордерлайн» расскажет Никита Чертовски; тот жонглирует меж стенок черепной коробки травмами и накопленными байками в попытке обуздать недуг, пограничное расстройство личности, и очертить линию меж болезнью и собственным «я».
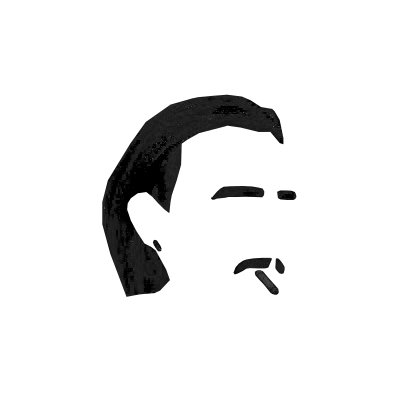
***
Первая литература за моим авторством, которую можно осязать: впитывать ей крапающий воск из-под свечей, вставленных в винные бутылки или тушить на неё пепел за обеденным столом, пока ваше нутро терзает тягота самого тёмного дня, что встретилось вам на своём веку. Для моего творчества это будет высшей наградой: делайте с этими текстами всё, что захотите, но двигаясь от обратного – можно даже и не читать их. Но мне важно, чтобы эта книжка, когда ей будет суждено выпасть из ротозейского лоно на запыленные полки или в обласканные руки – была там, где меня самого уже может и не быть.
Вы держите в своих ладонях «Бордерлайн» – печатное издание моего дебютного нелинейного романа из баек, рассказов и стихов, сотканного чуть ли не в исходном виде: как это было написано, так оно и останется на листах бумаги выжигающим глазёнки проклятьем последней пары-тройки лет. И дарён или продан он случайным свидетелям моего апокалиптичного существования, ходящего не под богом, но под фатумом – тем, кто меня знал или видел на пустынных бульварах своего города.

В этих байках – моя патологическая юность, о которой я хотел бы рассказать в форме дневниковой брошюрки; с каплей вымысла, что неотделим от природы этой тянущейся, как ларёчная резинка с горьковатой присыпкой, жизни.
Как некогда читал один великий мастак: «жизнь – это просто куча хуйни, что просто случается». Об этом я написал тут: ранние смерти, тералиджен на завтрак, требующая отмоления печёнка, пролитая на затраханный старый матрас сперма и борьба против зудящего в лимбическом корневище желания сопротивляться этой самой жизни.
Благодарю, без дураков.
ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
Голуби летят мимо окон больницы, зависая на внешнем козырьке: поджарые пациенты – через форточку – подкармливают их во второй половине дня пирожками с капустой, что выдаются на обед вместе с творожной запеканкой.
– Смотри, какой бедняга подбитый присел, ты ему не кроши много, а то подавится, – я слышу, как с соседней форточки вдоль обшарпанных стен доносится забота от работяги Серёги, попавшего сюда по синей яме.
Забота ни то перед крылатым другом, ни то перед его соседом по палате – Серёжей, который в очень плохом состоянии; Траляля и Труляля, ей богу. Работяга, что на свободе бьёт жену, а на стационаре, – после прочистки крови и выхода из запоя, – ласково чешет голубю лобик. Он отдал бы последний пирожок, унесённый с раздаточной стойки, чтобы птица ответила ему той же лаской. Та бы чутко почесалась клювиком об его жилистые руки и скрюченные пальцы, но, в основном, это редкость – она не способна на это. Голуби чаще всего аккуратно клюют гостинцы, а после улетают, оставляя пациентов наедине с собой, в заточении среди больничных коек. В диспансере всем остро не хватает любви.
В иные времена, эти птицы могли быть вестниками новостей и сообщений из внешнего мира. Но, теперь, это всего лишь птицы – оборванные и брезгливые мешочки с косточками и пёрышками. Не сильно отличающиеся от нас. Мало кто знает, но решётки в дурдоме – это миф, как и многое прочее, казалось бы, присущее этому месту: дыры в сортире вместо полноценного санузла, сковывающие робы в клеточку или перманентно угнетающая атмосфера. Иронично, но весь этот перечень больше подходит к государственному учреждению несколько другого профиля – к муниципальной школе, в которой мне было всё же похуже, нежели здесь.
Если я, конечно, правильно помню.
– Ты будешь пинать собак после выпускного! – кричал мне учительский состав в классном кабинете. Но, перебравшись оттуда, мне хватило силы разве что на пинок босой ступнёй в рыло собственного эго. Я даже голубей прогнать со своего окошка жалюсь. И здесь – в дурке – на меня не вопят как в детстве, исключая психологиню, которую я прозвал Рэтчед – за сумбурный и хаотичный склад её личности. Рэтчед сама блуждает по лезвию безумия, если говорить откровенно – отчасти, это пугает. В моей палате на четыре койки, три из которых были взъерошены, но пусты, было просторно и свежо – из открытого почти настежь стеклопакета в мою камеру коматозника врывался майский ветерок, развивающий волосы с подушки и пошатывающий плакат над раковиной в углу. Плакат, по своей идее, должен работать как мантра – от подъёма до отбоя.
Текст поверх распечатки морского пейзажа гласил:
ЭКЗИСТЕНЦИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ: СКАЗАТЬ МИРУ ДА
ЦЕННОСТИ: СКАЗАТЬ ЖИЗНИ ДА
АУТЕНТИЧНОСТЬ: БЫТЬ В СОГЛАСИИ С СОБОЙ
СМЫСЛЫ: РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
Сибирский воздух не столько легонько пробудил меня, сколько порывом задул в мою голову своё явление, прямо в сон. В нём я стоял на лазурном берегу безграничного моря или океана, то ли на нашей планете, то ли где-то вовне – например, уединённом и единственном островке-оплоте посреди сбежавшего со страниц Лема бескрайнего, живого Соляриса. И там он дышал вместе со мной, пульсировал в один такт, пронизывая мои клетки, альвеолы и сосуды своим умиротворением. Гладь расплёскивалась вдаль, вширь и вообще без видимого конца – я смотрел на всплывающее солнце и держал чью-то руку. Ноги послушно были втоптаны в песок. Вжимаясь в его частички, я чувствовал, как твёрдо и крепко стою в нём ногами – потому что был рядом с той, чья рука в моей руке. С той, ради которой хочется твёрдо стоять, крепко цепляться в землю и никогда не падать. Даже если я и потеряю на мгновение равновесие и координацию, замахнувшись на ту же секунду телом вниз, то я будто бы без толики сомнения уверен – она меня словит.
Субтитром, за обрезкой кадра с нашим пребыванием, пробегал текст моей реплики в жёлтой каёмке: «я с тобой навсегда, просто замер на миг». Но я не смог повернуться к ней, разглядеть лицо или узнать голос – лишь кое-что нашёптывал, пока восход солнца пробуждал бриз, в темпе доносящийся из далей в сторону берега, на краю которого мы стояли. Бриз подступал, обдувая лёгким поцелуем мои волосы и пронизывая нутро через все слои сновидения – сентиментально и чутко, прямо по Нолану.
Крепко сжимая руку, словно она мой последний билет, что просто нельзя так отпустить или отвести от него взор хотя бы на один иллюзорный момент, я отчётливо прошептал, адресовав въявь:
– На этом пляже я построю дом, что будет только для нас.
Я рискнул повернуть в её сторону голову, предчувствуя с больничного ложе, как меня выбрасывает с этого волшебного берега обратно в реальность, в которой мечтать не положено – в палату психоневрологического диспансера. Ни то морской, ни то океанский бриз накатил меня сильным порывом – он сдул меня из сна раньше, чем я успел услышать от неё ответ или хотя бы понять, кто она и как попала в моё подсознание. Я проснулся в одиннадцатой палате психиатрического отделения под задувающий ветерок и воркование голубей – так начался в этих стенах, дёшево окрашенных в персиковый тон, мой новый день – новый день пограничника; с моим недугом здесь, будни – это не более, чем одно и то же скучное видео на зацикленной плёнке с человеком на переднем, что слабо тянет на действующего героя материала. Того пограничника, который грезит о саморучно возведённом доме для любимой женщины на берегу, но сам вынужден жить с протекающим чердаком – без шанса на его починку, с регулярными заплатками протечек – день ото дня, будни к будням. От сна к сну. Я – не более, чем чьё-то блеклое воспоминание, уготованная роль которого лишь фиксировать быт, что уже затёрся в своей однотипности. Благо, в нём иногда всё-таки оставляют свой след небожители. Кому плакат с морской картинкой и напечатанной поверх неё аффирмацией нагнетает сны о женщине в дождевике, рыскающей по пляжу; а кому – выплывающих из-под бурлящих солёных волн людей с рыбьими головами.
Я склонен считать, что всё худшее, на что способно человеческое, воспалённое сознание – это от затерянной любви. Что муссон, что штиль – любовь многогранна и непредсказуема, подобно морю; любовь – то главное, что вынуто звеном или вырыто зерном из нас здесь, пребывающих на лечении.
Вся жизнь – мнимый выбор меж дуркой и борделем, а нам остаётся лишь лавировать, дабы не свалиться за борт и затерять остов из виду, идущий на Новый Свет.
Я проспал обед и вышел в коридоры аккурат к разрешённому времени для покура и прогулок. Может быть, я бы и проснулся вовремя, имей я тут будильник; ибо будильник – это маленькая ловушка, симптом бытовой рутины, коей в моей окружающей реальности неоткуда взяться.
В иной график выходить из своих угодий можно лишь в общую палату – там обосновался костяк основных развлечений, способных скоротать местные деньки: сухие мужчины слушают кассеты с магнитофона, субтильные мальчики рисуют, а общая масса пациентов читает книжки или играет в шашки с нардами; и лишь одному из них – Папаше Шиве – разрешено перебирать лады и струны акустической, покоцанной гитары. Мало ли, но другие могут вероятно снять нейлонку с грифа и вскрыть что-нибудь себе или удавиться ей – по крайней мере, так нам растолковал персонал в первый раз, прежде чем спрятать инструмент в ординаторской. А Шиве можно – он некогда звезда былого времени, что рано потухла, зато горела пылким инфернальным пламенем: секс, наркотики и рок-н-ролл вытиснились гнётом времени, обратившись полуночью в сон-час, антибиотики и дурдом. Кто-то целенаправленно пытается перепробовать все оные занятия, чтобы подрезать отсчёт до выписки из заточения тут, если такое и бывает. Но сам я склоняюсь к другому: для меня это не заточение, а что-то вроде инкубатора, где мои проблемы должны распухнут до предела. Именно за тем я здесь – когда они разбухнут и наполнятся отравляющим гноем, будто чирей в паху, я смогу их отчётливо вырезать, купировать, свыкнуться. Раньше я, бывало, был в полушаге от того, чтобы насильно вырезать своё безумие из черепной коробки ржавым, тупым ножом. Но сегодня – я лишь попинываю его, отложив ножички. Я хочу, чтобы оно кормилось и постепенно теряло бдительность, думая, что победило в этой бесконечной войне. После чего я его задушу и отведаю, подобно Сатурну, пожирающему своего сына с гремучего полотна Франсиско Гойи. Ведь сумасшествие любого человека – это исключительно порождённый его рассудком отпрыск, придаток с отцовской связью и полноценная часть тебя самого. Я разорву зубами свои проблемы, и – злорадно смакуя – вкушу это безумие. Что делать дальше, если часть их естества останется внутри меня, вновь прорастая из зародыша в мёртвое древо, пускающее вверх спутанные корни – пока не знаю.
– Всё равно научиться жить с ними, – как сказала бы моя психологиня, в чьём кабинете я играю периодами на пару в шашки и обсуждаю прочитанный томик то Кафки, то «Бойцовский клуб» тиража далеко не первой свежести. Мне казалось, это самые аутентичные произведения для такой обстановки. «Но всего лишь одного запоя и последующего отходняка достаточно, чтобы заменить любую сотню книг», – так сказал бы Тайлер в моём случае, суть-то та же: ты фиксируешь историю сквозь искажённую оптику.
Иногда между психиатрическим и наркологическим отделениями главврачи устраивают соревнования на свободную прогулку по прилегающему к территории здания лесочку – наркоманы, в прочем, обычно выбирают поддавки. Расписание курилки охватывает каждую пару часов – большинство встаёт в 7 утра, и соответственно, может уже выбегать на задний двор. Сразу, как только пробьёт циферблат над стойкой персонала. На дворике пациенты пропускают, как правило, по 3 папиросы за раз. В том числе, и я вместе с ними – я заядлый курильщик, зависимый. Мой дядька-лесопильщик заставил меня однажды выкурить почти целую пачку красной «Примы» без фильтра, вынесенную мной из карманов его кожаной дублёнки; он кричал и рассекал ладонью воздух, будто это не дым ему щиплет глаза, а мой жалкий вид – выпавшей на долю нежданного воспитания обузы, что могла дать лишь разочарование. Он брызгал слюной сквозь жёлтые зубы, а я давился-давился папиросами, ощущая, как глотку корёжит от месива внутри – и мне хотелось ещё. Дядька суровый был мужик, но честный, хоть и колдырил; он гнал висельников в кладовой: декстроза мешается со спиртом двойной прогонки в трёхлитровой склянке, и над этим делом на хлопковых ниточках подвешивается какой-нибудь лимон или распаренные апельсиновые кожурки в марле. После этого вся приблуда – герметично закрытая крышкой – настаивается в прохладном полумраке на пару недель. Потом дядька сам же в этой кладовой и завис, среди своих скляночек да баночек – прямо как иссушенный лимон на тоненькой верёвочке, что болтался покойником в помещении, словно цитрусовая долька для самопальной настойки в горловине банки; я был ребёнком. На ранних сеансах с Рэтчед она интересовалась для анамнеза, кто меня воспитывал и с кем я жил в детстве. Я лишь отвечал, что жить и воспитывать – отнюдь не равноправные вещи; формирование дитя сложнее, если семейный институт далеко не единственный, в котором ему не выгорело ужиться.
Я попросил кого-то подкуриться во дворике, вспоминая горсть пепла, сдутую прямо в лицо своего старика в момент преподанного «урока» с «Примой» и то, как того болтало в петле; и то, как его рабочие ладони вздулись в сизые клешни. Мои патологические отношения с сумрачной и роковой барышней, носящей на себе лицо всевозможных аддикций и проявлений самодеструктива – это не из-за травм детства. Это мой осознанный выбор, о чём любой спец при работе со мной должен узнать в первую очередь, прежде чем стартовать лечить – я выбрал это настолько же самостоятельно, насколько у меня не было попросту другого выбора прожить иначе.
– Что-то браточек совсем никакой, пусть посидит, – выйдя на улицу, слышу разговоры пациентов у скамей под размашистым кустом некоей лиственницы.
– Серёж, Серёж, ты аккуратнее, а ну-ка присядь, старичок, – бубнит другой мужчина с тем же именем, но на другой манер, – Серёга, – придерживая на десятиступенчатой лесенке собрата по несчастью. Тот-то уже прошёл этот ад. Это мои соседи через полторы стенки. Те соседи, что подзывали голубей и крошили на внешний подоконник ломтики столовых пирожков – Тилибом и Тарарам, Твидлдам и Твидлди, и, наконец, они же, Серёга и Серёжа. Серёга – крупный, откровенно оцарапанный жизнью мужик; знает, каково заливать до такой степени, что начинаешь кататься по полу воющим зверем и пытаешься с прыжка устроить поножовщину с незнакомцем в зеркале, шипя ему в отражающийся по паутине трещин оскал: «это нрав или симптом»? Он знает, каково выходить из дома, позабыв деньги на метро, но чуть ли не по заповеди блуждать в поисках повода нарулить на шкалик, согласившись на любое мутное подстрекательство друзей-пропойц.
Этот Серёга из таких; но не Серёжа, лежащий в его руках – вот он бы не смог и самостоятельно раздавить кусок теста в кулаке на данный момент. Серёжа – капельник, едва вышедший в обычную палату после того, как конкретно закошмарил санитаров и соседей на близлежащих кушетках. Другой же, Серёга, разделяет с недавнего времени с ним её на двоих – работники диспансера, видимо, решили подшутить из-за обоюдных диагнозов и имён у мужиков. Если история второго туманна, то у первого всё прозаичнее и прозрачнее, под стать провинциальным реалиям: отсидел за неуплату алиментов первой жене, а со второй забухал – отлёживается теперь. Если тот не в состоянии проронить и слова, то этот – что называется – живёт эту жизнь. Среди уральской диаспоры, включающей в себя некогда екатеринбургскую интеллигенцию из арт-тусовки, а позже вернувшейся на северную родину «подзашиться», витала одна сумасбродная байка. Та гласила, что Серёга и Серёжа – персонификации одной сущности, только почему-то, в один момент, расколовшейся надвое. Расщепившейся на крайности, по типу Джекилла и Хайда; но как по мне, они ближе к близнецам из зазеркалья, ибо мы все тут – в своём роде – спим, едим и дышим под засеребрённом колпаком. Родили эту теорию оные гости, из самой дальней палаты, после медикаментозного лечения ноотропами. Их мозги тотально окислились за годы, проведённые в самых рейвовых подвалах и сквотах большого города – пожиратели лотоса под огнями мегаполиса.
Такое, между прочим, не редкость для творческих выходцев из наших краёв – выйти в мир возможностей, но выбрать не ту дорожку, начав кушать странные таблетки, а потом путать кошачий лоток в коридоре с замшевым ботинком и глотать сим-карточки со стекающей на веки испариной из-за пропущенных звонков от крутышей на «Крузаках». Долги им надо бы и возвращать, да вот никак и нечем; у нас тоже, в больничке, не любят должников, хоть им отсюда почти что неоткуда взяться (т.к. стайная взаимовыручка – залог коллективного выживания в любой среде) – это скорее общая русская национальная идея нежели ситуативное отношение к раскачивающему лодку. Но равно и другое: быть должником – тоже русская национальная идея.
– Спасибо, брат, – я протянул Серёже и Серёге две штуки белорусской «Короны».
С первой затяжки она как «Винстон Синий», но чем ближе к фильтру, тем сильнее ощущается привкус соломы – в дурку, в прочем, лучше брать только такие. Здесь все смакуют любые бычки до конца – кроме Папаши Шивы, старый рокер – очень неразговорчивый, кстати, учитывая его хардкорную юность – до нелепости уже который год пытается откреститься от прошлого «шизгара»: то белая работа, то благотворительные марафоны, то дочку на выходные забирает… а потом опять срыв на первым, да и марафоны покрепче и зыбче, и вот жена дочку прячет за крепкими плечами нового мужчины – таким по «Касте», гелем вымазанным и в свитерке с узким горлом. Шива дверь ломает, а супруга – набирает по телефону бригаду; сценарий Шивы – олдскульная классика. Он мало общается со всеми, поэтому донести до других его историю – это прерогатива бывалых пациентов-рассказчиков, летописцев окружающей нас реальности; как Монах. Иронично и даже пугающе, как они проносят в себе десятки, а то и сотни чужих историй, собственную постепенно превращая в труху. Их мозг – мясорубка, прожравшая столько баек, что весьма вероятно однажды зацепила и своего владельца зубьями… боюсь, что я к ним несколько ближе, чем может показаться на сегодня.
А с рассказов Серёги, он застал до моего приезда в отделении молодую девчонку с реактивной шизофренией. Та обкрадывала тайком палату Серёжи и Серёги, а ещё столовую: брала пирожки, совала по карманам и через сутки, затвердевшими калачами, пыталась разбить окна. Крала и сигареты, схроном оставленные под подушкой. В том числе собственные – это образцовый случай при помутнении. Все узники этих стен, – подкармливающие после обеда голубей, – недолюбливали её до какой-то ситуации, после которой её закрыли в «одиночку»; вроде, из-за попытки вздёрнуться в моей нынешней палате. Там числятся лишь самые буйные, и несущие опасность для окружающих людей пациенты. «Одиночку» не видел никто из тех, с кем я обычно общался: ни алкоголики, ни ломанные, ни суицидники, ни маниакальные психозники. Но все боятся этого обвитого то ли белыми подушками карцера, то ли бетонного короба – ещё из-за того, что шизофреничку потом не видели, а потом уже я сам заехал сюда.
Мы стоим втроём и подкуриваемся, сопротивляясь лёгкому ветру, что пробудил меня ото сна о береге и женщине рядом, и что была со мной почти мгновение назад. Остальные пациенты прибывают во дворик, обсуждая рядовые дела в нашем заведении – о том, как взбесилась Рэтчед, что делают врачи в ординаторской, что давали в столовке или где раздобыть сигареты. Они – сиги – в дурке, как правило, крутятся на уровне местной валюты и очень ценятся. Позади меня, облокотившись на мятый забор из окрашенных в грязно-зелёную муть прутьев, стоял «обменник», он же «торгаш». В нашей экосистеме так называют ребят, сумевших договориться с кем-нибудь из персонала – в основном, с молодыми практикантами, – на походы в продуктовый магазин за всяким провиантом; в обмен, допустим, на услугу для персонала – прибрать уголок или собрать мусор, практичная польза, как никак, никто не в обиде. У нас этим «обменником» был парень моего возраста, разрезавший слишком глубоко вены на предплечьях. Он задел сухожилия и с трудом поднимает теперь вилку или ложку, поэтому некий молодой санитар с серёжкой в ухе зачастил бегать ему за детским питанием и прочими пюрешками. За деньги пациента, естественно, заранее приготовленные – ещё до заселения – в наличном обороте. Если денег нет, то тут «обменник» выполняет свою главную функцию – осуществляет в курилке бартер между сигаретами и прочими продуктами. Самая тиражируемая позиция в его списке – это минералка. Просто водичка; нас тут вечно сушит: кого от лекарств, кого от чего похуже. Пакеты санитаров на охранном пункте, конечно же, шмонают. Мне рассказывала некая бабуля с расцарапанным лицом, что её знакомая, попавшая сюда по синьке, пыталась за пять тысяч уговорить уборщицу сбегать за водкой. А та в ответ купила ей коробку двухлитрового яблочного сока, отдала огромную сдачу, и сказала что-то в духе: «ещё спасибо мне скажешь». Та женщина, вроде как, позже выписалась и больше не попадала в диспансер. По крайней мере, к наркологам. Мы видимся с женским крылом на перекурах и временами на совместной терапии, но либидо – это последнее, что пребывает в активности, когда ты чалишься в больничке под грузилом препаратов и мыслей. Ещё чуть-чуть, и мы все тут превратимся в адрогинов без пола, возраста и формы; «мы не больше, чем всего-навсего пациенты», – говорят нам медики.
Серёга и Серёжа стояли отдалённо от собравшейся компании вокруг «обменника», поближе к моей лавочке. Пытались подкурить мои белорусские папиросы, которые в этой среде на вес золото. Трёх папирос хватило как-то, чтобы обменять их на заварную лапшу в стаканчике, а чайник – выпросить у техничек. Ко мне в свободные часы нервно стучали другие больные и спрашивали, можно ли заварить чайку.
– Дружище, у тебя чайник ещё не отобрали? – спрашивал Серёга, поддерживая Серёжу навесу. Я фыркнкл и ответил тогда, что давно забрали – после того, как кто-то из капельников его опрокинул в коридоре и ошпарился кипятком. Такие ребята, когда полноценно приходят в себя, не всегда вспоминают вещи, непосредственно случившиеся с ними здесь – уже в самом диспансере. Ну, и ведут себя как младенцы: чуть ли не заново учатся ходить, говорить, есть.
У первого Серёжи слишком сильно дрожали пальцы, поэтому второй придерживал ему огонь своей ладонью с синевой под кожей – «зечной дуростью», как её сам называл Серёга. Если когда-то у этих рисунков были края и понятия, то теперь там лишь растёкшиеся пятна: на пальцах, на костяшках, на тыльной стороне – «Полны любви» едва читаемым кеглем. Моя синева, вопреки тюремным шаблонам, не интересовала особо товарища – даже роза с шипами, сделанная в пост-школьные годы на квартире в забытом госбюджетом районе одной девчонкой; с ней мы не раз нюхали в клубных сортирах и там же трахались под заворачивающий плотными басами в бараний рог низ живота, пока нос обжигало кислой спёртостью – пахло половой тряпкой, но не понятно до конца от кого. Пропащая, ставшая моей женой; память – трясина, вспышками накатывающая на меня то бунгало в местном Палермо близ недоадлерских полей, то разбитый висок и разорванную рубаху на нагом юном теле в полупустой квартире. У меня есть кольцо на пальце, но оно затёрто так же, как и мои воспоминания, виньеткой подожранные по краюшку, будто обугленный полароидный фотоснимок. По Дункану Макдугаллу – врачу, замерявшему вес тела скончавшихся чахоточных туберкулёзников – душа весит 21 грамм. На меня иногда нахлынивают сомнения: не перепутал ли я ничего однажды в этих оплёванных сортирах, когда делился вскрытыми зиплоками с нимфами да жёнами, что кусали мне губы в кровь и пальцами, как копьями, рыскали сердце под размокшей футболкой, желая забрать у меня грамм, а может парочку?
Я уже и не знаю, но с душой точно что-то случилось – а может с головой. Недовес внутреннего «я» давит грудную клетку с каждым днём, проведённым здесь, всё отчётливее и грубее, пока тело не проглотит дозировку оланзапина, вальдоксана и тералиджена; и тогда становится легче и проще – за виньеткой, скрывающей память, полотно обретает статику и монохромность. И тогда гнилые топляки прошлого не рискуют выплыть на поверхность, перевалившись вздутым пузом за рамку кадра, пробудив своим вывалившимся зловонием и трупной жижей всё, что мы старались упрятать за сто слоёв вглубь – все мы, кто бродит средь коридоров.


