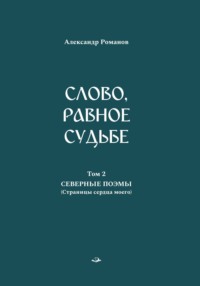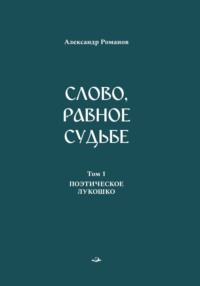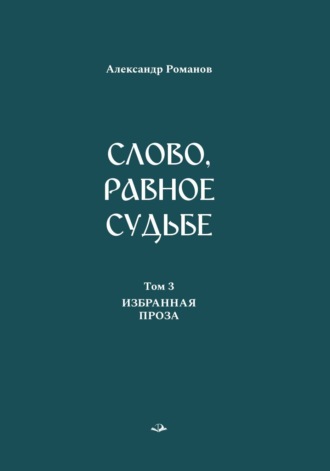
Полная версия
Слово, равное судьбе. Избранные произведения в 3 томах. Том 3. Избранная проза

Есть у Яшина до конца не отточенная, но настолько значительная по смысловой ёмкости повесть, что не упомянуть о ней просто нельзя – это «Баба-яга». Величавый образ старухи Устиньи, в одиночестве доживающей свой век в опустевшей на острове деревне, полон трагической мудрости. Председатель колхоза Парфён Иванович, представитель новых служебных веяний, всячески старается «перевезти» старуху на центральную усадьбу, а она с острова, где родилась, радостно и тяжело жила, никуда не едет, удивляя людей житейской стойкостью. И председатель отступается от неё. Это было написано – обратите внимание – в 1960 году. Слышите знакомое громкое эхо, прозвучавшее в литературе последних лет? Невозможно ещё раз не подивиться яшинской прозорливости, точности его пред-чувствования того, что непременно должно быть в жизни.
Не терпя душевной скользкости, Александр Яшин своей прозой призывал к просторной, честной, совестливой работе на земле, как того требуют наши высокие идеалы. И верил в силу своего слова, потому что взято оно было из-под самого сердца. В одном пленительно тонком рассказе «Журавли» он, вспоминая детство, с улыбкой поведал, как при отлёте журавлей кричали они, мальчишки, заговорные слова, то расстраивая птичий клин, то снова сбивая его в должный порядок. Та же вера в слово владела им до конца.
Проза требовала, что лён осенью, долгой вылежки. А стихи подступали, не давали покоя. Именно в эти последние годы свои Яшин создал три книги стихов – «Совесть», «Босиком по земле», «День творенья», ставшие ярким явлением в советской поэзии, вершиной его творчества и мастерства. Праздничные, цветастые краски, полыхавшие в ранних сборниках поэта, уступили место могучей, суровой простоте, беспощадно сверенной с самой правдой жизни.
В несметном нашем богатствеСлова драгоценные есть:Отечество,Верность,Братство.А есть ещё:Совесть,Честь…Ах, если бы все понимали,Что это не просто слова,Каких бы мы бед избежали.И это не просто слова!Часто живя на родине, Александр Яшин построил для работы дом «в получасе шаганья» от своей деревни Блудново, на высоком берегу Юг-реки, в величавом хвойном бору, где поднебесный шум навевает думы и речная прохлада освежает сердце. Стихи рождались вместе с травами, цветами, листопадом, дождями, снегами – с той же самой естественностью, как и явления природы, оттого теперь их и время не пошатне́т, а только жарче год от года будет опламенять своим дуновением, выявляя скрытый в них огонь чувства и мысли.

Творческая командировка писателей в аэропорту. Третий справа А. Яшин, левее А. Романов, В. Коротаев, В. Белов, Л. Беляев, сидят Б. Чулков, С. Чухин
Как горько, что недолго здесь довелось ему поработать. Шумят над его могилой на Бобришном угоре три берёзы, памятные всем, в ком крепнет обострённое чувство Родины. И теперь, когда на древних российских землях начались преобразования, о которых так долго тосковало яшинское сердце, парни, подобные Шурке Мамыкину из повести «Сирота», разворачивают трактора, автомашины и комбайны, а деревни ждут девушек, похожих на Нюрку, чтоб возвратить им в домах утрачённое «красное место». Ведь молодой человек в деревне без семьи – какой же он крестьянин? И без зелёного сада-огорода, без крепкого двора, обогретого сеном и коровьим дыханием, – какой же он радетель родного поля? И без тепла души – какой же он хозяин родной стороны? Не зря сказано: «Начинай устройство поля с устройства собственной души».
Обо всём этом думал-передумал Александр Яшин. Он давно понял, что только так можно поднять свежий ветер обновления родной земли. И его завет «Спешите делать добрые дела» будет услышан многими поколениями.
1980Думы о Сергее Орлове
Облик
Кто говорит о песнях недопетых?
Мы жизнь свою, как песню, пронесли…
Пусть нам теперь завидуют поэты:
Мы всё сложили в жизни, что могли.
Эти строки я впервые не прочитал, а услышал и сразу запомнил лет тридцать тому назад. Услышал их от самого автора. И с той поры в душе у меня жив его негромкий, чуть торопливый, без ораторских нажимов, буднично убеждённый голос. Это была самая первая встреча с Сергеем Орловым. В тот год, осенью, когда от белого Софийского собора мела в реку Вологду берёзовая позёмка, он приехал в наш пединститут. Собственно, он приехал к своим товарищам, тоже фронтовикам, Сергею Викулову и Валерию Дементьеву, но поскольку они в институте «возжигали» среди студенчества первый после войны литературный костёр, и состоялся тот памятный поэтический вечер.
Обстановка в институте в те годы была яркой: наполовину фронтовики, наполовину мы, ребята и девчонки, только что окончившие школу. Разница в возрасте с фронтовиками была всего в несколько лет, но эти военные годы разделили нас на два берега – один высокий, другой низкий. Нам со своего берега не дано было взойти на их берег, а они всё могли: и вступить на наш берег, и навести переправы в будущее. Мы на них, ходивших ещё в гимнастерках, смотрели с тихим восторгом. И когда они вводили нас в свой дружеский круг, это было честью и приобщением к тому времени, грозные меты которого остались у них в походке, на руках и лицах.
Продолговатый актовый зал переполнен. Вологда, всегда чуткая и отзывчивая на имена своих земляков, уже слышала о Сергее Орлове. В Ленинграде у него только что вышли первые книги. И вот он сам. Что-то необычное, огневое было в его облике: рыжеватая, словно опалённая борода, пепельное буйство волос, горящий взгляд. Молодой, подтянутый, по-студенчески распахнутый, стоял он на сцене.
После нескольких слов привета, сказанных смущённо, но душевно, стал читать стихи. И не все сразу поняли, что это уже стихи, потому что читал просто, словно разговаривал. Даже рифмы угадывались не всегда. Читал он без жестов, лишь руку вскидывал, чтобы откинуть со лба волосы. Читал как исповедовался в делах своих на войне. И эта негромкость и простота постепенно становились обжигающими: длинный зал до самых последних рядов замер не дыша.
Вот тогда-то я и услышал многие ныне ставшие знаменитыми его стихи о солдатском подвиге на Великой Отечественной войне, запомнил и солдатский облик дважды горевшего в танке самого Сергея Орлова. Духовная озарённость, огромная мыслительная работа, цельность натуры чувствовались в нём.
В разные годы вплоть до самых последних его дней у меня было немало встреч с Сергеем Орловым, но та, первая, так запала в сердце, что всегда я видел поэта таким, как в тот раз, далёкой вологодской осенью.
«Кто говорит о песнях недопетых?» Мы все говорим, горестно и беспомощно сетуя на невосполнимые утраты. Говорим, жалеем, а надо бы молча и тревожно задуматься, насколько коротка человеческая жизнь и как надо уметь прожить её в полную меру для людей, Родины, будущего. Сергей Орлов это понял ещё совсем юным, на войне, когда хоронил друзей, своих одногодков, и сам много раз умирал.
Он понимал это и тогда, когда в кромешном аду торопливо записал в блокноте:
Нам не страшно умирать,Только мало сделано,Только жаль старушку матьДа берёзку белую!..И тогда, когда чеканил бронзовые строки: «Его зарыли в шар земной…»
Но поэзия возвращала его к жизни. И он всю жизнь, всю без остатка, вложил в поэзию.
Поэтическая фреска
В одно жаркое лето в пятидесятых годах Сергей Орлов и Михаил Дудин приехали в Вологду. Мы встретили их на вокзале и вместе поехали в гостиницу «Северная». Гостиница эта в центре города, на площади, как высокий узорный торт на блюде. Она старая, ещё купеческая и прежде называлась «Золотым якорем». Помню, Орлов, щурясь от солнечной красоты здания, остановился на площади и сказал: «Ну, какая же она «Северная», она точно – «Золотой якорь». Да, умели строить!..»
Раскрыв большие жёлтые, в ремнях портфели, бывшие в то время новинкой и опахнувшие нас ленинградским, праздничным духом, гости отдыхали в прохладе номера и не спеша, по-свойски разговаривали с нами, тогда молодыми журналистами из комсомольской газеты. А потом, когда спала жара, мы вместе пошли гулять по городу. Любовались – уже в который раз – Софийским собором, чётко и легко взметнувшимся в закатное небо, тихой гладью реки, где у берега с плота женщины полоскали бельё, а по другую сторону, словно опрокинутые в воду, отражались старинные церкви.
И эта милая незатейливость будничного женского дела, и вековой узор отражённых куполов овевали нас вечерней поэзией.
Затем миновали мы Каменный мост, многолюдную площадь и остановились в парке у одинокой церкви Иоанна Предтечи. С виду она обычная, зато внутри расписана такими жаркими, сочными фресками, что по окончании работ в семнадцатом веке тогдашний вологодский владыка долго не осмеливался освятить её, посчитав роспись кощунственной и даже срамной. Смятение владыки тем более усилилось, что на ту пору прибыл в Вологду молодой и грозный государь Пётр Первый. Легенда рассказывает, что владыка в страхе всячески отводил царя от церкви, но тот пожелал её видеть. И вот Пётр, кидая в трепет местное священство своим ликом, ростом, силой и пуще того табачным дымом, встал, расставив ноги посреди церкви, зорко оглядел красочные стены и расхохотался. Роспись ему так приглянулась, что он тут же заставил владыку освятить новый храм…
Всё это мы поведали нашим гостям. Помню, Сергей Орлов, оживился необычайно, шёл, оглядываясь на церковь, и долго улыбался, не вступая уже в другой наш разговор. А потом сказал, что надо сходить к Петровскому домику. Такой домик, каменный, узорный, в котором когда-то жила вдова голландского купца Гутмана и где, по легендам, в свои приезды в Вологду останавливался Пётр, и поныне белеет на высоком речном берегу (в нём филиал краеведческого музея). И мы пошли туда. Он был открыт.
В Петровском домике немного вещей, но зато есть подлинные: камзол и кубок. Сводчатый потолок, низенькие окна на реку – всё это давало толчок для воображения. Недолго мы были здесь, каких-то полчаса, но на другой день Сергей Орлов написал яркое и густое стихотворение «Пётр Великий в Вологде». Оно похоже по полнокровной манере на одну из буйных по своим краскам фресок на стенах церкви Иоанна Предтечи.
Как колокольня ростом длинен,Сажень в плечах, глазаст, усат,Царь прибыл в город по причинеСовсем не царской, говорят.В ботфортах, сшитых саморучно,С дубиной, струганной ножом,На складах пристанских, как крючник,Царь околачивался днём…Малое стихотворное пространство, всего в сорок четыре строки, вырывает из далёкого времени, приближает, ставит перед изумлённым взором в солнечной освещённости, предметности, подвижности самую ту жизнь, зримые людские лики, размашистый, будничный образ государя, которому за речкою Вологдой видятся не леса да поля, а море, флаги, корабли – российский флот! И тут же теснятся лёгкие, живописные очертания той далёкой, минутной для Петра женщины:
Ах, либе Анна, либе Анна,Вдова голландского купца,Добра, вальяжна и желанна,Хотя и девочка с лица…И Анне в горнице не спится,Опять на дереве в окноПоёт томительная птицаИ жжёт в постели полотно.Речь тут не о летописной точности, а поэтическом чувстве историзма и о силе талантливого слова. Всем этим Сергей Орлов был наделён щедро.
Урок
Приехал однажды я в Ленинград в ту пору, когда Сергей Орлов вёл отдел поэзии в журнале «Нева». Отыскал на Невском редакцию, сдерживая волнение, вошёл в большую комнату, напоминавшую старинную гостиную, и увидел земляка в кругу не знакомых мне людей. Табачный дым клубился над их кудлатыми головами. Орлов не сразу заметил мой приход, но, когда я подошёл поближе, он вскочил и обнял меня. Всё такой же, только усталый. Отвёл в сторону и сразу же спросил, привёз ли я стихи. Стихи, конечно, лежали в портфеле, но было так неловко, страшновато их отдавать, что я замялся.
– Давай, давай, показывай, – торопил Орлов, – сейчас же и отберём для журнала…
Пришлось стихи показывать. Сергей Сергеевич закурил сигарету, достал из кармана сточенный – в мизинец – карандашик и стал пробегать строчки прищуренными глазами. Я отошёл к высокому окну и замер. Шумел, кипел за окном Невский, но я ничего не видел.
– Вот это, это и это, – сказал Орлов, удивив меня быстротой чтения и решительностью отбора стихов. – А эти затянуты, – и его карандашик пролетел по моим страницам. – Надо писать короче! – Он повернулся ко мне, с улыбкой пощипывая свою бороду. – Скажи, эти длинные стихи ты писал за столом, а вот эти – на ногах… Не так ли?
Я опять удивился: это, действительно, было так.
– Вот то-то, – он остался доволен своей догадкой. – Знаешь, я почти всегда пишу на ногах. Не пишу, конечно, а складываю и запоминаю. Записываю лишь потом, и задерживаются на бумаге только стоящие строчки. Вот ты вернёшься домой, положи эти стихи в стол, а сам уйди в лес. Поброди, а потом вслух, по памяти восстанови и прочитай – половина строчек останется в лесу…
Я так и сделал. С той поры много-много моих строчек, никому не известных, зацепились за кусты да хвойные ветки и навсегда там остались.
Холодные цветы из Пекина
В другой раз, в начале шестидесятых годов, приехали мы в Ленинград с Сергеем Викуловым. И сразу же к Орлову. Он встретил, как всегда, распахнуто. Но сам внутренне был чем-то угнетён. Это замечалось и по задумчивым его паузам, и по не такому острому, как обычно, вниманию к деревенским делам, о которых мы рассказывали с жаром.
Мы сидели в кабинете его большой ленинградской квартиры, где много книг, особенно поэтических, и возле окна письменный стол, без единого на нём листка. Потерев нервно виски, Орлов неожиданно сказал:
– А я только что из Пекина…
Не помню, как Викулов, а я ничего тревожного тогда не знал о Китае и только тут впервые услышал.
Орлов с горечью поведал о многом. Он был в Китае в составе узкой писательской делегации как раз в пору начинавшегося враждебного курса Мао Цзэдуна. Был уже закрыт свободный доступ ко многим местам, интересовавшим писателей, стеснено общение с рядовыми китайцами, и узкий металлический взгляд на каждом шагу упирался в спины русских.
…Уже после кончины поэта во втором номере журнала «Наш современник» за 1978 год читатели увидели его стихи той поры:
Пусто в городе Пекине,Все дома темным-темны,Только звёзды в небе синемНад Пекином зажжены.Два китайские солдатаПовстречались нам впотьмах,Два знакомых автоматаДулом книзу на ремнях.Ни машин, ни пешеходов,Ни китайских фонарей,Молчаливо спят у входовМорды каменных зверей.В магазине на витринеТолько лозунги видны.Пусто в городе Пекине,Но у каменной стены…Два китайские солдатаПовстречались нам впотьмах,Два знакомых автоматаДулом книзу на ремнях…Картина мрачная и холодная. Ещё не зная многого из того, что мы узнали о Китае через пять – семь лет, поэт, только соприкоснувшись с «каменной стеной», сразу почувствовал людское отчуждение, и холод пробежал по его строкам. «Два знакомых автомата» – ему ли, Орлову, не узнать было отечественного оружия, по-дружески переданного нами и вдруг зловеще представшего в пекинском сумраке. Можно понять, какая суровая тревога коснулась сердца поэта, столько пережившего на недавней мировой войне, и какая горечь полыхнула в нём, когда в Мукдене увидел он в полном запустении памятник своим побратимам, советским танкистам, освобождавшим Азию от японских захватчиков и погибшим там.
Камешку в МукденеДвадцать пять годов.На его ступеняхНикаких цветов.В городе МукденеКамень в сто пудов.До Сергея Орлова в нашей поэзии ещё не было таких стихов. Их продиктовало чуткое, мужественное сердце поэта.
…И в тот далёкий ленинградский вечер живые детали, самые малые приметы увиденного и почувствованного Орловым во время поездки в Китай глубоко взволновали нас.
В кабинете появились Виолетта Степановна, жена поэта, и его мать Екатерина Яковлевна, и Сергей Сергеевич, задёрнув на окне штору, стал показывать нам снятую им в Китае любительскую цветную киноленту.
– Вот всё, что разрешили нам снять, – сказал он, настраивая в темноте проектор.
На стене вспыхнули дивные краски, заколыхались цветы, цветы, цветы… Их было много, самых разных, редких, причудливых. Но они не радовали нас. Они казались нам холодными, словно в инее на белой стене.
Белые сквозняки
Занятый журнальными делами в Ленинграде, а потом секретарскими – в Москве, в Союзе писателей РСФСР, Сергей Орлов душой часто рвался в синеву Белозерья, но приезды его на родину были редки. Командировочные задания уводили его совсем в другие места: и по нашей стране, и по многим странам Запада и Востока. В сутолоке вокзалов, в громе аэродромов он тосковал по прохладной тишине родного Севера.
Всюду с рёвом городаНа земле зимой и летомНизвергались в никуда,Словно водопады света.Не было ни зим, ни лет,Были тропики и холод,Снег и пальмы. Белый светМчался, как волчок весёлый.Но однажды на краюВзлётной полосы, на пашне,Вдруг припомнил жизнь своюРазом всю, как день вчерашний…Вспомнил молодость свою,Как горящую ракетуВ том бою, году, краю,И ушёл, и сдал билеты.Много ныне по-туристски странствующих поэтов. Пестрота пейзажей и городов – это приставленная к глазам разноцветность игрушечного калейдоскопа: стёклышки крутятся, выстраиваясь на миг то одним, то другим узором, и зажигают глаза – тоже на миг – усталым удивлением. Такое видение не задевает сердца, не будит мысль, а только тешит тщеславие.
Поездки же Сергея Орлова были граждански заострёнными. Его вело желание ощутить космический ветер времени, примерить правду, выстраданную им и его Родиной, к жизни иных народов и земель. И всегда в нём по-фронтовому горело чувство защитника и вестника этой правды.
Родина для человека, духовно не связанного с её историей и культурой, всего лишь паспортное обозначение. Такой человек не живёт, а проживает, словно очутился по воле случая на временной пристани. Дунет непогожий ветер – и унесут его волны бог знает куда… Устойчивость человека покоится на чувстве Родины. Родное видится и вширь, и вдаль, и вглубь любящему сердцу.
Сергей Орлов тревожно любил Россию. Вся его огневая поэзия – признание в этом.
Россия – Родина моя,Холмы, дубравы и долины,Грома морей и плеск ручья,Прими, Россия, слово сына!Ты стала всем в моей судьбе,А мне за жизнь свою, признаться,Как матери, в любви к тебеНе доводилось объясняться…Россия – Родина моя!Цвет знамени, цвет ржи, цвет неба —В них слава древняя твояВзлетает с новою на гребень.И видел он, видел, когда складывал эти строки, синеву родного древнего Белозерья точно так, как Александр Яшин, создавая многие свои книги, видел сосновые гривы и ржаные озера отеческого угла за Никольском-городком. А Николай Рубцов – болотные, клюквенные, глухие просторы за Тотьмой. В этой смотровой направленности не узость, не ограниченность взгляда, а прикосновение к тайному огню поэзии – родине.
Светлый Север, лес дремучийВ узорочье, в серебре…Как медведи, в небе тучиЧёрно-буры на заре.Ели – словно колокольни,Тишина, как спирт, хмельна,И из трав встаёт над полемРыжим филином луна.Пенье вёсел, скрип уключин,Рокот журавлиных стай…Не скажу, что самый лучший,А милей всех сердцу край!В последний раз мы встретились с Сергеем Орловым в Вологде за два месяца до его кончины. Он приехал вместе с художниками как член Комиссии по Государственным премиям для осмотра в здании драмтеатра прекрасно выполненного интерьера, выдвинутого на соискание премии. Встретились мы опять-таки в старом «Золотом якоре». В городе появились уже новые гостиницы, но Орлов всю жизнь был верен своим первым привязанностям – остановился там, где много раз останавливался прежде.
Пришли мы в номер с Леонидом Николаевичем Бурковым – другом юности Орлова по Белозерску, человеком военным, душевно любящим поэзию и поэтов. По-братски обнялись, расселись друг против друга, и так стало хорошо, тепло от взаимной близости. Никаких особых перемен в Сергее Сергеевиче мы не нашли, разве что след утомлённости да то, что он отказался курить («Бросил, братцы, бросил!»). Разговор вёлся разный, живой, переходил от одного к другому, как бывает, когда давно не встречались близкие люди. Потом Орлов на правах хозяина потащил нас в гостиничный буфет, где было в глиняных горшочках тёплое топлеёное, с коричневой пенкой молоко.
– Надо же, – восхищался он, – молоко-то какое! Ну, Вологда! Прямо как в детстве… А помнишь, Леня… – и, бережно держа горшочек, отпивал из него и, по-молодому радуясь, переговаривался с Бурковым.
Я тут вспомнил его давние запашистые, густые стихи «Кружка молока» и ещё раз ощутил нежность и солнечность его души.
Поздно вечером мы собрались на квартире Буркова. Жена Леонида Николаевича Ангелина была очень рада такому гостю, как Сергей Сергеевич. На столе появились свежие в сметане рыжики, разваристая картошка, пареная брусника, горячие блинчики с малиной, клубникой, черникой…

Автограф С. Орлова
Сергей Сергеевич, раздевшись по-домашнему, отдыхал, расспрашивал Буркова об общих знакомых, о белозерских местах, жалея, что на этот раз самому не добраться туда. Он ел бруснику, собранную на родине, неторопливо, ложечками, удивляясь её особому вкусу, хотя она была такая же, как и везде. А потом, как бы желая отблагодарить земляков, сказал, что он прочтёт стихи, которые посвятил Буркову в память об одной совместной, давней – лет пятнадцать назад – вылазке в Кирики Улиты, красивейшее местечко под Вологдой, где когда-то обвенчался Сергей Есенин с Зинаидой Райх.
– Вот только на днях закончил, – улыбнулся Орлов, – а столько лет собирался, столько лет в себе носил…
Это признание всех взволновало: вот стихотворение, писавшееся годами!
Иной слушатель или читатель в такое может и не поверить, он почему-то всегда думает, что стихи, тем более короткие, создаются в один росчерк пера, но мне-то было известно, что стихи возникают по-разному.
Сергей Сергеевич, как всегда, начал просто, лишь постепенно воодушевляясь, переносясь взглядом в минувшее:
Церковь Кирики Улиты,Рыжий, красный березнякПочему-то не забыты,Не забудутся никак.Вспоминаются нежданноБез причины и тоскиНебеса, в лесу поляны,Под ногами рыжики.А от церкви следу нету,Только этот березнякЛьётся, льётся белым светом,Продувает, как сквозняк…Осенней прохладой, лесом, листопадом веяло от слов, да и сами слова, что берёзовые листья, задумчиво и закатно плыли в застольной тишине, вызывая из глубины души грустную есенинскую строку «Отговорила роща золотая».
Церковь Кирики Улиты…Всё рассыпано давно,И ищи ты не ищи ты —Не отыщешь… Всё равно.Почему-то не забыты,И звучат, плывут слова:Церковь Кирики Улиты —Словно в небе острова.Стихи были прочитаны в минуту-две, а настроение наше, озарившись ими, до конца гостеванья было уже иным, как бы приподнятым над будничностью домашней обстановки. Никаких особых слов, кроме искреннего спасибо (да Орлов и не любил порывистых похвал, всегда смущался от них), мы не сказали, – лишь я попытался выразить свое восхищение образом «только этот березняк льётся, льётся белым светом, продувает, как сквозняк» да начал было что-то говорить о жизнетворящей и ёмкой силе поэтического слова вообще. Но Сергей Сергеевич задумчиво помолчал и очень мягко, душевно предложил тост – последний – за хозяйку дома.
Расставались хорошо, тепло, и теперь горько сознавать, что это расставание оказалось навеки.
Свет мужества и мысли
Настоящие стихи обладают двойным свечением: одним – при жизни поэта, другим – после него. То, что не замечалось в стихах при ощутимой близости их автора, сразу же и по-особому значительно замечается, когда автор уходит от нас и оставляет нас навсегда только со своими строками – уже ничего он не поправит, не добавит, не переделает. Даже те стихи, которые при жизни поэта представлялись не главными его стихами, а второго, а то и третьего плана, вдруг обретают не видимую ранее глубину, и внимательный читатель как бы уже иным, обострённым зрением улавливает в них далёкие и существенные связи во времени. Даже запятые и многоточия, порой даже корявости слога воспринимаются совершенно иначе: в них находится свой смысл.