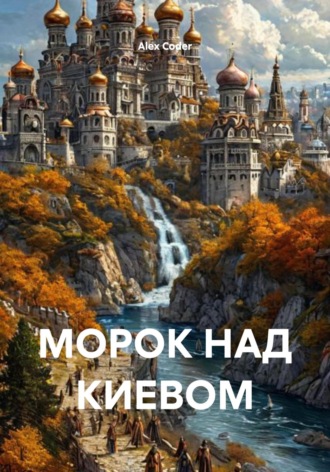
Полная версия
МОРОК НАД КИЕВОМ
Всего в сотне шагов от ворот, прямо на раскисшей от сырости дороге, стояла брошенная телега. Это был небольшой, но богатый караван местного скорняка Радима, человека осторожного и неглупого. Почувствовав, что в городе творится неладное, он решил не искушать судьбу и уехать к своей родне в деревню, переждать "лихое время". Он так и не уехал.
Три ломовые лошади, сильные и выносливые животные, лежали мертвыми в своей кожаной упряжи. Они умерли в агонии. Их огромные тела были напряжены и скрючены, глаза вылезли из орбит и были полны застывшего ужаса, а из оскаленных в последнем ржании пастей текла густая, мыльная пена. На их шкурах не было ни единой раны, ни царапины.
Тела двоих помощников Радима, молодых и сильных парней, валялись рядом с телегой, раскинув руки, словно пытались обнять небо. И они были точь-в-точь как Остромир. Жуткие, нечеловеческие копии. Их волосы, еще вчера русые и густые, стали абсолютно седыми, белыми, как мел. Лица высохли, превратившись в восковые маски, застывшие в выражении такого запредельного ужаса, что смотреть на них было физически больно. Самого скорняка и его десятилетнего сына, который ехал с ним, нигде не было. Они не были убиты. Они просто исчезли. Испарились.
Но самое страшное, самое противоестественное было в другом. Яромир подошел к телеге и откинул брезент. Весь товар – дорогие, тщательно выделанные шкуры соболя, куницы, черно-бурых лисиц, которые стоили целое состояние, – лежал на месте, аккуратно уложенный. Это не было разбойное нападение. Любой, даже самый тупой разбойник, забрал бы меха и лошадей, перерезав глотки всем, кто встал бы на пути. Эта тварь не нуждалась в земных богатствах.
Яромир медленно, как волк, идущий по следу, обошел место трагедии. И снова та же, до тошноты знакомая картина, что и на стройке. Ни следов. Ни борьбы. Только разлитый в воздухе мертвый, всепоглощающий ужас, который оставил свои отпечатки на лицах мертвецов и, казалось, впитался в саму землю. Тот же острый, озоновый запах мороза и небытия. Он поднял глаза на высокие городские стены, скрывающиеся в туманной дымке, и понял страшную вещь. Это случилось не за стенами. Это случилось прямо у порога. Оно пришло, постучалось, забрало то, что хотело, и ушло.
– Закрыть ворота, – глухо, будто из-под земли, приказал он стоящему рядом начальнику стражи. – Все. Никого не впускать. Никого не выпускать. До особого распоряжения князя.
Дружинник, опытный и закаленный в боях воин, посмотрел на него с испугом, который не смог скрыть.
– Но, воевода… как же так? Там же купцы могут подойти с юга… Люди…
– Выполнять! – рыкнул Яромир, и в его голосе впервые за долгое время прорезался живой, яростный металл, заставивший начальника стражи вздрогнуть и вытянуться.
С жалобным, протяжным скрипом, похожим на стон умирающего великана, тяжелые дубовые створки Житних ворот начали медленно сходиться. Солнечный свет, пробивавшийся сквозь серую мглу, превратился в узкую щель, которая становилась все тоньше и тоньше. Киев отрезали от внешнего мира. Но это было сделано не для защиты. Это было сделано для изоляции. Город стал тюрьмой. Или, что было вероятнее, гробницей.
Яромир смотрел, как последняя полоска света исчезает, и огромный засов с глухим, окончательным стуком встал на свое место. Они заперты. Он, князь, дружина, женщины, дети. Все они теперь заперты здесь. Вместе с тем, что убивает по ночам. И теперь ему не нужно будет утруждать себя, охотясь снаружи. Теперь оно начнет пиршество внутри стен.
Глава 11
Приказ закрыть ворота был исполнен с мертвенной, безропотной поспешностью. Огромные, окованные железом дубовые створки, толщиной в два мужских торса, сошлись с протяжным, мучительным скрипом. Массивный засов, бревно, которое могли поднять лишь четверо сильных мужчин, с глухим, окончательным стуком лег в свои пазы. Бум. Этот звук, отдавшийся эхом по всему городу, стал последним ударом молотка по крышке гроба. Киев стал островом. Но он был окружен не спасительной водой, а бесконечным, неподвижным, серым морем тумана.
Ощущение ловушки перестало быть просто предчувствием. Оно стало физическим. Его можно было потрогать, попробовать на вкус. Люди, самые смелые или самые глупые, подходили к городским стенам, взбирались на валы, надеясь разглядеть дорогу, увидеть привычные очертания леса или изгиб реки. Но они отступали, их лица были бледными от суеверного ужаса. Мир за стенами просто исчез. Он не был просто скрыт туманом. Он перестал существовать. В воздухе стояла абсолютная, противоестественная тишина. Не было слышно криков речных птиц. Не было слышно шума ветра в верхушках деревьев. Не доносилось даже отдаленного скрипа телеги или лая собаки из ближайшего села. Ничего. Абсолютная, звенящая в ушах пустота. Казалось, город вырвали из ткани реальности и поместили в беззвучный, серый вакуум.
И тогда паника, которая до этого была лишь тихим, ядовитым шепотом, обрела голос. Она закричала.
У немногочисленных колодцев, к которым теперь выстраивались огромные очереди, то и дело вспыхивали дикие, ожесточенные драки. Люди дрались не на жизнь, а на смерть за право набрать лишнее ведро мутной, отдающей тиной воды. Дружинники, которых поставили охранять порядок, угрюмо наблюдали за этим, лишь изредка проходясь кнутами по спинам самых буйных. Они и сами были напуганы до дрожи.
На торжище, которое теперь было почти пустым, какая-то женщина, жена дровосека, с растрепанными волосами и безумными глазами, взобралась на пустой прилавок и начала кричать. Она вопила, что ее муж, ушедший в лес за дровами три дня назад, так и не вернулся. Но он не умер. Теперь он бродит где-то там, в тумане за стенами, и каждую ночь подходит к их дому и зовет ее по имени. Он зовет ее пойти с ним. В ее голосе было столько неподдельного ужаса, что толпа, собравшаяся вокруг, молчала. Ей никто не верил, и одновременно все верили безоговорочно.
Эта история стала спусковым крючком для массовой паранойи. Каждый начал смотреть на своего соседа, вчерашнего друга или родственника, с затаенным, звериным подозрением. Не он ли тот, кто принес скверну в свой дом? Не шепчет ли ему по ночам та же безымянная тварь, что свела в могилу Остромира и заставила исчезнуть скорняка Радима с сыном? Люди стали шарахаться друг от друга. Старые обиды, соседские ссоры, давняя зависть – все это теперь расцвело пышным, ядовитым цветом. Каждый мог быть проклят. Каждый мог быть носителем заразы.
Вместе со страхом в город пришел его старший брат – голод. Ворота были закрыты. Никакие караваны, никакие обозы с провизией больше не могли попасть в Киев. Небольшие запасы муки и зерна, хранившиеся в княжеских амбарах, начали таять на глазах. Купцы, учуяв запах наживы, взвинтили цены на хлеб так, что он стал дороже золота. Простые ремесленники, плотники, гончары больше не могли его себе позволить. Их дети плакали от голода, а в глазах отцов загорался холодный, отчаянный огонь.
Киев, еще неделю назад богатый, шумный, полный жизни, стремительно превращался в осажденную крепость. Но враг был не снаружи, не в степи. Он уже давно просочился внутрь. Он сидел в каждом доме, в каждом погребе. Он поселился в каждой дрожащей от страха и голода душе.
Глава 12
За два дня до того, как тяжелый дубовый засов на Житних воротах с глухим стуком отрезал Киев от мира, по вытоптанной южной дороге к городу медленно двигался караван. Он был похож на жирную, ленивую гусеницу, ползущую к своей гибели. Во главе этого каравана, восседая на низкорослой, но выносливой лошадке, которая кряхтела под его весом, ехал греческий купец Зосима.
Зосима был человеком, вылепленным из жира, самодовольства и золота. Его тучное тело было затянуто в дорогой византийский шелк, который неприятно обтягивал его необъятный живот и потел под мышками. Его пальцы, похожие на сардельки, были унизаны перстнями с дешевыми, но крупными камнями. От него несло потом, чесноком и дорогим, но уже прокисшим вином. Он вез товар, который мог бы купить половину этого варварского города: тугие рулоны переливающейся парчи и тончайшего, как паутина, шелка, сотни пузатых амфор с терпким крымским вином и золотистым оливковым маслом, мешочки с пряностями, чей аромат сводил с ума, и шкатулки, набитые искусными ювелирными украшениями.
От встречных оборванцев, бегущих из Киева, он слышал бредовые россказни о какой-то "хвори", о "мороке", что напал на город. Он лишь посмеивался, и его тройной подбородок трясся. Смех у него был неприятный, влажный.
– Варварские суеверия, – говорил он капитану своей охраны, сплевывая на дорогу. – У этих северных дикарей вечно какая-то херня творится. То у них лешие в лесу баб портят, то русалки мужиков в реку утаскивают. Их языческие, уродливые божки беснуются оттого, что свет истинной Христовой веры скоро озарит и их темные, некрещеные души. Не более.
Его охрана, дюжина наемников – смесь свирепых печенегов, молчаливых угров и пары таких же греков-головорезов, – не была так самоуверенна. Это были бывалые псы войны, чья шкура задубела от шрамов, а души – от вида чужой смерти. Они чуяли опасность не головой, а нутром. И чем ближе они подходили к Киеву, тем сильнее их нутро сжималось в холодный узел.
Туман, который они встретили, был не похож ни на один из тех, что они видели. Он не висел в низинах, он стоял сплошной, серой стеной, как будто сама земля испускала эти холодные, гнилостные миазмы. Лошади начали сходить с ума. Они храпели, прядали ушами, их глаза дико вращались. Животные упирались, не желая идти в эту серую, безмолвную пелену, и наемникам приходилось нещадно хлестать их кнутами.
Ночью, когда они разбили лагерь всего в паре переходов от городских стен, тревога стала почти невыносимой. Костры, которые они разожгли, горели плохо. Дрова, казавшиеся сухими, шипели и дымили, а пламя было тусклым, синеватым и не давало тепла. А лес… лес молчал. Не было слышно ни треска сверчков, ни уханья совы, ни шелеста листвы. Тишина была такой глубокой, такой абсолютной, что в ушах начинало звенеть.
– Не нравится мне эта тишина, господин, – сказал Курбан, капитан наемников, седой печенег с лицом, похожим на старую, потрескавшуюся кожу. Он не раз смотрел смерти в лицо, но такой тишины не слышал никогда. – В этой тишине нет жизни. Ни зверя. Ни птицы. Словно все сдохло или сбежало.
– Перестань выть, как старая баба, Курбан, – презрительно отмахнулся Зосима, отрывая зубами жирный кусок вяленого мяса. – Боишься тумана, как дитя, которое прячется под одеяло от темноты? Завтра мы будем в Киеве. В городе, где ворота на замке, а люди готовы продать душу за мешок муки. Мы продадим наш товар князю и его перепуганным боярам не за двойную, а за тройную цену! Представляешь, сколько серебра мы выручим?! Вот о чем должны болеть твои мозги, а не о бабьих сказках про молчаливый лес.
Но в ту ночь никто в караване не спал спокойно. Даже сытый и пьяный Зосима. Всем снились липкие, тревожные кошмары. Курбану снилось, что он тонет в бездонном болоте, и что-то холодное и скользкое обвивает его ноги. Другим наемникам – что их мечи превращаются в ржавчину, а зубы выпадают изо рта.
Зосиме приснился самый жуткий сон. Он стоял посреди своего шатра, и его окружали рулоны шелка. Он прикасался к ним, но вместо гладкой, прохладной ткани его пальцы ощущали что-то влажное, осклизлое и живое. Шелк под его руками гнил, расползался, превращаясь в мокрую, вонючую, пульсирующую паутину, которая начала оплетать его, прилипая к коже.
Он проснулся с криком, весь в холодном, липком поту. Его сердце бешено колотилось в жирной груди. Туман стоял вокруг лагеря плотной, непроницаемой стеной. Тишина была такой же абсолютной. И в этой тишине Зосиме показалось, что он слышит низкий, медленный, ритмичный звук. Словно кто-то огромный, невидимый, лежащий прямо за границей света от костра, тихо дышит. Вдох… Выдох…
Глава 13
Прошел день. Потом другой. Когда богатый караван грека Зосимы, о прибытии которого донесли еще раньше, так и не появился у наглухо запертых южных ворот, Яромир понял, что произошло худшее. Эта тварь, что бы она ни была, не ограничилась окрестностями северных стен. Она была везде.
Отдать приказ открыть ворота, даже на короткое время, он не мог. Это было бы равносильно тому, чтобы добровольно впустить в дом чуму. Каждый, кто находился за стенами, был потенциально заражен, проклят, помечен. Но и сидеть сложа руки, пока люди исчезают и умирают прямо у порога его города, он тоже не мог. Это противоречило всему его существу, его единственной функции.
Он отобрал отряд. Десять человек. Не самых сильных и не самых отчаянных. Он выбрал самых хладнокровных, самых молчаливых и невозмутимых. Людей с пустыми глазами, которые видели достаточно смертей, чтобы не впасть в истерику при виде очередной. Он не стал объяснять им, что они ищут. Просто приказал собраться у южной стены. Там, вдали от ворот, в месте, где отвесный склон был особенно крут, он приказал спустить их по толстым просмоленным веревкам. Одного за другим.
Они оказались в другом мире. Мире серого, вязкого, как кисель, марева. Тишина была здесь не просто отсутствием звука. Она была физической. Она давила на уши, закладывала их, заставляла слышать стук собственной крови. Каждый шаг тонул в сырой, мертвой земле. Дружинники двигались цепочкой, как призраки, держась на расстоянии вытянутой руки друг от друга. В их руках были обнаженные мечи и топоры, но против кого их применять? Враг, не имеющий ни плоти, ни звука, был везде и нигде одновременно. Воздух пах гнилой водой и могильной землей.
Они нашли караван в низине, у пересохшего ручья, где туман был особенно густым и холодным. Зрелище было настолько жутким и противоестественным, что даже у этих закаленных убийц перехватило дыхание.
Пять груженых телег стояли в идеальном порядке, будто просто остановились на привал. Рядом лежали мертвые лошади и все двенадцать наемников-охранников. Картина в точности повторяла то, что они видели у северных ворот, только в большем масштабе. Мертвые лошади. Мертвые люди с белоснежными волосами и лицами, застывшими в масках абсолютного, нечеловеческого ужаса. Некоторые из них умерли, выхватив оружие. Седой печенег Курбан так и лежал, сжимая в окоченевшей руке свой кривой ятаган, его лицо было обращено к небу, а в открытых глазах застыло отражение чего-то невыразимого.
Тело самого Зосимы нашли в его роскошном шатре. Тучный грек сидел на своем сундуке с серебром. Он умер, пытаясь обнять его. Его толстые пальцы с перстнями так сильно вцепились в окованную железом крышку, что ногти сломались, и под ними запеклась черная кровь. Но самым страшным были его глаза. Широко открытые, вылезшие из орбит, они были полны не просто ужаса. В них застыло чистое, кристальное, беспримесное безумие. Он умер не от страха. Он умер от того, что его разум увидел и не смог вместить.
Яромир молча прошел по лагерю смерти. Все было на своих местах. Дорогие шелка, нетронутые. Пузатые амфоры с вином, неразбитые. Шкатулки с побрякушками, незапертые. Даже кожаные кошельки, набитые серебром и медью, так и висели на поясах у мертвых охранников.
– Что это, воевода? – прошептал молодой дружинник рядом с ним. Его лицо было цвета тумана. – Что это за тварь, которой не нужно ни золото, ни добро, ни бабы? Чего она хочет?
Яромир ничего не ответил. Чего она хочет? Этот вопрос был неправильным. Эта тварь не хотела. Она просто питалась.
Он подошел к одной из телег и резким движением откинул полог. Амфоры с вином, аккуратно уложенные в солому, были целы. Он провел рукой по внутренней деревянной обшивке телеги. Его пальцы наткнулись на что-то влажное, холодное и осклизлое. Он поднес руку к лицу.
На подушечках пальцев остался черный, бархатистый налет. Он посмотрел на стенку телеги, и его сердце, казалось, на мгновение остановилось, пропустив удар.
Там, на сухом, просмоленном дереве, проступили странные влажные пятна. Иссиня-черные, они расползались по доскам, как уродливая болезнь, образуя узоры, похожие на переплетенные корни или вены умирающего. Плесень. Та самая, которую он видел на стройке. Проклятая метка. Она была и здесь.
Глава 14
Это была плесень. Но это слово, обыденное и понятное, было слишком ничтожным, чтобы описать это. Это не была знакомая зеленоватая или белая плесень, что растет на забытом хлебе или в сырых, вонючих погребах. Эта была другой породы. Породы самой преисподней.
Она была иссиня-черной, как глубокий синяк на теле мертвеца, с бархатистой, матовой поверхностью, которая, казалось, поглощала свет. От нее исходил едва уловимый, но омерзительно-навязчивый запах. Это был не просто запах гнили. Это был сложный букет: запах холодной, стоялой, болотной воды, земли, только что выкопанной из глубокой могилы, и едва заметная, острая нотка озона, как от ледяного металла. Этот запах проникал в носоглотку и оставался там, вызывая приступы тошноты.
Пятна, которые она образовывала, не были хаотичными, как у обычной плесени. Они словно обладали собственным, зловещим разумом. Узоры были сложными, фрактальными. Они походили на корни какого-то немыслимого, больного дерева, которое росло не вверх, а вниз, в самые недра земли. Или на сотни переплетенных в предсмертной агонии человеческих рук с тонкими, скрюченными пальцами.
И она была холодной. Яромир, поборов брезгливость, коснулся одного из пятен кончиком пальца. Прикосновение было шокирующим. Плесень была ледяной. Не просто прохладной, как мокрое дерево, а именно мертвенно-холодной, будто под тонким бархатистым слоем скрывался кусок льда, принесенный из самой вечной мерзлоты. От этого прикосновения по руке пробежал неприятный, зудящий озноб.
Отдав приказ сжечь все – телеги, товар, тела, чтобы эта зараза не поползла дальше, – отряд вернулся в город. И Яромир, чьи глаза теперь были настроены на поиск этой скверны, начал видеть ее повсюду. Город был болен. И эта черная плесень была его язвами.
Сначала он замечал ее в темных, влажных, укромных местах, куда редко падал солнечный свет. На северных, мшистых стенах домов, у самой земли. На потемневших от времени деревянных срубах колодцев, прямо над водой. Она прорастала в глубоких щелях между бревенчатыми мостовыми, словно черные вены, проступающие на коже умирающего.
Но очень скоро она начала появляться и в домах. Она вторгалась в личное пространство, в быт, в самые сокровенные уголки человеческой жизни, оскверняя все, к чему прикасалась.
Гончар с Подола, тот самый, чья жена слышала голос мертвого отца, с воплем отшатнулся от своей кадки с глиной. Ночью она была чистой. Утром весь влажный ком, приготовленный для работы, был оплетен густой сетью черных, морозных узоров. Плесень не смешивалась с глиной, она лежала на поверхности, как живая, дышащая татуировка.
Пекарь, просеивая остатки муки, увидел ее на самом дне мешка. Черное, бархатистое пятно, похожее на отпечаток чьей-то костлявой руки. Он с криком вышвырнул весь мешок на улицу, и голодные соседи смотрели на него, как на безумца, пока сами не увидели черную метку.
Самое страшное произошло в лавке старой, набожной Ирины, торговавшей иконами, которые писал ее сын-калека. Она пришла утром, чтобы зажечь лампаду, и увидела, что прямо на лике Спасителя, на новой, покрытой лаком иконе, проступила черная плесень. Она расползлась от глаз святого, словно черные слезы, покрывая его лик омерзительными, язвенными пятнами. Старуха с диким, животным криком выбежала из своей лавки, и больше в нее не возвращалась.
Плесень вела себя не как живой организм. Она не портила дерево, не разъедала ткань, не заставляла гнить еду. Она просто была. Она появлялась, как знамение, как клеймо. Холодное, неживое, но неопровержимое напоминание о том, что гниль уже не снаружи. Она внутри. Она расползается по артериям и венам города, как раковая опухоль, отмечая своим черным, ледяным прикосновением все, к чему привыкли и что любили люди.
И каждый, кто видел ее, чувствовал одно и то же. Не просто страх или отвращение. Это был глубинный, иррациональный, экзистенциальный ужас. Ужас перед осквернением, перед вторжением чего-то абсолютно чуждого, что превращало знакомый, теплый мир в холодный, больной и умирающий кошмар
Глава 15
Проклятая плесень стала последней каплей, переполнившей чашу ужаса. Она была тем неопровержимым, осязаемым доказательством, которое превратило глухой, сдерживаемый страх в полномасштабную, визжащую истерию. Город, словно одержимый бесом, сошел с ума. Хрупкая оболочка цивилизации, удерживаемая княжеским законом и привычкой, треснула и рассыпалась в прах. Наружу вырвался первобытный, звериный ужас.
Рынок на Подоле, еще недавно – кипящее сердце города, умер. Прилавки опустели. Торговцы, бросив свой товар, заперлись в своих домах. Да и кто бы стал что-то покупать? Никто больше не хотел прикасаться к еде, на которой в любой момент могла проступить черная, ледяная метка. Хлеб, овощи, мясо – все стало потенциальным источником заразы, проклятия.
Голод, который до этого был лишь угрозой, стал реальностью. И он снес все плотины. Начался грабеж. Это было не воровство под покровом ночи. Это были открытые, яростные набеги. Обезумевшие от голода и страха толпы, вооруженные чем попало – топорами, вилами, дубинами, – начали вламываться в амбары бояр и купцов. Двери с треском вылетали из петель. Люди, с горящими, безумными глазами, хватали мешки с зерном, окорока, бочонки с медом, отталкивая и избивая друг друга. В воздухе стояли крики, мат и плач.
Дружина пыталась навести порядок, но что горстка воинов могла сделать, когда обезумела целая толпа в несколько сотен человек? Яромир, наблюдавший за этим с Горы, видел, как его дружинники, сами бледные от страха, пытались оттеснить людей, но их просто смяли. Началась резня. Один из купцов, пытавшийся защитить свой амбар с мечом в руках, был растерзан на куски. Его крики потонули в реве толпы. Порядок рухнул. Закон умер. В городе воцарилось право сильного и отчаявшегося.
Отчаяние толкало людей на безумные поступки. Несколько семей, потеряв всякую надежду, решили, что смерть за стенами лучше, чем голод и безумие внутри. Ночью они попытались сбежать. Они сплели веревки из всего, что смогли найти – из старых вожжей, тряпок, даже из собственных волос. Под покровом тумана они попытались спуститься с высокой городской стены. Но их самодельные веревки не выдержали. С диким криком они сорвались вниз, с высоты в десять человеческих ростов.
Утром их нашли. Вернее, то, что от них осталось. Размозженные, переломанные тела, превратившиеся в груду мяса, костей и тряпья, лежали у подножия вала. Их изуродованные трупы пролежали там несколько часов, так как никто не решался к ним подойти, боясь осквернения. Лишь к полудню стражники, зажав носы, нехотя стащили останки в ближайший овраг и присыпали землей.
Люди заперлись в своих домах, забаррикадировав двери и окна всем, что попадалось под руку. Улицы Киева, еще недавно полные жизни и вони, опустели. Они стали мертвыми. Теперь по ним гулял лишь сырой, холодный ветер, гоняющий мусор, клочья сена и бесформенные, ползущие клочья тумана. Тишина стала абсолютной. Она нарушалась лишь звуками, которые делали ее еще страшнее: глухим, заунывным плачем, доносившимся из-за какой-нибудь запертой двери. Или внезапным, истошным криком человека, которому в очередной раз привиделся его личный кошмар наяву. Крик раздавался, обрывался, и снова наступала тишина.
Всякая надежда умерла.
Княжеская власть? Она оказалась бессильна.
Дружина? Воины боялись не меньше простых смердов.
Стены? Они превратились из защиты в тюремные оковы.
Все земное, все материальное, все, на что привыкли полагаться люди, оказалось абсолютно бесполезным против врага, у которого не было ни плоти, ни имени, ни цели, понятной человеческому разуму.
И тогда, когда не осталось ничего другого, отчаявшиеся, полные ужаса взгляды обратились вверх. К последнему, самому древнему оплоту.
К богам.
Глава 16
Доброгнез, верховный волхв главного капища Перуна, был человеком, высеченным из камня и гордыни. Его фигура, высокая и еще не согбенная годами, внушала трепет. Его борода, густая, белоснежная и ухоженная, спускалась до самого пояса, и он носил ее как символ своей власти и мудрости. Но главным в нем были глаза. Светло-серые, почти бесцветные, они смотрели на мир свысока, с холодным, орлиным презрением. Взгляд человека, который убежден, что говорит напрямую с богами.
Он презирал все, что не вписывалось в его картину мира. Новомодную, рабскую греческую веру с ее распятым, истекающим кровью богом он считал уделом слабых и нищих духом. Всех мелких духов природы, которых задабривали бабы по деревням – леших, водяных, домовых, – он считал не более чем мелкими, вонючими бесами, паразитами, недостойными даже его внимания. В его вселенной были лишь великие, грозные боги: Перун-громовержец, чья ярость сотрясает небеса; мудрый и хитрый Велес, хозяин скота и подземного мира; щедрый Даждьбог, дарующий свет и тепло. И он, Доброгнез, был не просто их слугой. Он был их голосом, их руками, их волей на этой земле.









