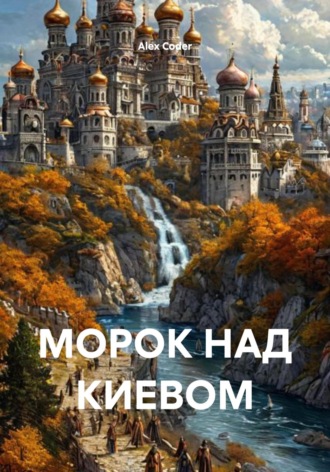
Полная версия
МОРОК НАД КИЕВОМ
Остромир на стройке сидел у своего маленького, жалкого костерка. Огонь был его единственным другом в этой пустыне тишины и мрака. Но даже он его предавал. Пламя горело неохотно, языки были короткими, чахлыми и имели нездоровый, синеватый оттенок. Казалось, туман давит на него сверху, высасывая жизнь и тепло. Старик то и дело подбрасывал в огонь сухие щепки, и они загорались с шипением, будто были сырыми. Он беспокойно озирался, но его взгляд упирался в плотную серую стену. Мгла сгустилась до состояния прокисшего молока. Она скрыла от него и недостроенный терем, и очертания леса, и далекие, редкие огни города. Он был абсолютно один в этом беззвучном, холодном мире. Словно его вырезали из реальности и поместили в отдельный, маленький ад.
Внезапно он услышал шорох. Сухой, царапающий звук. Совсем рядом, за спиной.
Старик вскочил с бревна с проворством, которого сам от себя не ожидал. Его рука мертвой хваткой вцепилась в гладкую, отполированную тысячами прикосновений рукоять топора.
– Кто здесь?! – хрипло крикнул он. Голос прозвучал глухо, слабо. Туман сожрал его, не дав отразиться эхом.
Ответа не было. Лишь тишина, которая после его крика стала еще более плотной, давящей. Остромир всматривался в серую пелену, пока его старые глаза не заслезились от напряжения. Ничего. Ни тени, ни движения. «Показалось, – проскрипел его мозг. – Старые уши играют с тобой злые шутки, дед. Или лиса пробежала». Он тяжело опустился обратно на бревно, но расслабиться уже не мог. Сердце, до этого мерно стучавшее в груди, теперь колотилось где-то в горле, как пойманная птица.
И тут он услышал снова. Это был уже не шорох. Это был шепот. Ледяной, пробирающий до самого позвоночника. Прямо у него за спиной, так близко, что он почувствовал на затылке холодное дыхание.
Шепот был тихим, как шелест сухих осенних листьев, но каждое слово было кристально ясным. Голос назвал по имени его жену, Марфу, умершую прошлой зимой от легочной хвори у него на руках.
– Марфа… – прошелестел голос.
Остромир обернулся так резко, что чуть не свалился с бревна. Вены на его шее вздулись, глаза вылезли из орбит. Никого. Пустота. Серый, клубящийся туман. Костер почти погас. Оставшиеся угли едва тлели, бросая слабый, кровавый отсвет. Холод стал физически невыносимым. Он проникал под кожу, в мышцы, в самые кости, замораживая кровь в жилах. Старик хотел закричать, позвать на помощь, но из горла, парализованного ужасом, вырвался лишь сдавленный, сиплый хрип, похожий на предсмертный бульк утопленника.
И тогда он увидел движение. В самой гуще тумана, прямо перед ним, мгла начала сгущаться, чернеть, уплотняться. Она обрела неясные, постоянно меняющиеся, кощунственные очертания. Это было похоже на тень, но тень, которая жила своей собственной жизнью. Тень от чего-то, чего не должно существовать. Она не имела ни рук, ни ног, ни лица, но Остромир почувствовал, что она смотрит на него. Смотрит без глаз, но видит его насквозь, до самого дна души, туда, где в темном, вонючем углу забился и скулил его самый глубинный, первобытный страх.
Страх смерти. Страх боли. Страх одиночества. Страх безумия. Все его мелкие и большие страхи, копившиеся всю его долгую, нелегкую жизнь, вдруг слились в одну чудовищную, всепоглощающую волну и ударили ему в грудь, как таран.
В его голове, словно наяву, вспыхнули картины. Вот он, маленький, заблудился в ночном лесу. Вот его бьет отец за разбитый горшок. Вот он видит свою мертвую мать, лежащую на столе с монетами на глазах. А вот он держит холодную руку своей Марфы, чувствуя, как уходит ее последнее дыхание. Все, чего он когда-либо боялся, обрушилось на него одновременно.
Остромир отшатнулся, его пальцы разжались, и топор с глухим стуком упал на землю. Он открыл рот в беззвучном, детском крике, глядя, как безликая тьма медленно, неотвратимо, как лавина, движется к нему, заполняя собой все пространство. Его сердце сжалось в ледяной, сморщенный кулак и остановилось. Последнее, что он увидел – была абсолютная, бесконечная пустота, которая с любопытством заглянула в его остекленевшие глаза.
Глава 6
Утро не принесло облегчения. Оно принесло лишь новую, более утонченную форму ужаса. Солнце, взошедшее над горизонтом, было бледным, анемичным, будто у самого светила за ночь выпили всю кровь. Его бессильные лучи не могли пробиться сквозь туман, не могли разогнать его. Мгла не рассеялась, как это бывало всегда. Она лишь поредела, превратившись в серую, нездоровую, маслянистую дымку, которая, казалось, висела на всем, как саван. Она цеплялась за острые крыши домов и голые верхушки деревьев, как гнилая паутина. Воздух был неподвижен, тяжел и пропитан болотной сыростью. И он пах. Пах концентрированной гнилью, как вскрытый склеп, где десятилетиями прела плоть, смешиваясь с запахом прелых листьев и сырой, холодной земли. Этот запах забивался в ноздри, оседал на языке, и казалось, от него невозможно отмыться.
Первым на стройку прибрел, а не пришел, десятник Прохор. Он сразу, еще на подходе, почувствовал, как по его спине поползли липкие мурашки. Что-то было не так. Гнетущая, мертвецкая тишина. Это была не просто тишина. Это было отсутствие жизни. Он не услышал привычного старческого кашля Остромира. Не было слышно, как тот рубит щепки для утреннего костра. В воздухе не пахло дымом. Это отсутствие мелких, привычных звуков пугало больше, чем любой крик.
– Остромир! – позвал он, и его голос прозвучал жалко и чужеродно в этом ватном, приглушенном воздухе, утонув без эха. – Старый хрен, ты где? Заспал, что ли?
Он обошел недостроенный сруб, его сапоги противно чавкали в грязи. И увидел его. И мир Прохора рухнул.
Сторож сидел на том же самом бревне, у давно погасшего и остывшего кострища. Он сидел совершенно неподвижно, как каменный идол, поставленный здесь какой-то злобной, насмешливой силой. Голова его была неестественно откинута назад, словно ему сломали шею. Глаза, широко открытые, стеклянные и невидящие, смотрели прямо в серое, равнодушное небо. Но страшен был не сам взгляд. Страшным было то, что в них застыло. Прохор, который видел и мертвецов в бою, и утопленников, и повешенных, никогда не видел такого. Это было не выражение боли или страха. Это был отпечаток, слепок абсолютного, вселенского ужаса. Ужаса, для которого у человека нет и не может быть слов, ужаса перед бездной, заглянувшей в ответ. Выражение, которое могло быть только на лице того, кто увидел истинный, омерзительный облик вселенной.
Но даже не это заставило мочу Прохора тонкой теплой струйкой потечь по его ноге. Самым страшным, самым противоестественным были волосы старика.
Вчера еще обычные, седые с темной проседью, они стали абсолютно, невозможно белыми. Не просто седыми – они потеряли всякий цвет, словно сама жизнь была вытравлена из каждой волосяной луковицы. Белые, как свежевыпавший снег, как очищенная кость. Каждая волосинка на голове, в его густой бороде, его редкие брови, даже волоски в ушах и ноздрях – все было мертвенно-белым.
Его лицо превратилось в высохшую маску. Кожа, до этого просто морщинистая, стала желтовато-серой, как старый восковой огарок, и высохла, плотно обтянув череп. Щеки ввалились, губы сморщились, обнажив потемневшие зубы в жутком оскале-улыбке. Казалось, из тела не просто ушла жизнь – из него высосали всю влагу, всю кровь, всю суть, оставив лишь пустую, хрупкую оболочку, иссохший человеческий стручок. Рядом на влажной земле валялся его верный топор. Чуть поодаль – опрокинутая фляга, из которой вытекла вся вода. В руке, застывшей в странной, скрюченной позе, Остромир все еще сжимал кусок недоеденного, почерневевшего хлеба.
Мозг Прохора отказывался принять эту картину. Она была слишком неправильной, слишком кощунственной. На одно мгновение ему показалось, что это просто дурная, злая шутка. А потом понимание обрушилось на него, как удар обуха.
Из его горла вырвался не крик, а тонкий, похожий на свиной визг звук. Он зажал рот рукой, давясь рвотой, которая подкатила к горлу. Он попятился, споткнулся о бревно и упал навзничь в ледяную грязь. Не чувствуя ни холода, ни боли, он перевернулся, вскочил на четвереньки и, как обезумевший зверь, бросился бежать. Прочь. Прочь от этого места, от этого седого трупа, от его стеклянных глаз, которые, казалось, все еще смотрят на него из пустоты. Он бежал, спотыкаясь, падая, снова вскакивая, царапая руки о щепки, не разбирая дороги. В его голове билась только одна мысль: "Прочь, прочь, прочь!". Он должен был добежать до детинца, до людей, до света, рассказать об этом… об этом… Но он не знал, как это назвать. И это было хуже всего.
Глава 7
Яромир стоял над телом Остромира, как скала посреди бурного потока чужих эмоций. Он пришел вместе с Прохором, который все еще дрожал, как в лихорадке, и которого мутило от ужаса, и с княжеским лекарем, греком по имени Феофан. Вокруг, на безопасном расстоянии, уже сбилась в кучку толпа. Первые рабочие, пришедшие на стройку, стояли и пялились, как на диковинное зрелище. Их лица были бледными, они боязливо перешептывались, плевали через плечо и торопливо крестились – кто двумя пальцами, по-гречески, кто тремя, как учили новоявленные священники. Этот страх был липким и заразным.
Яромир молчал. Он делал то единственное, что умел делать безупречно, то, что не раз спасало ему жизнь на поле боя и в грязных переулках. Он наблюдал. Его разум, холодный и острый, как скальпель, отсек все лишнее – слухи, шепот, собственные эмоции. Его взгляд, лишенный всякого сочувствия, методично, сантиметр за сантиметром, вскрывал сцену смерти.
Земля. Грязная, чавкающая, покрытая гнилой щепой. Возле тела – никаких следов борьбы. Ни одного чужого отпечатка сапог, кроме следов самого Остромира и прибежавшего Прохора. Ни одной вырванной с корнем травинки. Труп лежал так, будто старик просто умер, сидя на бревне, и лишь потом неестественно откинул голову.
Оружие. Зазубренный топор Остромира валялся рядом. Не в руке. Просто лежал на земле, нетронутый. Фляга с водой – тоже. На поясе старика висел кривой нож, его рукоять была холодной и нетронутой. Он не пытался защищаться.
Тело. Яромир присел на корточки, игнорируя тошнотворный, сладковатый запах, начинавший исходить от мертвеца. На одежде и коже не было ни единой раны, ни пореза, ни синяка. На шее – никаких следов удушения. Ничего. Абсолютно ничего. Словно смерть пришла не снаружи, а изнутри. Вырвалась наружу, оставив после себя лишь эту высохшую, обесцвеченную оболочку.
– Что скажешь, Феофан? – спросил он тихо, не оборачиваясь, продолжая смотреть на скрюченные пальцы Остромира.
Грек, приземистый, холеный мужчина с умными, но усталыми от варварских болезней глазами, закончил свой осмотр. Он не прикасался к телу голыми руками, брезгливо вороша одежду деревянной палочкой. Закончив, он вытер руки о дорогую, но уже заляпанную грязью тряпицу.
– Сердце, – уверенно сказал он со своим сильным, раздражающим акцентом. – Сердце не выдержало. Он стар, вон, Прохор говорит, жаловался на одышку, на боли в груди. Наверное, ночью прихватило. Напал великий страх смерти… Он может сотворить такое с лицом человека. А волосы… – тут грек на мгновение запнулся, —…бывает. От великого потрясения, от ужаса неимоверного седеют. Слышал я о таком. У нас, в Элладе, рассказывали о философе, что за ночь стал белым, как лунь, узрев нечто непостижимое.
Яромир медленно поднялся и перевел на него свой тяжелый взгляд.
– Он поседел за одну ночь? Каждая волосинка? Брови? Волосы в носу?
Лицо Феофана дрогнуло. Уверенность в его голосе дала трещину.
– Это… необычайно, – согласился он, неловко пожав плечами. – Но не невозможно. Мир полон чудес и ужасов, воевода. Может, зверь какой выскочил из леса. Большой волк или медведь. Старик испугался до смерти. Животный ужас. Вот и результат.
Толпа рабочих за спиной дружно, с облегчением закивала. Это объяснение им нравилось. Волк – это понятно. Волк – это привычный враг из плоти и крови. Его можно выследить и убить. Ужас перед волком – это нормально. Они были готовы в это поверить, лишь бы не думать о том, чего не могли понять.
Но Яромир смотрел в широко открытые, остекленевшие глаза мертвеца. Он видел много смертей. Видел лица воинов, пронзенных копьями, их глаза, полные удивления и боли. Видел умирающих от ран, в их глазах была мольба и отчаяние. Видел больных, которых пожирала хворь изнутри, в их взгляде была лишь тупая покорность. Он видел страх во всех его проявлениях. Но это… это было совершенно иным.
В этих мутных, выцветших зрачках застыл не страх смерти. В них отпечатался первобытный, запредельный ужас перед чем-то, для чего у людей еще не было и никогда не будет названия. Ужас, который не просто убил. Он высосал из человека саму душу, всю его жизненную силу, оставив лишь пустую оболочку, как змея оставляет свою старую кожу.
И этот запах… Помимо нарастающей вони разложения в воздухе висело что-то еще. Едва уловимый, но отчетливый, острый запах озона, запах холода и статического электричества. Так пахнет воздух после близкого удара молнии лютой зимой. Так пахнет само Небытие.
– Уберите тело, – тихо приказал он стоящим рядом дружинникам, и его голос был глух. – Похороните, как положено, по обычаю.
Он резко повернулся и пошел прочь, не обращая внимания на перешептывания за спиной. Образ мертвых, полных первобытного кошмара глаз Остромира, выжженный на его сетчатке, будет преследовать его еще долго. Объяснение лекаря-грека было логичным, удобным и успокаивающим. Оно уняло панику толпы. Но Яромир своим звериным чутьем, отточенным годами выживания, знал – это была ложь. Успокоительная, сладкая ложь.
Настоящая, невыразимая словами истина была где-то здесь, в этом холодном, сером тумане. И она была гораздо, гораздо страшнее любого волка.
Глава 8
Смерть сторожа стала не просто каплей. Она стала камнем, брошенным в вонючее, застойное болото городского страха, и круги от него пошли немедленно. Киев загудел, как растревоженный улей, но это было не жужжание пчел, а низкий, тревожный гул на грани слышимости, от которого волосы на затылке вставали дыбом. Новость о смерти Остромира, передаваемая из уст в уста, разлетелась по грязным улицам Подола и поднялась на Гору быстрее чумы. И с каждым новым рассказчиком она обрастала чудовищными, омерзительными подробностями, рожденными в воспаленных от ужаса мозгах.
Уже к полудню бабы у колодцев, понизив голос до шипения, рассказывали, что Остромира нашли не просто мертвым, а разорванным на куски, будто его грызла стая волков. Но при этом ни капли крови не было пролито! Торговцы в своих лавках клялись, что тело старика было иссохшим и легким, как пучок сухой травы, потому что нечистая сила, упырь или мара, высосала из него всю кровь и жизненные соки через рот. К вечеру история достигла своего апогея: Остромир не умер, его прокляли, и теперь его неупокоенный дух, седой и с горящими глазами, бродит по ночам, ища себе замену. Город лихорадило от слухов.
Туман, проклятый, липкий туман, не желавший уходить, стал идеальной декорацией для этого спектакля ужаса. Он был не просто погодным явлением. Он стал осязаемым фоном, на котором разворачивалась городская паранойя. Днем он висел грязной, серой дымкой, превращая солнце в тусклый, неживой блин, а цвета мира – в оттенки серого. А ночью он сгущался до плотности чернил, превращая знакомые, вонючие улочки в бесконечный лабиринт кошмаров, где каждый поворот мог стать последним. В этом тумане воображение, подогретое страхом, рисовало самые немыслимые ужасы.
И начались шепотки. Не слухи, а нечто личное, интимное, вторгающееся в самое нутро.
Жена гончара, молодая, полнокровная баба по имени Ульяна, вышла во двор развесить мокрое белье. В густом тумане, скопившемся у старого колодца, она явственно услышала, как кто-то зовет ее по имени. "Ульяна… дочка…" Голос был тихим, шелестящим, но она узнала его. Так говорил ее покойный отец, умерший от гнилой горячки еще по весне. Кровь отхлынула от ее лица. Она выронила корзину с бельем, не чувствуя, как мокрая ткань падает в грязь, и, визжа, заскочила в дом, заперев дверь на все засовы. Остаток дня она просидела в углу, обхватив колени, и до хрипоты бормотала все известные ей заговоры, глядя на дверь расширенными от ужаса глазами.
Скупой купец-хазар по имени Ицхак сидел в своей запертой изнутри лавке, полной мехов и шелков. При свете единственной свечи он пересчитывал серебряные гривны, слюнявя палец и с наслаждением ощущая холодный вес металла. И вдруг из самого темного, заваленного старым хламом угла лавки он услышал тихий, булькающий, издевательский смех. Смех человека, который знает твой самый постыдный, самый глубинный страх. Ицхак больше всего на свете боялся не смерти, а нищеты. Этот смех говорил ему без слов: "Я знаю. И я заберу все, до последней монеты. Ты сдохнешь в грязи, как собака". Он вскочил, выхватив из-за пояса длинный нож. Бросился в угол, но там была лишь пыль и жирная паутина. Остаток ночи он просидел на сундуке с деньгами, обложившись всеми свечами, какие у него были. Он вздрагивал от каждого скрипа половицы, от каждого шороха за стеной, и ему казалось, что кто-то дышит прямо у него за спиной, ожидая, когда он уснет.
Киев замер. Дети, которых раньше невозможно было загнать домой, теперь жались к подолам матерей и боялись даже выглянуть за порог. Женщины, если нужда заставляла их идти за водой, собирались в группы по пять-шесть человек, испуганно озираясь и крепко сжимая ведра. Мужчины, возвращаясь поздно из корчмы, шли гурьбой, тесно прижимаясь друг к другу и нарочито громко разговаривая, матерясь и гогоча. Их смех был неестественным, напряженным. Они пытались этим шумом заглушить ту тишину, которая теперь жила в городе. И те звуки, которые начали рождаться в ней. Непонятные, скребущие шорохи, доносящиеся с чердаков. Тихий, жалобный плач, похожий на плач младенца, доносившийся из пустых, заваленных мусором переулков. И шепот. Вездесущий шепот, который, казалось, идет отовсюду и ниоткуда, скользит по ветру, рождается из тумана, и каждый слышал в нем что-то свое.
Это еще не была паника. Паника – это действие. Это крики, бегство, насилие. Это было нечто худшее, нечто более глубинное. Медленно, как черная плесень, по душам горожан расползалась липкая, холодная тревога. Чувство, что привычный, понятный, пусть и жестокий мир дал трещину. Что твердая почва под ногами стала зыбкой. И в эту трещину, в эту щель между мирами, заглядывает что-то древнее, голодное и совершенно чуждое человеческому пониманию. Киев стремительно переставал быть домом, крепостью. Он становился ловушкой. И крышка этой ловушки медленно, но неотвратимо закрывалась.
Глава 9
Яромир не верил в слухи. Слухи были для баб, детей и трусливых мужиков, которые ссутся в штаны от каждого шороха. Он презирал их. Он верил только фактам, которые мог увидеть, потрогать, взвесить на ладони. Факт был один, твердый и неоспоримый, как камень: мертвый, высохший старик со снежно-белыми волосами. Все остальное – шепотки из тумана, призрачные голоса, воющие упыри – было лишь гнойной пеной, поднявшейся на волне всеобщего страха. Глупости.
Чтобы проветрить голову от этих липких, как паутина, бредней, он поздним вечером, как делал это каждую ночь, отправился на обход стены детинца. Это был его ритуал, его способ привести мысли в порядок, вернуть себе ощущение контроля над этим хаотичным миром.
Вверху, на Горе, ветер был чище и холоднее. Туман, который на Подоле превратился в плотное, удушливое месиво, здесь был не таким густым. Он лежал внизу, накрывая торговый район саваном из серой, грязной ваты. Из этого савана, как кости из неглубокой могилы, торчали лишь верхушки самых высоких теремов и крест греческой церкви. Город внизу казался мертвым. Ни одного огонька в окнах, ни одного звука – ни лая собаки, ни пьяного крика, ни скрипа телеги. Лишь полное, абсолютное безмолвие, как после чумы.
Яромир медленно, размеренным шагом шел по широкому деревянному настилу стены. Его тяжелые сапоги гулко и одиноко отдавались в этой мертвой тишине. Холод пробирал до костей даже сквозь толстый, пропитанный дегтем шерстяной плащ. Этот холод был неправильным, нездоровым, он забирался под кожу и заставлял тело мелко дрожать. Яромир остановился у бойницы, облокотившись о грубо отесанное бревно. Он смотрел не на мертвый город, а в другую сторону – на черный, как смола, силуэт леса, темневшего за глубокими, извилистыми оврагами.
И тут он это почувствовал.
Это не был звук, который слышат ушами. Не видение, которое видят глазами. Это было нечто, что взорвалось прямо у него в черепе. Мгновенная, ослепляющая вспышка, похожая на удар молнии. Не было перехода. В одно мгновение он стоял на стене в Киеве, а в следующее – снова был там.
Он, тринадцатилетний мальчишка, лежит на холодной, липкой от крови земле. Его придавило тяжелое, теплое тело матери. Из пробитой копьем спины все еще течет кровь, она пропитывает его одежду, ее запах заполняет его ноздри. Запах свежего мяса и железа. К этому запаху примешивается другой, еще более страшный – едкая вонь гари и паленой человеческой плоти. Он слышит, не ушами, а каждой клеткой своего тела, ее последний, булькающий, сдавленный вздох, когда жизнь покинула ее. А поверх всего этого – он слышит смех. Громкий, гортанный, торжествующий смех победителей. Варяги, чьи бороды слиплись от крови и пива, вытаскивают из домов его визжащих сестер. Он слышит звук рвущейся ткани и их короткие, отчаянные крики, которые быстро сменяются животными, полными боли стонами.
Все это длилось не дольше, чем нужно, чтобы сердце сделало один судорожный удар.
Он резко встряхнул головой, хватаясь за холодный, мокрый от росы частокол так сильно, что в ладонь впились занозы. Наваждение схлынуло, как грязная волна, оставив после себя ледяную пустоту, тошноту, подкатившую к горлу, и капли холодного пота, выступившие на лбу. Он был один на стене. Вокруг была лишь тишина, пропитанная гнилостным запахом тумана.
«Усталость, – мысленно прорычал он себе, заставляя мышцы расслабиться. – Слишком много думал о смерти».
Но это была ложь, и он это знал. Глубинный, животный инстинкт, который не раз спасал его, кричал ему об этом. То, что сейчас произошло, было не просто воспоминанием. Его собственные воспоминания, хоть и были ужасны, со временем затянулись коростой, потускнели, как старый клинок. Это же было острым, ярким и свежим, как только что нанесенная рана. Словно кто-то – или что-то – залезло ему в голову, нашло самый гнилой, самый болезненный его кошмар, вытащило его на свет и с силой вонзило ему прямо в мозг.
Впервые за двадцать лет, впервые с того самого дня в сгоревшей деревне, Яромир, Молчун, правая рука князя, человек, который не боялся ни стали, ни боли, ни самой смерти, ощутил, как по его позвоночнику, от затылка до самого копчика, пробежал липкий, омерзительный ручеек настоящего, животного, иррационального страха.
Он был один на стене. Он был в этом абсолютно уверен. Но его тело, его инстинкты, все его натренированное нутро кричало об обратном. Он был здесь не один. И тот, второй, был совсем рядом. Настолько рядом, что мог заглянуть ему прямо в душу.
Глава 10
Рассвет следующего дня окончательно убил любую, даже самую призрачную надежду на то, что все это – лишь дурное наваждение, порожденное усталостью и массовым страхом. Рассвет не принес света. Он принес доказательства.
Утром у Житних ворот, которые смотрели на север, в сторону дремучих лесов и болот, поднялся дикий, срывающийся на визг крик. Когда подоспел первый патруль, они нашли ночного стража ворот, мужчину средних лет по имени Верен, который забился в свою сторожевую будку. Он был бледным, как смерть, его трясло так, что зубы выбивали барабанную дробь, а глаза были совершенно безумными. С него ручьями текли пот и моча, смешиваясь на грязном полу.
Он несвязно, заикаясь, рассказал подоспевшим дружинникам, что случилось. Перед самым восходом солнца, когда ночь была особенно черна, а туман превратился в непроницаемую, маслянистую стену, он услышал из-за ворот крики. Верен клялся всеми богами, что это были нечеловеческие вопли. Это был визг, который мог исторгнуть лишь человек, с которого заживо сдирают кожу. Вместе с этими криками он услышал жуткое, полное боли и ужаса ржание лошадей. Звуки были такими близкими, такими страшными, что у него, бывалого воина, волосы встали дыбом. Он был один. И открыть ворота, впустить в город это, что бы оно ни было, он не посмел. Он просто забился в свою конуру и молился, чтобы оно ушло.
Когда Яромир прибыл на место, ворота уже были приоткрыты. Вокруг них сбилась толпа зевак и дружинников. Они стояли молча, и их молчание было страшнее любых криков. Яромир протиснулся вперед, и картина, представшая его глазам, заставила даже его холодное, мертвое сердце на мгновение сжаться.









