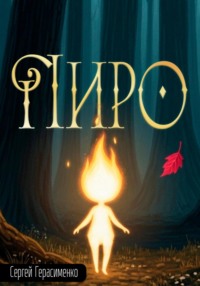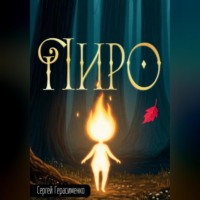Полная версия
«Лето, пахнущее мелиссой»

Сергей Герасименко
«Лето, пахнущее мелиссой»
Есть летние каникулы, которые быстро
забываются и пылятся в памяти телефона.
Быстрые, похожие на короткое видео в ленте. Они собирают лайки, но не согревают зимой.
А есть лето, которое остается в самом сердце. Оно пахнет дождем на пыльной дороге, скошенной травой и горьковатой свежестью мелиссы.
Оно измеряется не скоростью интернета, а тишиной, в которой впервые слышишь самого себя.
Эта история – о таком лете. О лете, которое не выложить в сторис, но которым хочется
поделиться, как самым большим секретом.
Эта книга – приглашение. Приглашение в мир, где нужно не только смотреть, но и видеть.
Не только слушать, но и слышать.
Готовы отправиться в путешествие, чтобы найти свой собственный север?
Глава 1: Вердикт
Мир не хотел подслушивать. Это была скорее вынужденная мера, способ получить хоть какую-то информацию в доме, где о важном давно перестали говорить вслух. Дверь в его комнату была приоткрыта, и он замер, прижавшись ухом к прохладному косяку, ловя обрывки фраз из коридора. Родители, кажется, снова забыли, что он дома. Или, что вероятнее, просто не считали нужным посвящать его в свои планы.
Их голоса – мамин, с нотками звенящей усталости, и отцовский, ровный и холодный, как гранит, – были похожи на натянутую струну. Тонкую, почти невидимую, но готовую в любой момент лопнуть.
– …это единственный выход, Гена, – говорила мама. – Он от рук отбился. Экзамены на носу, а у него в голове только его «ребята» и в интернете.
«Ребята» и компьютер, – мысленно передразнил Мир, чувствуя, как внутри поднимается знакомая горькая волна. Как будто это единственная проблема. Как будто они сами не прячутся от реальности – она в свой салон красоты, он в свои штабные игры. А я – в свой виртуальным мир. Мы все бежим. Только мой побег почему-то считается преступлением.
– Я знаю, – голос отца был лишен эмоций, словно он зачитывал приказ. – Я все решил. Поедет к матери. Там его быстро в чувство приведут.
Вот так. «Я все решил». Мир стиснул зубы. Снова решают за него. Словно он не человек, а неудобный чемодан, который нужно сдать в камеру хранения на лето. И главное – делают вид, что для его же блага. Лицемеры.
– Может, не стоит? Она одна… после всего…
В голосе матери промелькнуло что-то похожее на сомнение, на тень былой теплоты. Но отец отрезал эту ниточку одним движением.
– Ольга, я сказал, я все решил.
В наступившей тишине Мир услышал, как мама тихо вздохнула. Это был не вздох облегчения. Это был вздох капитуляции. Звук, с которым белый флаг поднимают над крепостью, которая слишком долго была в осаде.
Через минуту его позвали ужинать. Голос матери был наигранно бодрым, фальшивым, как новогодняя елка в марте.
Вокруг царила тишина, режущая слух и заставляющая сердце сжиматься в ожидании. Такая тишина была главным блюдом на их семейных ужинах. Невидимая, но от этого не менее реальная, она лежала на белой скатерти между идеальными приборами и коробкой из-под пиццы. Идеальные приборы и фастфуд. Идеальный символ их семьи: фасад в порядке, а внутри – пустота и полуфабрикаты, потому что на то, чтобы приготовить что-то настоящее друг для друга, давно не было ни сил, ни желания.
Мир уткнулся в синий экран смартфона. Это была его броня, его окоп в этой молчаливой войне. Он листал ленту, не видя картинок, просто чтобы не смотреть на них. На отца, который с военной точностью разрезал свой кусок, словно выполнял важную штабную задачу. На мать, красивую, с безупречным маникюром цвета пыльной розы, которая лишь ковыряла вилкой остывший сыр в своей тарелке. Он видел не мать, а женщину, которая играет роль. Уставшую актрису, которая слишком долго находится на сцене.
Они были вместе двадцать три года. Мир знал это, потому что недавно видел в мамином телефоне напоминание: «Годовщина». Он не знал, отметили ли они ее. Скорее всего, нет. Их любовь, как старый, но надежный автомобиль, давно ехала на инерции, изредка заправляясь на станциях под названием «быт» и «общий отпуск».
– Мирослав, – голос мамы прозвучал так, будто она смахнула пыль с давно не используемого слова.
Мир нехотя оторвал взгляд от экрана.
– Мы с отцом решили, – продолжила она, глядя куда-то в центр стола, избегая его взгляда. – Этим летом в лагерь ты не поедешь.
Слова упали на стол, как кубики льда в пустой стакан. Звонко и холодно.
– В смысле? – Мир даже телефон отложил. Костяшки пальцев, сжимавших вилку, побелели. – Я с ребятами уже договорился. Мы в один отряд хотели.
– В смысле, ты едешь в деревню. К бабушке.
Он посмотрел на отца. Геннадий, или просто Гена, как называла его мама в те редкие моменты, когда их голоса звучали тепло, даже не поднял головы. Он продолжал методично работать ножом и вилкой, словно вырезал на операционном столе что-то смертельно важное. Его молчание было громче любого слова. Оно означало: «Решение принято. Обсуждению не подлежит».
Мир почувствовал, как внутри закипает горячая, горькая волна. Он сжал кулаки под столом так, что ногти впились в ладони. Он перевел дыхание, пытаясь говорить спокойно.
– Зачем? Там же делать нечего! Интернета нет, все разъехались. Вы серьезно?
– Именно поэтому, – впервые за ужин подал голос отец. Он положил приборы идеально ровно по обе стороны от тарелки. – Тебе нужно готовиться. Десятый класс – это не шутки. А там тебя ничто не будет отвлекать.
– Отвлекать? Да я с ума там сойду от скуки! Все нормальные люди едут на море, а я – в ссылку? «Спасибо, обрадовали».
Обидная мысль пронзила его: зря он не ушел после девятого, как половина его друзей. Сейчас бы уже был студентом колледжа, свободным человеком. А не школьником, чью судьбу решают за ужином с пиццей.
Ужин был завершен в молчании. Отец, закончив, сгреб пустую коробку и унес на кухню. Через минуту оттуда донесся шум воды и гудение включающейся посудомойки. Мама тихо поднялась и ушла в свою комнату, оставив на столе недоеденный кусок.
Мир остался один в оглушительной тишине, которая теперь казалась еще тяжелее. Вердикт был вынесен. Апелляции не подлежало.
Он молча поднялся и пошел к себе. Его комната – его крепость. Единственное место в этом доме, где воздух не был пропитан молчаливыми упреками и невысказанными обидами. Он лег на кровать и открыл галерею в телефоне. Прошлогодние фотографии из лагеря: загорелые, счастливые лица, дурацкие рожицы, синее море на фоне. Он смотрел на парня на фото – на себя – и не узнавал его. Тот парень, на снимке, беззаботно смеялся. А этот, лежащий сейчас в своей комнате, чувствовал только одно.
Его лето было официально убито. Еще даже не начавшись.
Позже, когда в квартире погас свет, Мир услышал, как скрипнула дверь отцовской спальни. Он выглянул в щель своей двери. Отец стоял у окна в гостиной. Он не курил, просто смотрел в темноту на огни большого города. Его спина была прямой и напряженной, как всегда. Но было в его силуэте что-то еще. Что-то незнакомое. Словно он смотрел не на город, а сквозь него. Куда-то очень далеко, туда, где не было огней, а были только темные, суровые вершины. Миру показалось, что плечи отца на мгновение ссутулились, словно под невидимой тяжестью.
Но это длилось лишь секунду. Потом он снова выпрямился, превратившись в знакомую, непробиваемую скалу, и вернулся в спальню.
Мир закрыл дверь, чувствуя необъяснимую тревогу. Речь шла не только о его экзаменах. Его отправляли в ссылку не для чего-то, а от чего-то. От чего-то, что пугало даже его каменного отца.
Глава 2: 20 часов молчания
Суббота наступила с неминуемостью приговора. Утро было серым, словно город заранее надел траур по лету Мирослава. Дождь лениво мазал по стеклу грязные полосы, превращая мир за окном в размытую акварель, похожую на слезы на пыльном стекле.
Сумка была собрана еще с вечера. Ольга, его мама, действовала с эффективностью кризисного менеджера, решающего неприятную проблему: стопка футболок, джинсы, толстовка, спортивный костюм. И отдельной, самой тяжелой стопкой – учебники. Сборник задач по алгебре, пособие по русскому, толстенный талмуд по истории. Этот балласт лежал на дне сумки, придавая ей вес настоящего якоря. Якоря, который должен был на три месяца приковать его к тихой пристани в деревне под названием «Подготовка к экзаменам».
Поездка началась, как и все их последние совместные поездки. С молчания. Но это была не тишина. Это был пакт о ненападении, перемирие в холодной войне, где каждый соблюдал условия, уставившись в свою точку: отец – в дорогу, мама – в телефон, Мир – в окно. Воздух в салоне дорогого внедорожника, пахнущий кожей и безликим ароматизатором, был густым и тяжелым, словно сжатым под давлением невысказанных слов.
Отец за рулем был непроницаем. словно скала. Сосредоточенный, руки уверенно лежали на руле. Его профиль, вырисовывающийся на фоне бегущих мимо мокрых многоэтажек, казался Миру высеченным из гранита. Он вспомнил, как в детстве этот же профиль казался ему профилем героя из боевика. Сильный, надежный, способный решить любую проблему. Сейчас же, думал Мир, он похож на генерала, проигравшего свою главную битву, но продолжающего носить мундир по привычке. Генерала, который разучился отдавать приказы собственному сердцу.
Мама сидела рядом, на пассажирском сиденье. Она не смотрела в окно. Она смотрела в телефон, листая ленту с той скоростью, которая выдавала не интерес, а отчаянное желание сбежать. Сбежать от этой машины, от этого молчания, от этого дождя, от этого мужчины, для которого она стала прозрачной, будто её больше нет. Время от времени она поднимала взгляд на мужа, и в ее глазах на долю секунды мелькало что-то похожее на тоску. Словно она пыталась разглядеть в этом строгом военном того легкого на подъем парня. Парня , которого когда то она полюбила, который когда-то катал ее на мотоцикле и дарил необычные полевые цветы. Но парень давно исчез, оставив после себя лишь привычку сидеть рядом.
Мир сидел сзади, за отцом, вцепившись в свой собственный смартфон. В наушниках играл какой-то модный рэпер, выплевывая слова с пулеметной скоростью, но даже сквозь бит Мир чувствовал эту вязкую, густую тишину. Она была тяжелее, чем его сумка с учебниками. Чтобы хоть как-то отвлечься, он отвернулся к окну и стал молча наблюдать за сменой картинок за стеклом…
Сначала за стеклом проплывала привычная, серая Москва. Мокрый асфальт МКАДа, бесконечная змея из красных и белых огней, унылые коробки спальных районов, сменяющиеся гигантскими торговыми центрами, похожими на брошенные на берег круизные лайнеры. Потом город стал редеть, распадаться на промзоны, склады, логистические центры. И наконец, машина вырвалась на оперативный простор трассы М4. Дождь прекратился, и низкие, тяжелые облака начали рваться, открывая клочки пронзительно-голубого, умытого неба.
Час за часом пейзаж менялся, как в замедленной съемке. Пролетали мимо аккуратные, словно игрушечные, подмосковные дачи, потом пошли бескрайние поля Тульской и Липецкой областей – черные, влажные, готовые к новой жизни. По ним, как корабли в море, медленно двигались тракторы. Потом началась Воронежская область, с ее спокойными реками. Солнце уже стояло высоко, заливая золотом зеленые луга и рощи, где прятались старинные деревеньки с покосившимися церквями.
Мир смотрел на эту необъятную, живую красоту, и внутри него боролись два чувства. Часть его, воспитанная на быстрых клипах и ярких картинках, скучала. Другая, более древняя, которую он в себе почти не знал, невольно отзывалась на этот простор. Он видел, как ветер колышет море пшеницы, как парит в небе ястреб, как одинокое дерево на холме бросает длинную тень. За окном разворачивалась целая жизнь, величественная и неспешная. А в машине, в герметичной капсуле, царила мертвая тишина. Три человека, связанных самыми крепкими узами, были дальше друг от друга, чем это одинокое дерево и тот ястреб в небе.
Раньше эти поездки были другими.
Он помнил, как они ехали к бабушке, когда был жив дед. Как звал его мир : Деда Коля , или как называла его мама: Николай Денисович. Он был могучий, бородатый, с руками, похожими на корни старого дуба, и глазами, в которых плясали смешинки. Тогда в машине не было этой стерильной тишины. Тогда играла не модная музыка, а старые кассеты с песнями «Queen». Отец с мамой пели в два голоса «Bohemian Rhapsody», фальшивя и смеясь до слез. Мама доставала из корзинки бутерброды, пахнущие домом и укропом, а отец рассказывал смешные истории из своей лейтенантской юности, от которых Мир хохотал, задыхаясь. Это была не поездка. Это было приключение.
В конце каждой такой поездки их ждал дед. Он всегда встречал их у ворот. Подхватывал Мира на руки, подбрасывал так высоко, что казалось, можно дотронуться до облаков. От него пахло лесом, дымом костра и чем-то еще, неуловимым и настоящим. Свободой.
Потом дед пропал. «Пропал в горах», – так сказали взрослые. Для десятилетнего Мира это слово «пропал» было странным, не до конца понятным. Не умер, не погиб, а именно пропал. Словно ушел по какой-то своей, очень важной тропе и просто еще не вернулся. Но он так и не вернулся. И вместе с ним из их поездок исчез смех. Исчезла музыка. Исчезла жизнь.
Мир выдернул наушник из уха и снова вслушался в тишину. Теперь она была другой. Теперь это была не просто тишина. Это было оглушительное отсутствие чего-то важного. Важного, как кислород.
Он вспомнил другую поездку, несколько лет назад. Деда уже не было. В машине играло радио, какая-то безликая попса. Они уже не пели. Они останавливались не в лесу, а на заправке, покупали резиновые хот-доги в придорожном кафе. И отец тогда впервые сказал ему тем самым ровным, командирским тоном: «Мирослав, сядь прямо. Не сутулься». Мама тогда вздрогнула и бросила на отца быстрый, испуганный взгляд. Это была первая трещина. Сейчас же между ними была пропасть.
1690 километров – это очень много. Это почти двадцать часов пути. Двадцать часов, или тысяча двести минут, или семьдесят две тысячи секунд молчания. К вечеру они въехали в Ростовскую область. Пейзаж снова изменился. Он стал суше, степным. Бескрайние поля подсолнухов, повернувших свои тяжелые головы к заходящему солнцу. Воздух за окном стал пахнуть пылью и полынью. Иногда дорогу пересекали огромные фуры, тяжело груженные зерном, и их водители, обветренные, загорелые мужчины, провожали взглядом блестящий московский внедорожник.
Иногда молчание прерывали короткие фразы: «Бензин кончается», «Осторожно, камера», «Может, остановимся кофе выпить?». Но это были не разговоры. Это были звуки, которые лишь подчеркивали пустоту между ними. Короткие сигналы с двух разных планет, случайно оказавшихся на одной орбите.
Когда они наконец свернули с федеральной трассы на проселочную дорогу, пейзаж начал меняться кардинально. Плоские степи сменились холмами, покрытыми густым лесом. Машина въехала в Ставропольский край, и здесь, в предгорьях, воздух стал другим. И вот, наконец, в разрывах туч, на фоне темнеющего фиолетового неба, показались они. Далекие, синеватые силуэты гор, увенчанные седыми шапками вечных снегов. Это была Карачаево-Черкесия. Воздух, даже через фильтры машины, стал другим. Он пах влажной землей, хвоей и еще чем-то диким, терпким. Запахом, от которого защемило где-то в груди. Запахом, который был одновременно и обещанием, и приговором.
Глава 3: Мир без Wi-Fi
Деревня показалась внезапно, вынырнув из-за очередного поворота. Несколько десятков домов, разбросанных по склону холма, старая водонапорная башня, похожая на ржавого робота на тонких ногах, и тонкая струйка дыма из одной-единственной трубы.
Дом бабушки стоял на самом краю, почти у леса. Крепкий, срубленный еще дедом, с резными наличниками на окнах и большим двором, огороженным покосившимся забором. Когда машина зашуршала гравием у ворот, на крыльцо вышла она.
Надежда Михайловна, бабушка Мира, была невысокой и сухонькой. На ней было простое ситцевое платье, а седые волосы покрывал платок. Но спину держала прямо, а в ясных, чуть прищуренных глазах светился острый, насмешливый ум. Она не бросилась к ним с объятиями. Она просто стояла, опираясь на палку, и смотрела, как ее городские родственники неуклюже выбираются из своей блестящей консервной банки.
– Ну, явились, космонавты, – сказала она вместо приветствия. Голос у нее был скрипучий, но сильный. – Думала, вас уже волки по дороге съели.
– Здравствуй, мама, – Гена подошел и неловко поцеловал ее в щеку. – Как ты тут?
– Да как в танке. Гром гремит, Мурка молоко дает, куры несутся. Живем. А вы-то как? Все по работам своим бегаете, мильоны зашибаете?
Её слова были пропитаны лёгкой, но беззлобной иронией. Ольга тоже подошла и обняла свекровь.
– Надежда Михайловна, здравствуйте. Мы всё потихоньку: работа – дом, дом – работа… Устали с дороги – почти двадцать часов в одном положении.
– Устали они, – хмыкнула бабушка, и её взгляд остановился на Мире, который вытаскивал свою сумку-якорь из багажника. – О, а это что за чудо-юдо заморское? Сразу не признала. Мирка, ты, что ли? Вымахал-то как! Вон какой – здоровый лоб уже.
Мир что-то промычал в ответ. «Мирка». Так его называла только она.
– Вы надолго ль? Мне стелить, готовить чего к утру? Самовар с полки достать, пыль сдуть? – с иронией и лёгким уколом в голосе спросила бабушка, наблюдая, как сын поспешно достаёт сумки из багажника.
– Мам, мы б с радостью, но мне завтра в штаб – совещание. У Оли в студии дел невпроворот… Сама понимаешь… – неуверенно пробасил Гена. Он будто знал, что мать не обманешь, но всё равно старался не подавать виду. – Я вещи в дом занесу, дух переведём – и в путь.
– Ну зайдите хоть чайку попейте! В дороге силы нужны. А то я Грому прикажу – не выпустит вас никуда. Бегом, бегом, бегом в дом, пока комарьё не налетело! – Надежда Михайловна знала своего сына как облупленного. Военный, что с него взять… Но даже он не мог сбежать от её неизменного чаепития.
Прощание родителей было быстрым и скомканным. Они словно спешили сбросить с себя эту непривычную деревенскую атмосферу и вернуться в свой понятный мир пробок и супермаркетов.
– Мам, вы за ним присмотрите. Чтобы занимался, – наставляла Ольга.
– Мы звонить будем, – добавил Гена. – Если вдруг что – сразу сообщай.
– Да разберусь, не маленькая, – отмахнулась бабушка. – Не в первый раз дите вижу. Езжайте уже, орлы.
Машина развернулась, подняв облача пыли, и скрылась за поворотом. Мир остался стоять посреди двора. Из конуры вылез огромный лохматый пес Гром, похожий на медвежонка, зевнул, показав розовый язык, и лениво вильнул хвостом. Из-за сарая доносилось кудахтанье. Где-то мычала корова.
Тишина. Но это была уже другая тишина. Не та, что в машине. Эта была живой. Она состояла из сотен звуков: шелеста листьев, жужжания пчел, далекого стука топора.
Мир зашел в дом. Воздух внутри был густым, как травяной отвар. Пахло нагретой на солнце древесиной, пылью, которая десятилетиями оседала на чердаке, и чем-то горьковато-сладким – мелиссой и чабрецом, которые бабушка сушила, связав в пучки и развесив под потолком. Это был запах мира, который работал не на электричестве, а на смене времен года. Его комната была маленькой, под самой крышей. Железная кровать с горой подушек, старый письменный стол, шкаф. Все так же, как и шесть лет назад. Только он сам стал другим.
Первым делом он достал телефон. Wi-Fi, разумеется, был несбыточной мечтой. Но мобильная сеть? Он прошелся по комнате. У окна, на подоконнике, телефон на секунду ожил, показав одну-единственную, призрачную палочку сигнала. Мир замер, боясь дышать. Палочка мигнула и исчезла. Он вышел во двор, высоко подняв руку, как статуя свободы с погасшим факелом. Ничего. Он обошел дом, залез на поленницу, едва не свалившись. Пусто. Интернет молчал. Голосовая связь, казалось, тоже решила взять отпуск в этих горах. Это было не просто отсутствие связи. Это была насмешка. Намек на возможность, которого на самом деле не было.
Это было похоже на ампутацию. Словно у него отняли жизненно важный орган. Он сел на крыльцо и тупо уставился на свои кеды. Что он будет здесь делать? Три месяца. Девяносто два дня. Без друзей, без новостей, без музыки, без всего, что составляло его жизнь.
– Чего скис, городской? – голос бабушки раздался рядом. Она присела на ступеньку, достав из кармана фартука луковицу и маленький ножик. – Думаешь, помер без своей жужжалки?
– Тут связи нет, – мрачно констатировал Мир.
– Вот и слава богу, – кивнула бабушка, ловко очищая лук. – Голова отдохнет. А то засрали вы себе мозги этими картинками. Ничего живого не видите.
Она говорила это не для того, чтобы обидеть. Просто констатировала факт, как погоду.
– Ну, раз уж ты у меня теперь живешь, надо к делу приступать. Видишь ведра? – она кивнула в угол. – Возьмешь и натаскаешь воды из колодца. А потом – за дровами в сарай. А потом я тебе еще дело найду. Учиться-то на сытый желудок сподручнее будет.
Она хитро посмотрела на него, и в уголках ее глаз собрались морщинки-лучики. – Ты это… не думай, что я тебя тут работать заставлю до седьмого пота. Просто надо же тебе чем-то руки занять, пока голова на место встает. А она встанет, будь спокоен. Здесь воздух такой. Прочищает.
Мир посмотрел на ведра, потом на колодец в конце двора, потом на свои тонкие, «городские» руки. Он вздохнул. Кажется, его ссылка будет еще хуже, чем он предполагал.
Первые дни тянулись, как расплавленный на солнце сыр. Длинные, вязкие, одинаковые. Его жизнь теперь подчинялась простому и неумолимому ритму, который задавала бабушка. Подъем с первыми лучами. Завтрак из неправдоподобно желтых яиц и парного молока. А потом – «трудовой десант». Наколоть дров, прополоть грядки, натаскать воды. Руки, привыкшие к гладкой поверхности смартфона, покрылись мозолями и болели с непривычки.
Но самой страшной была не работа. Самой страшной была скука. Она была его тенью. Вечерами, когда бабушка садилась вязать, он выходил на крыльцо и смотрел на звезды. Таких звезд он никогда не видел в городе. Огромные, яркие, близкие – они висели в чернильной темноте, как рассыпанные алмазы. Это было красиво, но от этой красоты становилось только тоскливее. Он чувствовал себя космонавтом, выброшенным в открытый космос – вокруг бесконечная красота, но ты один, и кислород в баллонах вот-вот кончится.
Однажды, после недели такой жизни, он сидел на крыльце, механически бросая камешки в пыль. Он дошел до точки. До дна. Ему было все равно, будут у него хорошие оценки или плохие, поступит он куда-то или нет. Ему хотелось только одного – чтобы это все закончилось.
И в этот момент он увидел ее.
Она не шла, а словно плыла вдоль забора по другой стороне улицы. Легкой, пружинистой походкой. Мир не разглядел ее лица, только огненное облако волос, горевшее в лучах предзакатного солнца. Не рыжие, не русые, а какого-то невероятного оттенка меди и старого золота. Как осенние листья в закатный час.
Она несла в руках охапку полевых цветов. Она свернула на тропинку, ведущую к реке, и исчезла за поворотом так же внезапно, как и появилась.
Мир замер, провожая ее взглядом. Он вдруг понял, что все это время сидел, задержав дыхание. Он выдохнул. Сердце почему-то колотилось так, будто он только что взобрался на перевал.
Кто это? Она не была похожа на туристок, которых он мельком видел в центре деревни. В ней была какая-то естественная простота, принадлежность этому месту.
Он забыл про скуку. Его мысли впервые за неделю были заняты не жалостью к себе, а вопросом. Ярким и четким, как вспышка ее волос на фоне серой деревенской улицы.
Глава 4: Вес тишины
Искра любопытства, зажженная огненными волосами незнакомки, погасла так же быстро, как и вспыхнула, утонув в сером болоте деревенских будней. Следующее утро ничем не отличалось от предыдущего. Та же тишина, тот же чужой, пахнущий травами воздух.
Бабушка, казалось, задалась целью искоренить в нем не только городскую лень, но и саму мысль об отдыхе. Каждый день подкидывала новую, невыполнимую, как ему казалось, миссию.
– Дрова сами себя не поколют, городской, – говорила она, протягивая ему старый колун с растрескавшимся топорищем.
Мир, видевший этот процесс только в кино, взялся за дело с энтузиазмом обреченного. Он установил первое полено на плаху, размахнулся, как викинг, и с глухим стуком вонзил топор в дерево так, что тот застрял намертво. Мир пытался его расшатать – безрезультатно. Он уперся ногой в полено и потянул – ничего. Наконец, собрав все силы, он дернул так, что полено, описав дугу, вылетело из-под топора, а сам Мир, потеряв равновесие, сел в пыль.
– Силы-то в руках нет, одна дурь в голове, – беззлобно прокомментировала бабушка, наблюдавшая за сценой с крыльца. Она подошла, ловким, точным ударом второго, маленького топора расколола его полено надвое и выбила застрявший колун. – Смотри, как надо. Бить нужно не со всей дури, а в трещину. Всегда ищи трещину, Мирка. В дровах ли, в жизни ли. Легче пойдет.