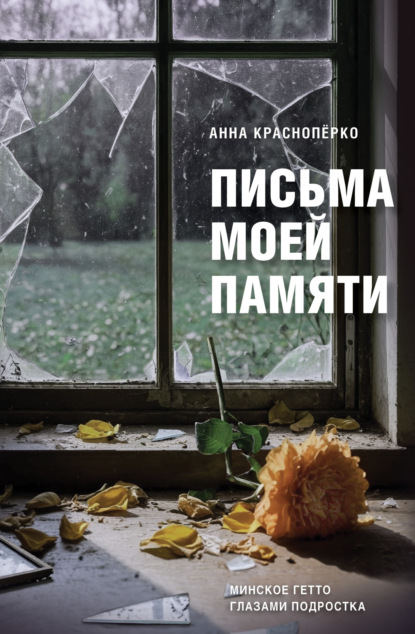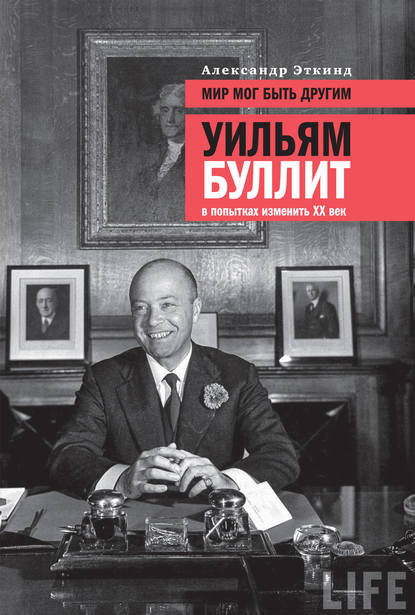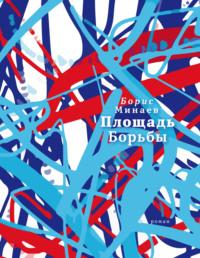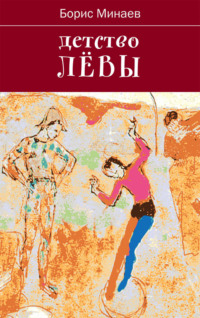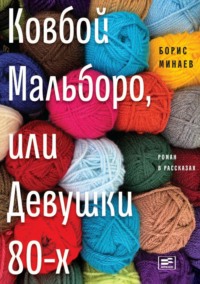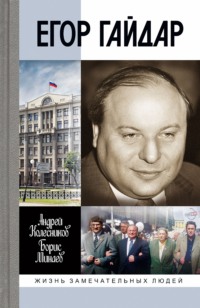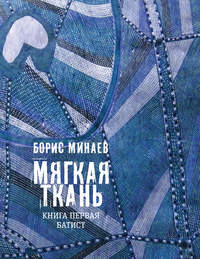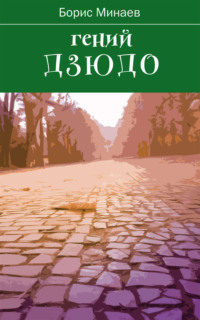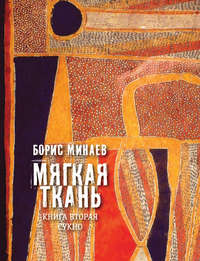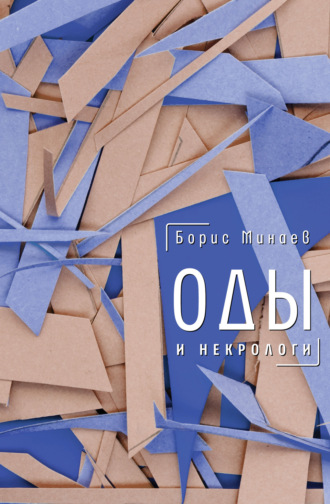
Полная версия
Оды и некрологи
Я тогда еще не знал, что это такая блатная присказка, дурацкая и совершенно ничего не означающая.
Впрочем, мне эти его крики показались какими-то наигранными. Кричал Олег странно, глядя куда-то вбок, скорее даже в окно, а не мне в глаза. Я тоже зачем-то туда выглянул, в окно.
Но было неприятно.
Конечно, мы пытались разговаривать, общаться, Олег как-то сразу понял, что передавать сообщения Асе лучше через меня.
Однажды, это было девятого мая, мы сидели за нашим столом, отмечали праздник (то есть мы пригласили Олега с девушкой как бы в гости), и Олег сказал:
– А знаете, я ведь хорошо знал Володю Высоцкого.
Девушка посмотрела на него с обожанием.
– Да, я его хорошо знал, – повторил Олег басом, сурово поглаживая бороду. – Сейчас пойду его матери позвоню.
Он действительно встал, вышел в коридор, у нас был общий с ними телефон на тумбочке, мы за него платили совместно, пополам, и стал говорить тихим, слегка заискивающим голосом.
– Нина Максимовна, здравствуйте, с праздником вас! – говорил Олег в коридоре. – С праздником, говорю, Девятого мая! Это я, Олег… Ну, друг Володи, художник, помните меня? Ну как вы? Я говорю, как вы?
…Мне стало неудобно.
Впрочем, я не стал хуже относиться к Олегу, такой уж он был человек. Да и мало ли чего не бывает в городе Москве. Друзей у Высоцкого было много, полстраны.
В тот самый день к Олегу в гости пришел некий дядя Леша, с бакенбардами по тогдашней моде. И тоже сел с нами за стол.
Олег торжественно представил его:
– Вот знакомьтесь, друзья, это дядя Леша, легендарная личность нашего двора.
Мы сидели в нашей комнате за круглым столом. Скатерть с бахромой, над столом – большой матерчатый абажур.
На столе были закуски: селедка, картошка, квашеная капуста. Может, даже шпроты.
Я посмотрел на «легендарного дядю Лешу» с бакенбардами по тогдашней моде внимательно. И мне вдруг стало не по себе. Впервые в жизни я увидел так близко – до прозрачности, до какого-то сияния над головой – упившегося человека. Он смотрел прямо, ничего не говорил и, как показалось мне, вообще ничего не понимал. Олег налил ему полстакана водки, и человек с бакенбардами выпил и занюхал хлебушком. К еде он не притронулся.
Я встал и в какой-то паузе вышел на балкон. Передо мной простирался огромный Битцевский лес.
Внизу виднелось белое здание школы, а чуть поодаль – психоневрологический интернат. Над деревьями с молодой листвой ласково плескалось небо.
Если что и было хорошего здесь, в Чертанове, – так это именно небо.
Я склонился через перила и посмотрел вниз во двор.
Ну и ладно, подумал я. Какая разница.
* * *…Когда мы приехали на Днепропетровскую в тот первый раз с ознакомительным визитом, Олег сразу стал выносить свои вещи из второй большой комнаты. Теперь она стала нашей.
Это были какие-то фотографии в рамках, прислоненные к стене, поделки из дерева, плетеные макраме. На балконе были другие его вещи: деревянные обрезки, гайки, даже небольшие листы железа, – видимо, там Олег мастерил с помощью верстака, пилы, рубанка и других своих инструментов.
А через год, когда мы с Асей жили уже в другой коммуналке (ее обменяли Асины родители) – он нам вдруг позвонил и сообщил, что комнату он освобождает, потому что ему неожиданно дали отдельную квартиру. «Так что вы учтите», – сухо сказал Олег и попрощался навсегда. Мы немного подумали, приехали в Чертаново. Открыли дверь своим ключом.
Теперь никакого соседа не было, вторая комната пока стояла пустая, и мы начали обживать квартиру на Днепропетровской заново.
* * *…Да, если что и было хорошего здесь, в Чертанове, – так это небо.
Небо простиралось над этим советским пейзажем, бесконечностью бетонных кварталов, пустырей, кривых заборов.
Что-то эпическое даже было в масштабах этого пейзажа. Я тогда впервые, можно сказать, все это увидел вблизи. До этого Москва казалась мне каким-то другим городом, более беспорядочным и домашним, что ли.
В Чертанове всюду было далеко, и пешком, и на автобусе. Например, ехать от метро «Каховская» до нас можно было и двадцать минут, и полчаса, и сорок, как повезет. Чертановская улица неизвестно где кончалась, и непонятно где начиналась, как река Енисей, и текла ниоткуда в никуда, уставленная по бокам рядами девятиэтажных коробок. (Сейчас это уже «старый московский район», как пишут люди.)
На Чертановской находились разные важные учреждения – например, поликлиника и женская консультация, куда потом ходила беременная Ася, «дом быта» (химчистка, металлоремонт, ремонт обуви и прочие хорошие вещи), продуктовый, где, я хорошо это помню, часто продавался единственный вид сыра – советский рокфор, причем совсем неплохой, с синей плесенью. Но его почему-то никто не брал вообще, а «костромского» и «советского» никогда не было, и я специально ездил за не нужным никому рокфором на трамвае или автобусе, за пять остановок. По-моему, Ася делала из него какой-то салат с грецкими орехами.
Автобусы шли в час пик переполненные, и люди внутри, прижатые к мутным окнам, выглядели довольно грустно. Эти автобусы, освещенные слабым полусветом, как некие мрачные ковчеги, передвигались по улицам, оставляя за собой вонючий запах бензина.
Тут, на Чертановской, была наша «цивилизация», а вот сразу за первой линией домов с магазинами и учреждениями начинались совсем уж одинаковые дворы.
Своеобразие, впрочем, где-то тоже присутствовало: вдруг встречалась зеленая голубятня – сложная конструкция из дощатого домика и железной клетки, внутри могли быть и голуби, и кролики, и даже петухи; спортивная площадка, ярко освещенная зимним вечером, таинственно влекла к себе синим неровным льдом – тут зимой под большими лампами ездили на коньках девочки или гоняли шайбу мальчики с раскрасневшимися щеками и истошными голосами. Но в целом это были бесконечные ровно расставленные по земле бетонные коробки, и больше ничего – даже деревья не везде еще выросли.
Весь этот район – от Чертановской до улицы Красного Маяка – когда-то строился, как говорили, «для ЗиЛа», то есть для Завода имени Лихачева, производившего грузовые автомобили и еще – малой серией – автомобили «для начальства»: бронированные лимузины, в которых ездили Брежнев, Андропов, Горбачев, Ельцин и другие наши высокие руководители.
Завод этот потом Лужков закрыл.
Меня всегда поражало, почему людей выселяли из общежитий, бараков, чтобы, по идее, переселить их в другие, более человеческие условия, и строили для них вот эти бетонные корпуса. То есть, по сути, переселяли в другие казармы, но огромные, циклопические, потусторонние, из которых уж точно было никуда не выбраться – они должны были стоять тут веками.
Потом я перестал этому удивляться, как-то все улеглось, утряслось, я понял, что есть другие, куда более весомые причины для страдания о человечестве. Это было все же приличное жилье, с горячей водой, лифтом, центральным отоплением, газом, электричеством. Если же смотреть с какой-то вообще иной точки зрения, то «московская квартира» – это был жизненный проект многих поколений и семей, из другой, провинциальной России, да и для многих москвичей, выросших в бараках и коммуналках. Мечта, короче говоря.
И все же привыкнуть к Чертанову я почему-то никак не мог.
Куда бы я ни шел – всюду передо мной возникали «картины народной жизни». Всюду был какой-то пугавший меня эпос.
В универсаме ошалевшие люди набрасывались на лотки, куда продавцы выкидывали с грохотом синие тушки куриц, куски мороженого хека, какую-то почерневшую от мороза капусту, подло пихая друг друга и громко шипя… Возле шаткого пивного ларька люди стояли на изнуряющей жаре по часу, по два, в ожидании, что в трехлитровый бидон или трехлитровую стеклянную банку из-под сока нальют разбавленного пива, в прачечной, куда я таскал тюки с бельем и «подшивал метки», если они были плохо пришиты, нужно было сидеть минут по сорок в жуткой духоте, и всюду ощущался этот масштаб «советского проекта», как потом его определили, – ничего маленького и замкнутого на себе тут не было. Все было какое-то тревожно открытое и распахнутое до горизонта.
Везде стоял надо мной этот неразличимый хор народных голосов, лишь иногда проявленный наиболее зычными нотами.
То есть я никогда прежде не чувствовал себя настолько «внутри хора», даже когда просто выходил на улицу.
Вокруг меня как будто постоянно звучал этот народный хор, или, может, это мне только казалось? Но я-то его слышал.
* * *…Но, с другой стороны, много чего тут было, на Днепропетровской, 32, что и представить я себе не мог в прежние времена – например, заснувшего после праздника Пашу Г., старшего корреспондента отдела научной и студенческой молодежи, мы его выносили в ту «нелегальную комнату», которую освободил Олег, прямо в кресле, хохоча шепотом, чтобы не разбудить. Паша утром бодро встал, отказался от кофе и помчался на работу в отдел. Я помню, как мы отмечали день рождения любимого Окуджавы, за нашим круглым столом, под низким огромным абажуром (навечно сохранились прекрасные фотографии Феклистова): Фурман, Врубель, Женя Двоскина, я, Ася, Морозов, покойная Ира Горбачева, мы пели (я пел) его грустные песни, от которых у меня всегда сжималось сердце, Врубель недовольно кривился, он терпеть не мог «все это КСП», да, было хорошо, а перед этим долго бродили по Арбату, не зная в точности, где дом Окуджавы (а теперь там и памятник, и мемориальная доска), и я, как представитель редакции всесоюзной газеты, сжимал в кармане его телефон, записанный на бумажке, потом пересилил страх, зашел в телефонную будку, стрельнув у товарищей двушку, набрал его домашний номер. Он жил тогда в Безбожном переулке.
Окуджава не подошел. А что я ему хотел сказать? Не знаю.
* * *…Первыми сюда, наверное, стали приходить Врубели.
Врубели потянули за собой и других удивительных персонажей: например, так попал к нам Володя Котов. Внешне он был похож на француза д’артаньяновских времен – совсем прозрачные глаза, под высоким лбом высоко поднятые брови, жесткие черные волосы и какие-то дворянские усы строгой красоты – но сам по себе он был полностью «деклассированный элемент», практически нигде и никогда не работал, изучал Кастанеду и других эзотериков и вел такие рукописные тетради, в которых участвовали все его друзья, художники и литераторы. Тетради назывались «флекс-сборники» и были важной частью московской подпольной культуры, я это сразу понял, как только взял их в руки.
Важно то, что флекс-сборники были принципиально незаконченными, то есть каждый брал тетрадь, чтобы дописать или дорисовать туда что-то, как будто это был школьный «девичий альбом», но в том-то и дело, что странные рисунки Котова (ну это были, например, изысканные лабиринты или узоры, похожие на «китайские гравюры»), или его тексты об увиденных снах или о другой «прикладной магии», дневниковые записи – все это было совершенно не похожим ни на что. Все скреплял «флекс-стиль»: рисунки шариковой ручкой, густо заштрихованные изображения, некая паутина смыслов, возникавшая сама по себе.
Я ничего туда не мог написать. Но флекс-сборники, конечно, казались мне драгоценными – писавший статьи в «Комсомольскую правду» или в журнал «Вожатый», я был поражен и вдохновлен тем, что участвую, пусть и косвенно, в таких фантастических затеях.
Для Володи Котова это новое знакомство – то есть со мной, членом редколлегии журнала «Вожатый», – в свою очередь, было слегка экзотическим, помню, как он однажды кому-то из моих друзей сказал (а мне потом передали, конечно), что у меня «яйца сквозь штаны просвечивают», что он тогда имел в виду, я не знаю, но, наверное, мой предполагавшийся им жизненный цинизм и практицизм был несколько переоценен.
Он смотрел на нас прозрачными, ясными, серыми глазами, как бы вбирая в себя весь этот круг людей, вбирая их в свой фокус зрения, в круг понимания, – как бы пытался найти общий смысл наших встреч. Вина и водки Котов на наших встречах не пил вообще.
А если вдруг пил, то случалось всякое. Однажды он шел с нашими общими друзьями по улице, полил сильный дождь. Котов вдруг скинул с себя всю мокрую одежду и полез на фонарный столб абсолютно голый (он, кстати, был физически очень сильным человеком). Он лез просто на руках и добрался до самого верха, крича оттуда что-то неразборчивое. Набежали милиционеры.
…На Днепропетровской, одним словом, быстро сложилось «общество». Однажды Врубель привел с собой художника-концептуалиста Свена Гундлаха, совершенно мне незнакомого человека, державшегося немного официально, и Свен вдруг спросил меня, не знаю ли я людей, которым нужна мебель с авторской инкрустацией («Но только это дорого», – гордо предупредил он). И я совершенно не удивился.
Людей, которые могли бы заинтересоваться мебелью с инкрустацией, среди нас не было, но посыл был мне понятен – мы с Асей в Чертанове устроили «салон»!
Это был именно не интеллектуальный кружок, в котором бы изучали «идеи молодого Маркса», эзотерические басни Кастанеды, или, скажем, «творческое наследие М. Бахтина», или пытались бы выпускать самиздатский альманах, или печатали листовки, – нет, как раз к нам сюда приходили представители самых разных кружков, «общин», коммун и сообществ, чтобы просто посидеть и выпить сухого вина. Никто из нас тогда не пил водку, это был слишком «народный» напиток. Для того чтобы пить водку, нужно было быть уже старым, много пожившим человеком, прошедшим ссылку, лагеря, психлечебницу и так далее.
И вино тогда продавали очень плохое, поэтому мы часто варили глинтвейн – две бутылки красного, лимон, сахар, корица, лавровый лист. Однажды я никак не мог открыть пачку сахара, стоя над кастрюлей, и тогда Гундлах (хотя Ася говорит, что это был совершенно другой молодой человек, которого она ни до ни после потом не видела) взял у меня из рук эту пачку и сказал: «Все гораздо проще». И просто опустил всю пачку, вместе с оберточной бумагой, в кипящую кастрюлю.
* * *…Тимошин не входил в эту мою компанию. Но именно он перевозил нас с Днепропетровской улицы на Аргуновскую, когда мы получили отдельную квартиру. Он переносил нашу старую мебель: книжные полки, раскладной диванчик, детскую коляску, платяной шкаф пятидесятых годов с зеркалом, круглый стол, люстры и светильники, кухонные табуретки (кухню мы потом купили новую, но что-то и с собой взяли), а также «архив» в картонных ящиках. Там были рукописи, какие-то письма, но не только.
Конечно, главной частью перевозимого с Днепропетровской улицы архива были материалы фотовыставки «10 лет Комбригу».
Как я уже говорил, сначала на Днепропетровскую к нам начали приходить просто гости, потом гости «из разных сфер», из разных московских кружков, потом меня обуял какой-то «творческий раж», или, как сказали бы сейчас, «жажда проекта». Не знаю, почему меня всю жизнь обуревают эти совершенно бессмысленные и ненужные идеи.
Возможно, первой такой идеей была выставка «10 лет Комбригу».
«Комбригом» когда-то назывался клуб при редакции «Комсомольской правды», куда мы ходили в конце семидесятых годов. Это было связано с Соловейчиком, «коммунарской методикой», «педагогами-новаторами».
История «Комбрига» в виде отдельной статьи попала даже в сборник «История левых движений в СССР».
Порожденный нами тогда вал самиздата – какой-то внутренней переписки, дневников, «манифестов», литературных опытов, проектов построения идеальной структуры (структуры чего? – я бы и сейчас не смог ответить на этот вопрос) – свидетельствует о том, что мы буквально рвались в какое-то свое будущее, ощущая его очень остро, как неизбежную, почти уже зримую реальность. Клуб создавал удобную почву для этого и для многого другого – первых любовей, страстных дружб, откровенных признаний, решительных поступков и так далее.
Все это, бережно сохраненное, разложенное по папочкам, скрепленное и надежно подшитое, хранилось у Фурмана дома.
Мой архив, в отличие от фурмановского, отличался полной бессмысленностью и в какой-то мере пригодился только сейчас. Но мы все равно бережно перевозили его с Днепропетровской на Аргуновскую и потом дальше.
В несколько сокращенном виде этот архив и сейчас со мной.
…В общем, в 1984 году мы решили отмечать десятилетие клуба. За оформление выставки взялась Женя Двоскина и предложила изумительно красивое решение. В нашей пустой «нелегальной» комнате (потом там поставили детскую кроватку) появились свисающие с потолка кубы – из ватманской белой бумаги, склеенные таким образом, чтобы можно было заглядывать внутрь, кубы представляли собой мозаику из записок, писем, фотографий и прочего.
Кубы крепились к выкрашенным рейкам, которые Врубель приладил к потолку.
Фотографий у нас тогда было довольно мало. Еще не было мобильных телефонов, цифровых снимков, и даже если фотокамера у кого-то имелась, необходима была еще целая «лаборатория», то есть темная комната с проявочными ванночками, проявителями и закрепителями, красным фонарем и проволокой, на которую с помощью прищепок развешивались сохнущие снимки, но главное – желание всем этим заниматься. Камера у Морозова была, дедовская, иностранная. Иногда снимки делали и другие люди, но все равно их было крайне мало.
Не было и самой привычки непрерывно фиксировать реальность, она появилась много позже.
Короче говоря, нами было склеено два или три бумажных куба, в которых размещались десятки замечательных артефактов.
Выставка, таким образом, ждала своего открытия в «нелегальной» комнате, покрываясь пылью, некоторые кубы я потом снял, чтобы не задевать их головой (ведь комната использовалась и в других целях, особенно когда родился Митя). Наконец, мы с Асей получили квартиру, и я начал срочно упаковывать всю эту «выставку» в мятые картонные ящики, купленные в продмагах. Красивые ватманские кубы, в висячем положении – по крайней мере, первое время – вызывавшие восхищение своим изяществом, в сложенном виде оказались пыльной бумагой, на которую были наклеены фотоотпечатки и листочки, заполненные нервным подростковым почерком. Увозя все это на Аргуновскую, я уже не верил, что это когда-нибудь нам пригодится.
Именно так – по одной из версий – пропала часть архива Фурмана. Я взял ее «для выставки» и не отдал.
…И все же хочется понять, вот сейчас – через сорок почти лет – что же именно мы хотели показать на этой выставке «10 лет Комбригу», и главное – кому? Ответ на последний вопрос будет несколько размытым – принципы «домашней выставки», или «домашней галереи», уже давно существовали, это было у нонконформистов начиная с шестидесятых, потом это подхватили умные головы типа Д. А. Пригова, и в общем и целом мы об этом знали. Но, конечно, уже на старте этой затеи было понятно: показывать что-то глубоко интимное, личное, непонятное и не конвертируемое в мир других людей – было глупой затеей. Ну хорошо, даже если отбросить эти тонкости и предположить, что все десять кубов были бы Двоскиной созданы и гости приглашены, – что именно мы хотели тогда показать?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.