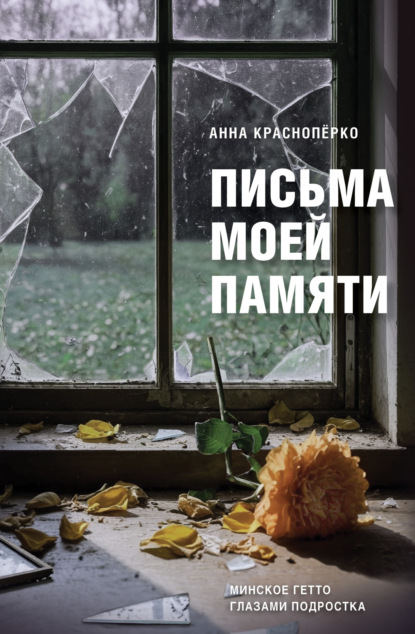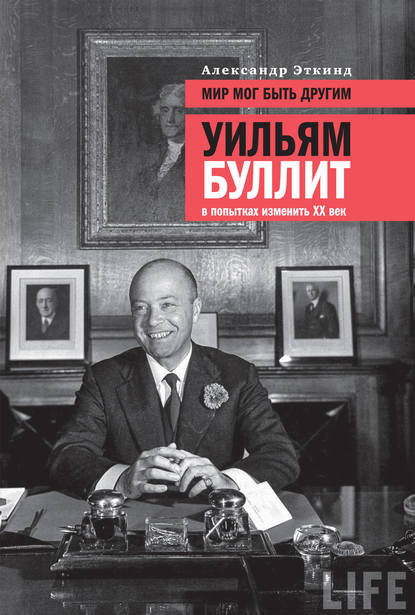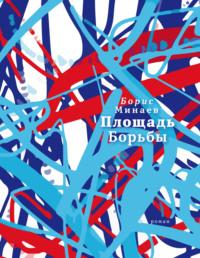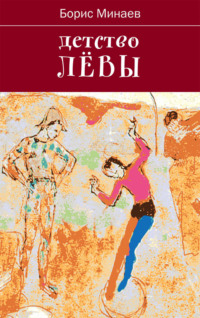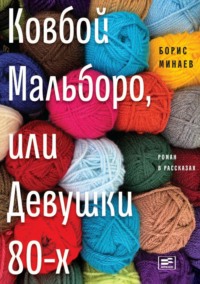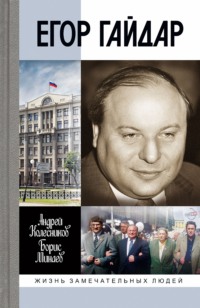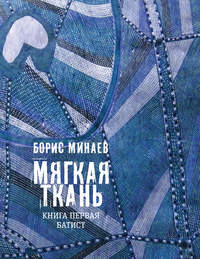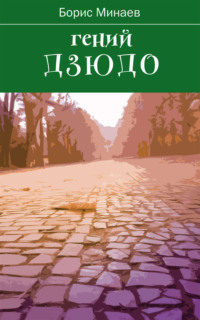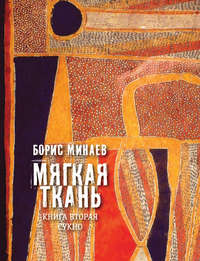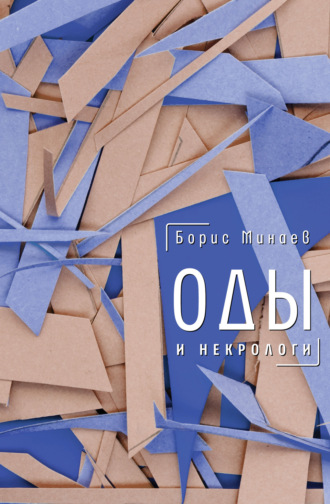
Полная версия
Оды и некрологи
Леве стало немного страшно.
Он прекрасно понимал, что к обычным цирковым фокусам это отношения не имеет. Технику фокусов он хорошо знал, поскольку писал репризы для Союзгосцирка и даже Никулина видел лично, тот ласково ему покивал, когда Леву завели в кабинет, как нового автора. Нет, это были не фокусы. Лева верил в гипноз, но ведь тогда получалось, что тихий экстрасенс Эдик просто загипнотизировал их вдвоем с Тимошиным, и сейчас он их убьет, изнасилует или тупо ограбит.
Отберет голубых зайцев, например.
Неизвестно, чего Лева боялся больше, – поэтому он активно щипал себя за внутреннюю сторону руки, где кожа нежнее. Было больно.
Наконец Тимошин грубо спросил Эдика:
– А нахрен ты вообще нам все это показываешь?
Женщина с верхней полки подняла голову и заспанным голосом попросила говорить потише.
Эдик нахмурился, вежливо попрощался и пошел в свое купе.
Коробок остался лежать на столе.
…Тут я должен сказать, что в конце восьмидесятых годов в экстрасенсов, неопознанные летающие объекты (UFO), инопланетян, снежного человека и бермудский треугольник верили почти все. Даже люди с высшим образованием.
Но то, что спичечный коробок в этом сраном вагоне сам встал на ребро, – это было не про науку и технику. А про что-то другое. Лева и Тимошин это поняли сразу. А я только сейчас.
Мир вокруг подошел к какому-то важному рубежу. Так сказать, к Рубикону. Эдик им просто это наглядно показал.
* * *Среди моих друзей и знакомых тогда были будущие писатели, политологи, даже маги (каким был, например, Володя Котов, о котором речь пойдет позже) – но Тимошин даже среди них казался совершенно особой фигурой.
Такие люди есть в каждом поколении.
Вот что, например, пишет Валерий Попов об одном из друзей Сергея Довлатова:
Слегка особняком от всех стоял Валера Грубин. Самый ближний, повседневный – и самый загадочный друг Довлатова. Необыкновенный умница и эрудит, за глубокое знание древнегреческой литературы заслуживший прозвище Тетя Хлоя – при знакомстве произвел на меня очень странное впечатление. Большая голова, объемистая, как колокол, грудь, мощные руки. Он был чемпионом, кажется, по метанию молота, а кроме того – одним из светил философского факультета университета. При этом говорил как-то мало, тихо и невнятно, как бы ленясь вести разговор. Все могучие его знания и способности сводились на нет какой-то чуть заметной примесью абсурда, которая была в этом вроде бы воспитанном, серьезном человеке, никогда не повышающем голоса. Но – забыть, опоздать, по совершенно необъяснимым причинам не явиться вдруг на заседание кафедры, где решалась его судьба… такое он проделывал постоянно, без малейшего напряжения и мук, ничуть не переживая и не изменяясь в лице, как говорят в народе – «за милую душу». Когда его с отчаянием спрашивали, как же так – он спокойно отвечал что-нибудь вроде «знаете, забыл», или «ничего страшного, сделаю позже». Наверное, именно он наиболее полно и честно выполнял модную тогда в нашей жизни программу: «Маразм – лучшая форма протеста». Когда я его увидел, он, по-моему, уже растерял все, что могла бы ему дать наука, или спорт, или что-то еще, и работал на какой-то фантастической должности, не требующей никаких усилий и даже появления на рабочем месте… При этом он был ровен и спокоен в общении, вовсе не казался гулякой и разгильдяем, был серьезен и всегда сосредоточен на чем-то далеком, невидимом глазу…
О похожем на Грубина человеке из своего поколения, например, пишет в «Памятных записках» Давид Самойлов, это был его одноклассник – Борис Шахов, которого он запомнил так ярко, что даже через пятьдесят лет досконально вспомнил его любимые книги, привычки, особый облик. Но если Грубин – человек шестидесятых, то Борис Шахов, самойловский одноклассник – человек тридцатых. Их объединяет лишь одно – они потом куда-то пропали.
Такие люди, наверное, одарены не какими-то особыми талантами и способностями, а тем внутренним светом, который поражает, иногда даже ослепляет окружающих.
Странные, они словно очерчивают вокруг себя круг, в котором мы все должны жить.
Но главное, что их объединяет, – это неспособность или, скорее, невозможность приноровиться к внешнему, социальному, вообще к «чужому».
У таких персонажей в организме как будто отсутствует данная всем и каждому от природы способность обтекать жесткие углы жизни. У нас у всех есть эта пластичность, умение превращаться почти в воду, чтобы не столкнуться с чем-то очень жестким и не разбиться об него, способность, про которую мы сами ничего не понимаем, но она нас порой спасает. А такие люди, как Грубин или Шахов, они от природы твердые, в них нет вообще никакой жидкости, если понятно, о чем я говорю.
Наверное, таким человеком был и Тимошин.
Но если все эти «люди внутреннего огня», забытые герои были в воспоминаниях современников все-таки прежде всего несостоявшимися гениями, то Тимошин несостоявшимся гением не был, разве лишь в одном – он был очень увлечен идеей справедливости (или несправедливости).
Он жил с этим ощущением, и оно дрожало, пульсировало в нем ежесекундно, отнюдь не заглушаемое алкоголем, скорее наоборот.
В этом смысле он был, конечно, выразителем, как ни странно, главной идеи нашего поколения.
Идея была в том, что весь этот окружавший нас советский мир – вообще не жалко. Чем скорее он умрет, тем лучше. В нем для нас не было ни одной детали, которую хотелось бы бережно сохранить. Мы все жили с терпеливым и мрачным ожиданием конца этого света.
И мы дождались.
* * *Казюкас был в марте – то есть, как мы понимаем теперь, это была не только ярмарка, но и карнавал. В ходу были шутовские колпаки, маски, в том числе жуткие – какие-то козлы, пугавшие всех настоящей вонючей козлиной шерстью. Люди продавали горшки, деревянные бусы, шапки, шерстяные варежки, девушки из литовских деревень с интересом смотрели на молодых московских парней.
Это, впрочем, раздражало других молодых парней, литовских – предание сохранило память о «битве при Казюкасе», когда на москвичей напали местные гопники, на самом деле никакие не гопники, а просто литовцы, рабочие ребята, которым, как говорил мне Тимошин, надоел «весь этот выебон», в ход пошли палки, кастеты, и тогда толпе хиппи пришлось быстро спасаться в православном монастыре, и, кстати, попы их приняли, закрыли ворота, литовцы поорали с полчаса да и разошлись.
А Казюкас продолжался.
…Кстати, как тогда выглядели хиппи?
Глупо думать, что они одевались в джинсу (как показывают сейчас в сериалах, изображающих советскую жизнь), – отнюдь. Джинсы за двести рублей (то есть за мою месячную зарплату в «Вожатом»), купленные на Беговой возле магазина «Березка», тогда были как раз буржуазной роскошью. Их берегли для праздника и выхода в свет. У хиппи же вся жизнь была праздник и выход в свет, поэтому одевались они несколько иначе. В ходу были перешитые бабушкины вещи, всякое народное творчество – мешковатые платья, длинные юбки черт знает из какого материала, плащи на пять размеров больше, старые армейские шинели, шляпы тридцатых-пятидесятых годов, мужские пиджаки, прошитые цветной ниткой, да господи, они одевались как клоуны.
Именно за эту невыносимо вызывающую одежду их и били гопники: нормальные люди так не выглядят, а ненормальным не место среди нормальных.
Очень часто хиппи покупали все это рванье на Тишинском рынке. Это была знаменитая московская барахолка, и если в послевоенные годы вся Москва, любая ее площадь могла быть барахолкой, то есть ярмаркой старья, то к семидесятым годам осталась одна – вот эта. Здесь можно было купить все, что надо городскому клоуну, – мягкие хлопковые штаны в крупную клетку, отстирать и перешить которые было несложно, фуражки без звездочек, свитера с заплатами, кожаные ремни, сумки. Например, если девушка, ехавшая на Казюкас, покупала здесь кожаную куртку за десять рублей, всю в царапинах и разрезах, принадлежавшую когда-то какому-нибудь летчику или чекисту, это была удача. На Белорусском вокзале ее уже было видно издалека, в этой куртке или в старой солдатской шинели и клешах, в грубых мужских ботинках – к ней уже радостно спешил милиционер, чтобы проверить документы. Одевались, конечно, и гораздо скромнее: мешковатые юбки, куртка поверх платья, чтобы не привлекать внимания, – но опытный глаз все равно видел и ксивник на шее, и фенечки на запястьях, и ожерелье из пуговиц, и фуражку без кокарды.
Тимошин относился к хиппи очень плохо.
– Да ты что, я ими вообще брезгую, – сурово говорил он мне. – Не моются, спят черте где, пахнут плохо. Могут украсть что-нибудь. Ну их…
…Сам я к хипповской «системе» никогда не принадлежал. Знакомых у меня там тоже не было, кроме Умки. К словам Тимошина я относился с предубеждением – хиппи казались мне самой прогрессивной частью нашей молодежи.
Но спорить я не хотел.
Между тем именно там, на Казюкасе, Тимошину пришлось отдуваться за всех хиппи перед литовцами – когда они с Левой зашли в пивную, чтобы выпить местного пива (думаю, что холодного, простого, а не местного горячего), чересчур громкий голос Тимошина кому-то не понравился, а может, он сказал что-то про саму ярмарку, что цены слишком высокие, что мостовая грязная или что-то в этом роде. Леву с Тимошиным сразу обступила толпа литовцев, «и я понял, что нас сейчас жестоко отделают… – вспоминал потом Лева. – Но выхода не было. Мы стояли спина к спине и мрачно ждали, как вдруг от толпы отделился один человек, встал вместе с нами и громко сказал: ну ладно, тогда бейте и меня!».
Это вдруг почему-то отрезвило местных, и они отступили.
* * *Вся эта история была довольно типичной для Тимошина.
– Однажды, – рассказал мне Лева, – он ехал ко мне домой на день рождения, второго ноября. Мы сидели на кухне, закуски уже стояли на столе, я купил водки, и вдруг звонит Тимошин и говорит: «Лева, извини, я тут немного задерживаюсь, тут какие-то мудаки к девушке пристают, я должен немного разобраться, извини…» Потом он позвонил с другой станции метро, из телефона-автомата, потом еще с другой, и еще… То есть он проезжал одну остановку, выходил, дрался, потом опять выходил, опять дрался и так далее.
Потом примерно через час все-таки приехал. Весь в крови, брюки грязные, но вид довольный.
Хорошо представляю себе, как Тимошин нависает над группой гогочущих подростков, которые прицепились к какой-то девчонке, как выволакивает их на перрон, как они всей толпой начинают его бить, как к ним подбегают милиционеры и задерживают Тимошина, это же он «первый начал», волокут его по перрону, заламывают руки, он исхитряется и начинает их бить в ответ, подростки смываются, и только девушка бежит за милиционерами и, плача, умоляет их отпустить Тимошина.
Мы сидели и продолжали говорить о Тимошине. В буфете Центральной республиканской детской библиотеки.
– Ты еще пирожное не доел, – вежливо сказал Лева.
– А, ну да… – ответил я. – Задумался немного.
– Вот понимаешь, – сказал Лева, допивая воду из своей бутылочки, – если бы он здесь оказался, он бы и тут с кем-нибудь сцепился, я в этом просто уверен…
В изумлении я оглянулся – вокруг были малыши, которых безжалостные родители, в основном мамаши тридцать плюс, привели на книжную ярмарку, с кем тут можно было сцепиться, интересно?
Но я вспомнил, как взял детский стульчик (тут были только детские столы и стульчики) и переставил за наш стол, как пролез без очереди, чтобы быстро взять свой кофе, салат, пирожное и бутерброд, мне все пробили моментально, пока малыши мучились с выбором чупа-чупса.
…Ну да, наверное, он сцепился бы со мной. Больше тут было не с кем.
* * *В 1987 году я работал в «Комсомольской правде», уже во второй раз, и мне нужна была тема. Тему подарила мне Нина Павловна – женщина, которая позвонила в редакцию и поговорила со мной по телефону. Она рассказала, что приехала в Москву добиваться справедливости (ее, как она считала, несправедливо уволили). Нина Павловна приехала из одного республиканского центра. И вот она ходила по высоким кабинетам и приемным, писала разные заявления, добиваясь этой самой справедливости, она кратко описала мне всю эту волокиту, в довольно ярких выражениях, а тем временем ей надо было где-то жить с дочкой, заявления рассматривала сначала прокуратура, потом какая-то комиссия ЦК, все длилось месяцами, – и она стала сиделкой, помогала, как она говорила, пенсионерам и инвалидам и жила на птичьих правах, выкраивая утренние часы, чтобы вновь доехать до прокуратуры или до приемной Верховного Совета, отстоять очередь, сдать заявление, а потом назад, возвращаться в свою Немчиновку к очередному инвалиду – дочка тут пошла в школу, денег за «помощь» родственники инвалидов платили немного, но вроде на жизнь хватало, однако Нина Павловна горько говорила мне о том, что справедливости в Москве она так и не нашла.
Я приехал в эту Немчиновку. Инвалид спал в соседней комнате, жутко пахло лекарствами и старостью, она кормила меня на кухне супом из тушенки или из каких-то еще мясных волокон, – помню хорошо этот вкус, вкус беды, вкус сиротства и безнадежности. Она еще с тревогой спросила меня: что, невкусно? И болезненно поморщилась, когда поняла, что невкусно.
Нина Павловна говорила мне, что приехала в Москву, начитавшись статей в «Литературке», «Комсомолке» и других газетах, перечисляла знакомые мне фамилии: Щекочихин, Рубинов, Ваксберг.
Борьба за справедливость или восстановление справедливости была тогда в полном разгаре.
Я о ней написал, надеясь, что это Нине Павловне как-то поможет, но написал главным образом не о ее судьбе (что, наверное, и было моей ошибкой) – а о том, что этой жаждой справедливости тогда были охвачены многие, можно сказать, охвачена вся страна. На Красной площади раскинулся целый палаточный городок, там люди ночевали, жили неделями, о них снимали репортажи для программы «Время», они вывешивали плакаты о своих требованиях, в основном у них были конкретные претензии – у кого-то неправильно посадили мужа, кому-то не дали инвалидность, кому-то квартиру, тут было очень много жалоб, много претензий, городок на Красной площади все рос и рос, людей в нем прибывало, такое, наверное, случилось впервые за всю историю страны – может быть, в первый и в последний раз, милиция с ними ничего не делала, просто поставила оцепление, и все.
Мне за статью дали там какую-то премию, кажется десять рублей, на летучке похвалили, я начал думать над следующим очерком, а потом опять позвонила Нина Павловна и пришла в редакцию.
– Ну как же так… – сказала она. – Ведь ничего же не изменилось. Мои просьбы игнорируют. Я всюду приношу вашу статью – они смеются. Или отписываются бумажками. Вы должны что-то сделать.
– Ну а что я должен сделать?
– Не знаю, – печально ответила она. – Вы же журналист. Сделайте что-нибудь. Вы должны.
Потом она приходила еще несколько раз – в те места, где я работал. И долго, тяжело говорила со мной. Разговор она начинала так: вот, я поверила в перестройку, я читала в «Литературной газете» статьи: Рубинова, Ваксберга, Щекочихина…
Теперь, говорила она мне, просьба у меня совсем простая – пусть пропишут в Москве. Мне больше ничего не надо. Чтобы найти нормальную работу, чтобы дочка училась в школе, чтобы не на птичьих правах. Я понимаю, что меня уже на восстановят на работе в родном городе. Но хотя бы вот это…
– Хорошо, – говорил я. – Давайте я напишу письмо. Кому?
– Да нет, – говорила она горько, – вы должны добиться, чтобы меня прописали в Москве.
И в какой-то мере она была права. Просто это было не в моих силах.
В середине девяностых я частенько ездил в Переделкино, чтобы там поработать несколько дней в доме творчества (тогда он представлял собой довольно унылое место) – и в электричке с Киевского вокзала, когда начинался бесконечный поток продавцов разной мелочи, частенько видел Нину Павловну: она предлагала пассажирам воду, пирожки, иногда газеты. Она проходила мимо меня между рядами.
…И я видел, что и она меня видит, хотя делает вид, что не видит, я краснел и отворачивался к окну.
Сказать друг другу нам было нечего.
В общем, мир вокруг подошел к какому-то важному рубежу, как уже было сказано. У меня тоже было такое ощущение. Там, на Казюкасе, Лева и Тимошин увидели то, чего в принципе не могло быть. И это ощущение постепенно разливалось в воздухе.
Дополнение к главе первой
Мальчик с печатью
У меня (верней, у моей мамы) сохранилась в книжном шкафу такая книжечка, она называется «Для вас, ребята!» (репертуарно-тематический сборник, издательство «Советская Россия», 1986-й). На книжечке есть дарственная надпись, так сказать, автограф автора: «Дорогой мамочке, воспитателю журналистов и литераторов, свой “первый блин” (может не последний?)».
Я подарил брошюру маме 16 марта – наверное, не нашел лучшего подарка на 8-е, на «международный женский день». А может, и не в этом дело, просто для меня любая книжка с моей фамилией в тот период была важна.
В сборнике есть инсценировка повести «Кондуит и Швамбрания» Льва Кассиля, стихи Игоря Шкляревского «Ленин в Шушенском», и, конечно, сценарии для агитбригады. Все это мне рекомендовали в издательстве, я же добавил туда несколько своих – написанных мной или заказанных авторам – текстов. Тексты были такие.
Сценарий «ТВТ, или Товарищество воинствующих техников».
«…Тут появляются все остальные наши герои – Яша, Стась, Соня, Леня, Боря, Андрейка. Они носятся по сцене, а в руках у них портфели с оторванными ручками, поломанные утюги, рубашки с оторванными пуговицами, дырявые чулки… И мы слышим крики: “Помогите! Почините! Зашейте! Заштопайте!”
Синеблузники. Ну и порядки! Невыносимо! Честное слово! Эти ребятки не могут сделать то, что проще простого! Ни зашить, ни прибить, ни завинтить! Как же так можно жить?! Нет, в нашем краю советском – таким не место!.. А ведь все, что вы видали пока, происходило из-за пустяка… Да-да, как и во все века… Не было гвоздя, подкова пропала… И это в то время, когда вся наша страна от западной до восточной границы и от Ледовитого океана до Каракумов в едином порыве, напрягая стальные мускулы, строит социализм. Когда миллионы людей строят, возводят, прокладывают, штурмуют, перевыполняют… Когда в суровых условиях Крайнего Севера борются во славу советской науки наши полярники во главе с академиком Отто Юльевичем Шмидтом… Когда легендарный Валерий Чкалов со своим героическим экипажем совершил выдающийся перелет в американский город Сан-Франциско».
Называлась эта пьеса – «представление-буфф по одноименной повести Янки Мавра».
Что это был за такой Янка Мавр, я так и не узнал. Может быть, это был какой-то выдуманный писатель. Вся эта фигня была, как мне показалось, легкой, ироничной, чувствовалась дистанция между «нашим» современным взглядом и чугунной мифологией 30-х годов. Чугунной и героической. Я решил печатать. Это все написал мой друг К.
* * *Если мой друг К. легко оперировал культурными символами прежних лет, то я попытался привнести в свой сценарий «дыхание современности». Взял газетные вырезки, подборки подростковых писем, долго над ними корпел. Получилось не очень.
«Красивая девочка. По-моему, добрый человек – это человек бесхребетный, бесхарактерный. Добрый человек никогда не спорит с судьбой. Не может, не способен из-за доброты своей включиться ни в какую борьбу, постоять за себя… Добрый – это в определенном смысле слабовольный человек. Добрый человек почти всегда кажется жалким».
Но если на газетной полосе, рядом с постановлениями ЦК ВЛКСМ, суровыми тассовками о международном положении, статьями отдела пропаганды о том, как правильно готовиться к очередному съезду КПСС, – весь этот «школьный наив», моральные искания старшеклассников смотрелись еще как-то свежо, то в структуре сценария, разыгранный по ролям, этот «советский гуманизм» был просто ужасен. «Советский гуманизм», я это еще плохо понимал тогда, вдруг как-то переворачивался в словесной воде – как переворачивается рыба – и оказывался мутным, склизким и бесформенным. Самое главное – бесформенным. Меня еще мучила моя неспособность к пониманию законов драматургии, хотя я знал, что тут нужен какой-то конфликт, «развитие», какие-то характеры, но никак не мог понять, как же все это делается.
«Я знаю, что Ленин еще в гимназии задумывался над судьбами народов, что Маяковский в нашем возрасте ушел в революцию… И таких примеров сознательной борьбы юных можно привести много. Сейчас другое время. Но я был бы счастлив, если с гранатой или саблей я мог открыто бороться против открытых врагов».
Так писали реальные дети в восьмидесятые годы прошлого века.
Когда я попытался собрать вместе все эти письма, которые (каждое по отдельности) казалось нам в «Алом парусе» и наивным, и искренним, и милым, я просто ужаснулся. Гуманизм не помогал. Ни советский, никакой. А может быть, все дело было просто в моей бездарности?
…А вот в «Вожатом» меня не покидало чувство странного восторга. Впервые я чувствовал себя в совершенно несвойственной мне роли веселого обманщика. Я занимался тем, чем в принципе не мог, не имел права заниматься. И все время ждал разоблачения, словно мальчик в повести «Принц и нищий».
Но пока меня не разоблачили – я давал подзаработать своим друзьям. В том числе и Тимошину. И Леве.
Коллекция Вожатого Васи.
Помните? В прошлом выпуске мы объявили конкурс на лучшую коллекцию смешных фраз, которые придумывают наши воспитанники. Первым откликнулся и прислал в редакцию несколько детских наблюдений о цирке и цирковых артистах учитель из Свердловской области Сергей Иванов. Дети верят цирку и любят цирк, последний старается отвечать им взаимностью. Им хорошо друг с другом, потому что у них много общего. (Дальше шли «смешные фразы»).
– Тигр зарычал, и укротитель встал на задние лапы.
– Очень понравился номер со зверями, особенно когда лиса подбежала к зайцу, а заяц отбивался ушами.
– Хочу стать джигитом, только вот голос у меня тихий.
– Буду цирковым силачом. Только гири у меня нет, тренируюсь пока на макулатуре.
– Больше всего в цирке мне понравилась газировка и мороженое.
Ну и так далее.
До меня на этой должности работала некая Ирина Николаевна М., лет тридцать работала, пока не ушла на пенсию. Она знала буквально всех в литературном мире Москвы. Чуть ли не Вознесенского она печатала в «Вожатом» (а уж Давида Самойлова точно). Так вот, она и была создателем этого «отдела эстетического воспитания» в том виде, в каком он достался мне. Он был ее жизнью, ее детищем. И если этот созданный ею «целый мир» вдруг доверили мне, «мальчику с печатью» – тут что-то было не так.
Я вообще понятия не имел, зачем я тут нахожусь. Это был какой-то абсурд.
Ну не мог такой человек, как я, или такой человек, как Тимошин, работать в отделе эстетического воспитания журнала ЦК ВЛКСМ. Этого в принципе не могло быть. Но оно было.
Мир, короче, подступал к какой-то роковой черте.
Глава вторая
На Аргуновскую улицу (куда Тимошин принес свой витраж) мы переехали в 1987 году из Чертанова, где у нас была комната в двухкомнатной квартире на Днепропетровской улице.
Сосед был старше меня раза в два, с сухим желчным лицом, довольно красивым, ну то есть на тот момент, по моим понятиям, ему было около пятидесяти (скорее, лет сорок пять). Звали его Олег. Женат он был на молодой девахе, высокой и тощей, из Кургана или из Кемерова, я не помню, в общем, из какого-то города, где я никогда не был. И еще у него была собака сенбернар.
Когда мы в первый раз позвонили в дверь, держа в руках ордер на вселение, собака выбежала в коридор и наделала лужу от страха. Мне было странно, что такая огромная собака от страха писается. Тогда еще у меня не было собаки. И я этого не понимал.
Олег был немного специфическим человеком. Вел он себя в целом аккуратно, но всячески подчеркивал, что ни в чем ограничивать себя не будет. В коммуналке он оказался из-за развода с предыдущей женой. Она развелась и комнату у него отобрала, отсудила. Теперь в ней жили мы.
…Однажды молодая сожительница Олега решила отмыть кастрюли дочиста. Новым чистящим порошком. Они тогда только появились в продаже. Короче, Олег увидел коробку с порошком и страшно разорался.
– Вот я думаю, что за привкус такой! Ты что, с ума сошла, дура! Это ж химия, жуткая вещь! Это же болезнь, рак!
Мы с Асей напряглись.
– Не смей этого делать! – орал Олег на кухне. – Поняла, дрянь? Песком, песком три!
Ночью сожительница решила загладить свою вину. Из комнаты Олега некоторое время доносились сладкие стоны любви, причем, как мне показалось, немного наигранные (хотя что я тогда в этом понимал).
Все было не очень приятно, а утром – наступила суббота – Ася послала меня сказать, что надо вести себя потише.
Тут Олег опять разорался.
– Я в своем доме нахожусь, понятно? Я вас сюда не звал, понятно? И вообще, у меня справка есть, я инвалид по психическому здоровью, и мне ничего не будет…