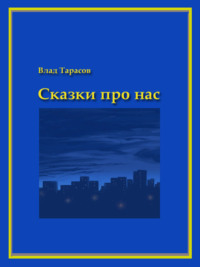Полная версия
Ностратические тайны русского языка. Исправленное и дополненное издание
А еще истинно русским словам не был свойственен сингармонизм – явление, при котором одни и те же гласные дублировались в начале и середине (а когда в начале, середине и конце) слова. Примеры: бархан, саман, папаха, чебурек, балаган, базар, тахта, саранча, барабан, сарафан. Это слова персидского или тюркского извода (часть из них – персидские, перешедшие нам от тюрок).
Помимо «свёклы» к греческим заимствованиям относятся сотни слов. Им посвящены словари!
К скандинавским лексемам русского языка относят такой материал как «акула», «фиорд», «нарвал», «лемминг», «варяг», «кнут», «ворвань», «ларь», «сайда», «слалом», «ябедник», «крюк». С той же поры имя Рюрик. Хотя на псковско-новгородском «рюрик» – «сокол». Есть Игорь. Хотя у славян уже мог быть Игр (ИГРун – участник ИГРы, то есть одной из форм инициации). Известны Олег и Ольга. Но на псковско-новгородском «оля» – «цвет соломы». Глеб. Инна… Впрочем, именем Инна русские стали называть дочерей вообще не ранее XIX века. Как видите, влияние норманнских языков средневековья явно переоценено норманистами. «Сова на глобусе».
Таким же богатым (как греко-латинский и тюрко-персидский) пластом заимствований является слой финно-угорский. У нас для северных слов характерна такая флексия (крайние морфемы): ОГА, ЕГО, ЮГА, ВА, а также ХТА, ГДА и МА. Но это, что касается топонимов и гидронимов (Онего, Пинега, Ладога, Ухта, Вычегда, Вологда, Москва, Кострома, Кинешма, Клязьма и Няндома). Нарицательные в такой же мере часто заканчиваются на ШКА или на КША (слов очень много, в том числе опять же топонимов – Кандалакша и т.д.). И опять же имеются нарицательные, оканчивающиеся на ХТА («пихта»). Или на ЮГА («вьюга»), то есть на «финский» суффикс стилистического снижения ЮГ/ЮК («ворюга», «хитрюга», «змеюка», «зверюга», «подлюка»). Хотя тот суффикс многие готовы записать еще в «ведический». Тут я уж спорить не буду. Почему бы и нет? Устюг и Ильмень (ранее Ильмер) также относят к названиям, сохранившимся еще от аборигенов севера. Характерно, что поселенцы родом из центральной России уже в новое время «ильменями» станут звать все озера в степи. Из восточной части мира уральских языков к нам пришли «пурга», «ирга», «пельмень», «норка». Названия северных рыб и с запада, и с востока Русского Севера – салака, корюшка, килька, навага, пикша, кумжа, нерпа. Этимологи даже слово «морж» считают русской калькой («переделкой») с одного из языков уральской семьи. Наименование парусного судна «лайба» – извод от старого финского (общего для финнов и карел). «Лайва». Еще больше онимов финно-угорского происхождения живут в диалектной среде. «КИДАть» («бросать») от мерянского словечка «КИДА» – «рука». От этого же исчезнувшего этноса перешли к нам КУЛЁМА (сегодня у россиян «нерасторопный», а в просторечии мерян значило «дохлый»). КАРГа (КОРГ – «проклятье»). ЧУЧУНДРА («жена младшего брата»). Блатное МАЗА от общего слова поволжских финно-угров МАС («классно!» или «красиво»). Надо помнить о жаргонном слове ЛОХ (в оригинале это не аутсайдер, а всего лишь «неповоротливый мужик»). Есть УШАН (вовсе не ушастый, а умный). А еще ШЕПтаться (ШЕП изначально не тихо, а медленно). ЛАНДЫШ. ЧУЧЕЛО… Получается, меряне не умерли: говорят с помощью русских диалектизмов.
Остается добавить, что заимствованные элементы русского словаря не обязательно ныне обозначают то же самое в языке, из предыдущей версии которого они к русским людям попали.
К примеру, «бас сейнс» у французов это теперь «низкие груди» (плоские). У греков «колос» – уже не столб, а пренебрежительное наименование, простите, заднего прохода (грамотно звучит как «коло»). Название сушеного плода финиковой пальмы у эллинов сложилось из-за его цвета (рыжего) – «фоинис». Потомки древней Эллады сегодня лакомство так не зовут. Зато калька слова есть в русском – «финик». Но в арабских странах лучше именовать финики по-арабски (на худой конец – по-английски). Потому что у арабов «фейнок» – «совокупляться». Дело в том, что живые языки постоянно меняются. Кто бы мог подумать, что в XI столетии на территории центральной и северной России присутствовали непонятные нам словосочетания – «заУТРОкаи» («останься до утра») и «аще ся въвадить» («если повадится»). Обыденное ныне слово «сВОЛОЧь» появилось лишь в 14 столетии в значении «мусор, который наВОЛОКли». То есть узнаваемыми в лучшем случае остаются лишь корни слов. Понятно теперь, почему им и посвящена основная часть текста.
И, если уж начал про курьезы, то пусть и не совсем в тему, но добавлю. Наше «звательное» междометие «кис» в арабских странах зазвучит как матерное наименование женского детородного органа: ваше обращение к кошке будет резать ухо аборигенам. На тот же орган вы можете нечаянно намекнуть, попросив в Черногории спички («пичка» это…). Просто представьте как нас самих тревожат китайские и монгольские слова, начинающиеся на «ху…». Да что там азиаты! Мы готовы смеяться даже, услышав речь братьев-славян. Все, наверное, знают о «феномене» чешского. Над его словами русские люди, не знакомые с суффиксами языка, хохочут.
Да вы и родство большинства современных – хорошо знакомых – слов не заметите. Кто, например, подумает, что корень, лежащий в современном термине комМЕРЦия, лежал и в словах, которые у первых индоевропейцев обозначали много что. Границу света и тьмы (даже моргание-МЕРЦание и пограничное состояние суток), границу расселения племен, границу миров, предметы для опять же пограничного обмена (позже – классические товары), отметку хозяина тех товаров, имя бога пересечения границ и торговли, а в средние века – еще и рубежное княжество…
И даже не каждый учитель русского языка и литературы поверит, что изГИБ – родич ГИБели, а ГУБа – «сестра» слову ГУБить. Но все сразу станет ясно, когда мы поймем, что корень ГУБ (в современных языках еще и ГИБ, и ГУИБ, и ГУБ, и КУП, и КОП, и КУБ, и даже КАП/ХАБ) это все «дети» не только индоевропейской, но и тюркской основы КУБ/КАБ (тюркская группа – переходная от индоевропейской семьи к алтайской). КУБик (КУБус) изначально обозначал вовсе не объект с четкими гранями (как сегодня), а, наоборот – слишком плавно обточенный позвонок от скелета животного (игру с КУБиком до сих пор в исторической литературе зовут «игрой в кости»). Основа эта когда-то очень давно отвечала за плавность (постепенный изГИБ) в самом широком смысле этого слова – за выпуклость, впуклость, излучину реки, плавный нарост, плавное верхнее завершение объекта (КУПель, КАПитель, КАПитул), за свод (в том числе и самый самый верхний, который мы и ныне называем небесным КУПолом, а некоторые народы Востока называют этим корнем, соответственно, и оттенок неба, и само небо). Мы сегодня уверены, что плавный поворот реки это ее ЛУКа или изЛУЧина. Наши давние предки с нами поспорили бы. Так как это всего лишь ЛУГовина, ЛУЖа, ЛУЗа, ЛОЖка, ЛОЩина реки – ее тело, углубление в долине, по которому она течет, а, вернее, в котором ЛЕЖит. Потому что ЛУК (ЛУГ), также как английский ЛОДЖ, греческое ЛОКсно, итальянское ЛАГо, а также слова, обозначающие провал и пробел – ЛАКуна и ЛАГуна – это изначально ЛОЖе реки. Все, что имеет, изГИБ не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости. Т.е. это ЛОЖе – ЛОЖка, ЛУЖа, ЛОДка и т.д… А вот изГИБ как раз в горизонтальной плоскости это ГИБа или ГУБа!!! ИзГИБ морского, речного, озерного берега первые славяне (как и те, кто подарили им базу языка – венеты) звали ГИБой или ГУБой. Участки таких побережий (ГУБ – изГИБов) считались местом расселения племен. Даже слово ГУБерния связано с древней базой КУБ, так как происходит от греческого КУБЕРнавт – «кормчий» (у англичан это теперь правительство – ГОВЕРмент, а у французов – ГУВЕРнер – управляющий вашими детьми). Морфологически лексему эллинов можно разложить на КУБ-ЕР-НАУТ. Здесь ЕР это ИЕ-суффикс производителя действия, а НАУТ – сам глагол «плавать». Что же тогда первый корень – КУБ? А это, собственно, и есть корма, которая технически переводится как «плавное закругление». К слову будет сказано, во многих русских диалектах мысы и заливы все еще зовутся ГУБами (как и изГИБистая наружная часть рта). На старых и даже новых картах есть обозначения со словом ГУБа.
Но откуда тогда ГУБить и ГИБнуть! Все просто – изГИБ это все равно, что изЛОМ (место сЛОМа). Древнее ГИБати или ГУБати – изменять направление плоскости, сЛОМать контур. «ГИБнуть» образовано не от понятия «умирать», а от термина «быть сЛОМанным» – в ранней (незнакомой нам) фонетической форме сГИБнутым или сГУБленным. Само слово ЛО-МЕТь (именно так его можно разложить) обозначало вовсе не переламывать саму структуру (контур) объекта. Корень всеобщего разрушения (ЛО) совмещался с понятием перемещаться быстро (лететь как стрела) – МЕТаться. Больше всего его характеризует современный, образованный из него же, конструкт В-ЛО-МИТься (сЛОМать в полете, ПРО-ЛО-МИТься куда-либо). У малороссов же до сих пор есть МЫТтю – «быстро», родственное уже упомянутому русскому МЕТнуть, МЕТнуться, а очень давно МЕсТи это очень быстро водить туда-сюда (сМЕТают и мусор, и БЫСТРО – товар с полок магазина).
В итоге я отделил «мух от котлет». Неспешное переламывание (изменение контуров, структуры) это именно ГУБление, ГИБание, а не сЛОМ. До сих пор же существуют изГИБание, сГИБание, переГИБание. А почему нет ГИБания/ГИБения? Просто оно уже успело выйти из языковых норм без приставки С. Но лишь в русском языке! Только вы посмотрите в словарь сербскохорватского, то сразу найдете ГИБати в значении «совершать движения для приведения в желаемое состояние». У нас его заменило ГНуть, которое родственно лексеме ГНет, то есть обозначает всего лишь один вектор сдавливания – сверху вниз (ГНет прижимает что-то вниз, делая его более плоским, а уГНетатель давит сверху, превращая кое-какой материал в вязкую жижу – ГНой). Есть версия, что сам процесс – ГНевити. Так что самый релевантный обсуждаемому явлению глагол (изменение направления контура) связан именно с ГИБ/ГУБ. ГИБати (ГУБати) – делать изГИБ (его делает река или вы на каком-то объекте). А ГУБа – сам изГИБ. Хотя есть переходное с ГНуть слово ГИНуть («сгинуть»), выдающее итог давления сил на объект вплоть до полного его исчезновения.
Этот ГУБ происходит от КАП/КАБ/ХУБ, которым еще во времена общего предка всех этносов индоиранской надгруппы обозначали предметы впуклых и выпуклых форм, а также сам изГИБ…
Так что, как бы ни изменялись конструкции слов, ИЕ-корни и даже бореальные основы узнаваемы. Их находят те, кто постепенно овладел всякими инструментами этимологического исследования.
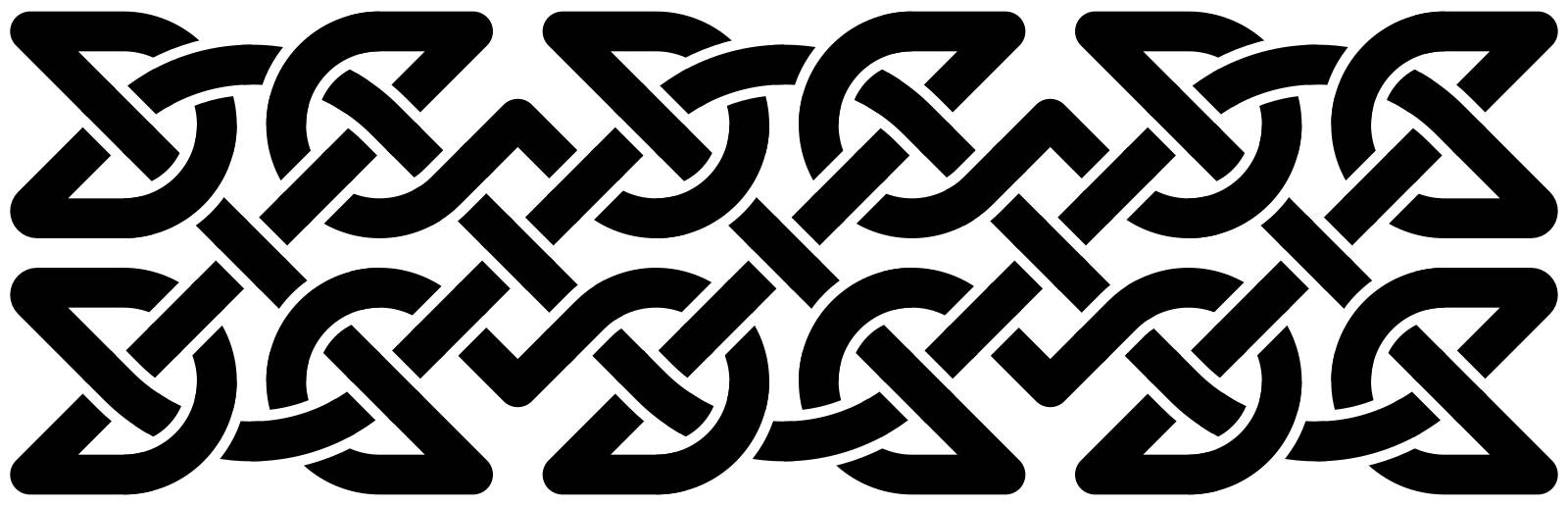
Структура подачи дальнейшего материала
Текст не претендует на что-то большее, чем очерк по этимологии для старшеклассников, связанный с древними корнями. Он имеет не научный, а популярный характер. Хотя в конце будет указан список именно научной литературы. Как таковых учебников по этимологии попросту не существует. Этимология – процесс извлечения первоначальных смыслов из лексических единиц современного языка с помощью метода, предлагаемого широким спектром всех наук филологической отрасли. Для занятия, связанного именно с русским наследием, нужно сутками читать словари разных языков (в том числе и тех, которые уже канули в Лету). Необходимо хотя бы на базовом уровне владеть всеми направлениями, связанными с изучением родной речи – отделять результаты деривации (образования второстепенных языковых единиц, особенно «прилипающие» столетиями суффиксы). Только так перед вами и предстанут те самые «базы».
Наконец, не обойтись без законов сравнительной лингвистики, один из трех столпов которой – постижение соответствий законов изменений в фонетике и грамматике разных языков. Напомню, я тут буду говорить исключительно о языках ностратического, в 70% даже лишь индоевропейского круга. С помощью результатов исследования характера таких изменений, ставших у лингвистов аксиомами, нетрудно определить родство корней в словах разных языков. Или даже семантическую связь в сложносоставном слове сразу 2 его корней (индоевропейскую семантическую универсалию). Тут лучше привести крылатую фразу советского и российского филолога Юрия Откупщикова «Нельзя заниматься этимологией, оставаясь в рамках только одного русского или одних только славянских, одних германских, одного только латинского языка, потому что этимологию слова обычно можно объяснить лишь в том случае, если мы имеем представление о родственных индоевропейских языках, и то, что неясно в одном языке, может быть прояснено с помощью материала родственных языков» («Очерки по этимологии»). Все дело в «нечеловечески» сложном направлении – в сравнительной грамматике.
Я не указываю значения неких терминов и часть использующихся в этимологическом анализе дисциплин. Выше я уже намекал почему. Объект рассмотрения – не этимология как таковая и не лингвистика, необходимая для ее существования, а рассказы о тех самых феноменах русского языка. Они разложены далее по 100 пронумерованным разделам (мини-очеркам). Но на самом деле почти в каждом из разделов вы найдете происхождение не одному, а десяти или куда большему числу слов. Так что по факту ознакомитесь через мини-очерки более, чем с тысячью лексем. Причем, не только нашего с вами языка, а еще и нескольких других. Поэтому перед ними вы прочитаете скромный исторический экскурс о месте славянского языка на ветвистом ностратическом древе, а также о факторах, способствующих его рождению. А уже позже прочтете те самые 100 глав и 101-ю статью словаря в качестве бонуса («Почему женские имена у славян и латинян заканчивались на А?»). В конце, как я обещал, будет список использованной литературы.
Часть этимологий встретите уже в разделе, стоящем за следующим – в историческом экскурсе. Тут они смотрятся органичней. Еще раз напомню, что первые 15 глав «словаря» (он последует ниже исторического обзора) посвящены этимологиям слов, имеющих именно ностратические корни. За ними 20 глав с содержанием, которое относится к более узкой – бореальной – среде. Напомню, что, по Андрееву, это индоевропейская, уральская и алтайская семьи. А еще ниже основы будут касаться преимущественно праиндоевропейских понятий. Хотя и те корни могут быть древнее…
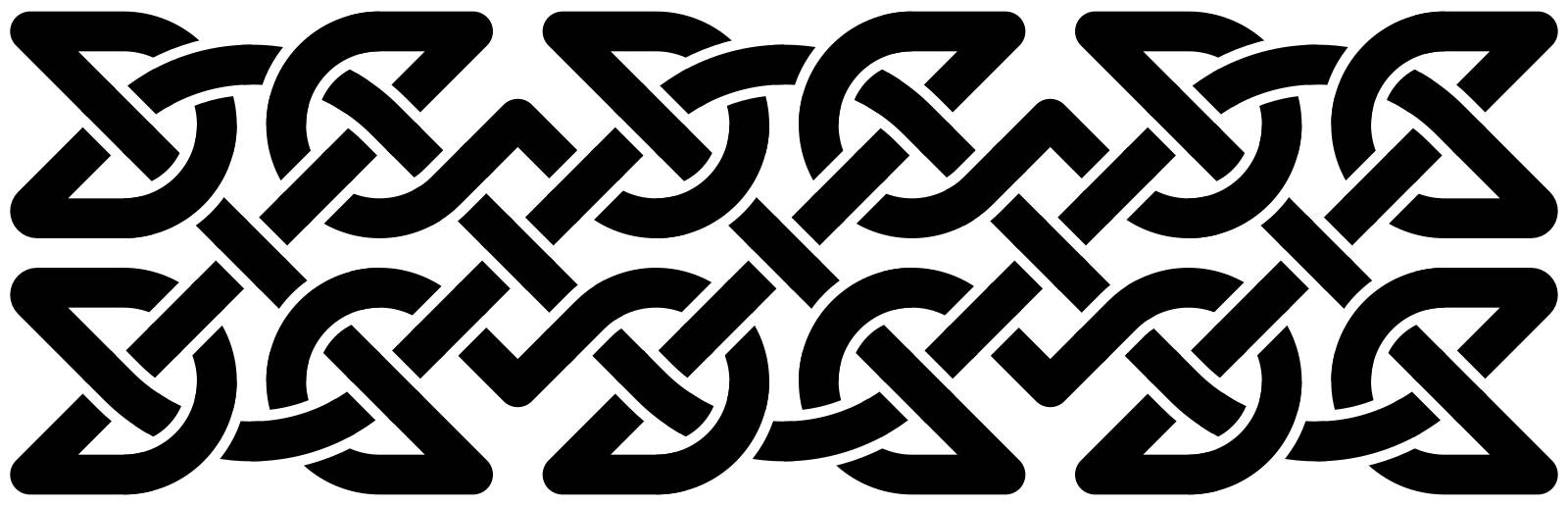
Дисклеймер (от старофранцузского глагола «отрекаться»)
Сразу извиняюсь перед лингвистами, если заглянут в книгу. Они в очень редких случаях увидят здесь латиницу и звездочки, а, самое страшное – лишь несколько раз узрят символы международного фонетического алфавита. Стыдно, а что поделать?! Вашу эту «китайскую грамоту» мало кто поймет. Все-таки я готовил материал для простых людей. И да. Дефисами зачастую у меня отделяются не только морфемы слова, но иногда сразу несколько из них, а иногда лишь их части. Вы поймете, что смысл выделения частей слова литерами прописного регистра, а иногда отделения дефисами у меня связан вовсе не с морфологическим разбором. Редко разбиваю бореальное слово дефисом на 2 силлабемы (2 корня в одном) как Н. Андреев. Кстати, не надо от меня ждать полного соответствия его научной работе. Распределение корней по уровням у меня свое. А еще нет связи с его реперториумом индоевропейских гетеромных корнесложений (кто сможет выговорить эти четыре слова с первого раза – тому сразу зачет). Любители буквы Ё, не огорчайтесь. Она у меня там, где нужно именно мне, а не правилам русского языка. Жили же мы как-то без этой литеры до 1783 года! Язык вполне красив и без нее.
Еще хочется заранее попросить прощения у носителей языков, чьи слова я использую в очерках – возможно, произношение их ныне чуть иное. Или же многие из них слишком редко используются.
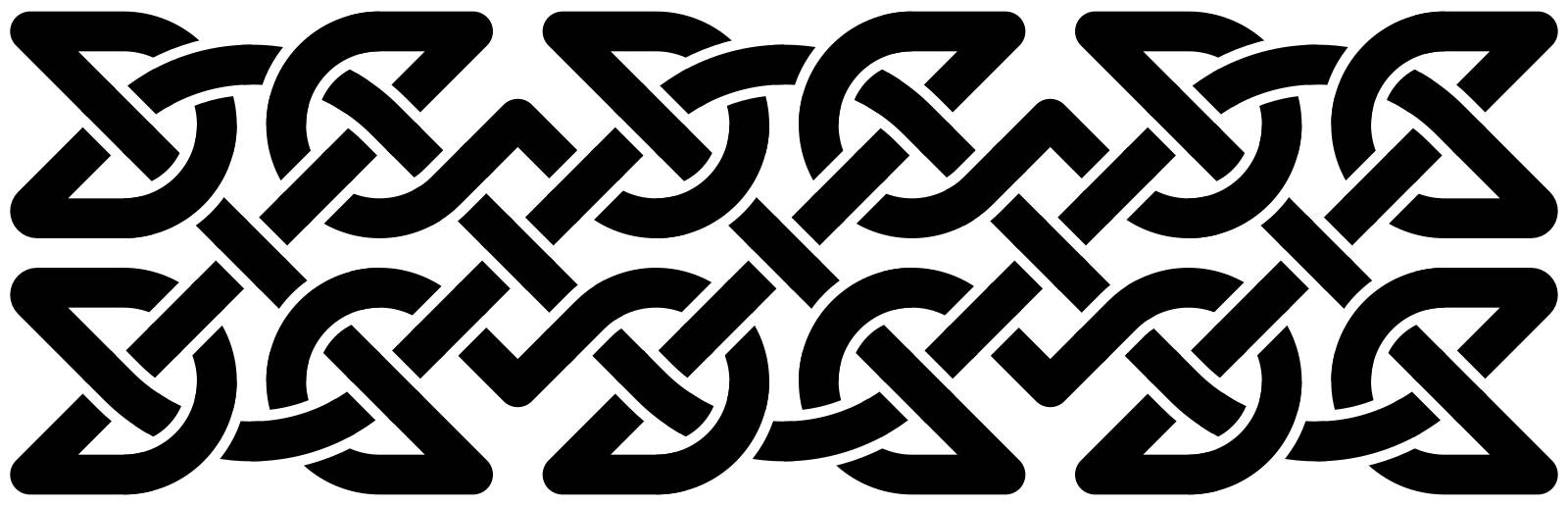
Долгий путь ностратических корней до литературного русского языка (исторический обзор, напрямую связанный с основной темой этой книги)
Увы, история сложения русского (даже не российского) этнического объединения настолько сложна, что ее не описать одной из выдвинутых на сегодня версий. Биография народа лежит на стыке сразу нескольких альтернатив происхождения русской национальности. А еще более неоднозначен генезис россиян, который, впрочем, продолжается и поныне. Еще меняется и русская речь – живой язык не может не меняться. В неизменной графической, грамматической и фонетической форме, да еще в рамках одних значений могут оставаться лишь лексемы мертвых языков. Примером могут служить латынь, санскрит, древнегреческий и всего несколько других.
Начало началНо я все же попытаюсь, не претендуя на истину в первой инстанции, изложить некую канву. Процесс появления языкового древа, из которого появились языковые семьи, внутри которых сложились макрогруппы, разделившиеся на группы и отдельные языки. Внутри последних еще и наречия. Одним из «листочков» древа стала русская речь. Обзор поможет понять всю тему книги.
Часть лингвистов выявила языковую суперобщность, названную в итоге «ностратической». Среди ученых нет единого мнения по поводу того, какие семьи и «изолированные» языки зачислять в этот состав. Поэтому в предисловии я решил использовать гипотезу с самым широким из списков.
Лингвист Н. Андреев определил, что вся эта гипотетическая семья (самая большая и самая живучая) образовалась в результате экспансии в разных географических направлениях диалектов некоего праязыка. Самым популярным из диалектов оказался тот, что впоследствии ученые назвали раннеиндоевропейским. Языковед утверждает, что он стал лингва франка (языком международного общения) между представителями племен исчезнувших языков, о которых мы уже ничего не узнаем. Стоит отделять праиндоевропейскую (или раннеиндоевропейскую) молву от индоевропейской. Так как первая – это единый язык (ранее сердцевинный диалект ностратического), а вторая это совершенно иной феномен. Это уже целая языковая семья (она тоже вначале была всего лишь группой). И славяне – самые ответственные носители ее основ.
Николай Дмитриевич слишком хорошо владел математикой и 15 языками для того, чтобы найти ряд закономерностей в языке РИЕ (раннеиндоевропейском). «Выяснилось, что на 203 корневых слова 198 присутствуют как в составе уральских, так и в составе алтайских производных форм». В плане общих корней именно Андреев использовал термин «бореальные» (северные). Он не эксплуатировал понятие «ностратические». Оно больше относит читателя к иным гипотезам (например, к трудам отца и сына Старостиных, работам В. Иллич-Свитыча и А. Долгопольского). Я же использую термин «ностратический» в значении «более глобальный по охвату территорий, чем бореальный». Говоря языком Википедии, «ученый восстановил как систему двухсогласных корней раннеиндоевропейского языка в ее первоначальном виде, включающую в себя 203 корневых слова, так и древнейший словообразовательный слой, основанный на биноминальном (двучленном) корнесложении». Использовался, в том числе, материал из лексиконов народов Сибири и Севера. В книге бросается в глаза, что хетты в свое время утратили некие закономерности, характерные для ПИЕ (праиндоевропейского языка) оставшиеся у иных ИЕ-этносов. Но сами корни хеттских глаголов ученым В. Ивановым признаны наиболее архаичными.
«Растаптывание» арийской вселенной вширьА по каким 4 маршрутам разошлись носители РИЕ или ПИЕ-языка вы прочитаете уже не у меня.
Пока языковеды занимались, собственно, ПИЕ, историки Гамкрелидзе и Иванов писали биографию движения народов, чьи языки когда-то были лишь говорами и диалектами ПИЕ. Этой паре ученых удалось даже отыскать прародину первых носителей праязыка – на стыке Малой Азии, Кавказа и Иранского нагорья. Есть специалисты по неким языкам индоевропейского мира, ставшим мертвыми слишком рано. В отличие от латыни, готского, санскрита и ясского словарей тех языков не сохранилось – лишь письменные упоминания слов от представителей древности.
Переднеазиатская прародина позиционируется как единственно верная и в работе В. Иванова «Славянский, балтийский и раннебалканский глагол». Ведь упомянутый автор уверен – реконструированные энтузиастами хеттские вербалы (глаголы) занимают ключевое положение по отношению ко всем ИЕ-глаголам. Они наиболее архаичные – ученый опирается на труды предшественников, которые это доказали. Раннехеттский язык, самый ранний из исчезнувшей анатолийской языковой группы (древнейшей в ИЕ-семье), лучше всего демонстрирует то, как говорили праиндоевропейцы, имея когда-то один всем понятный язык. Хеттские глагольные окончания, сообщающие о времени и лице (вернее, их тип) угадываются в глаголах южнобалтийских и славянских языков. А также в глаголах исчезнувшей палеобалканской речи.
Обычно мы привыкли думать, что сразу на все ИЕ-языки похож лишь санскрит и язык Авесты. Но некоторые хеттские слова (а хетты жили уже в 3 тысячелетии до н.э.!) тоже способны удивить: АК – «глаз» (сравните с нашим «ОКо»), ДУЛУГа («ДОЛГий»), ВАТАр («ВОДА»), НЕБис (это же наше НЕБо), КАРД («сердце» – сразу это понимаем, вспоминая КАРДиостимулятор), НОВА («новый»), ТРИ («три»), ЕЗЗа («есть»), ПЕтАР («перо»), АТТА («отец»), ВАЛи («ВЕЛикий»), гИМА («зИМА»)… В зоне индоевропейской прародины ныне проживают курды, чей язык удивительно похож на все!
Но хватает и поклонников идеи зарождения индоевропейцев на средних широтах Европы или Азии. Тех, что связаны с лиственными лесами и лесостепью. Среди ИЕ-корней нет тех, которые бы отвечали за северный (бореальный) лес, моря, корабли и горы. И действительно, северная флора у разных ИЕ-народов именовалась словами, непохожими даже на уровне корней (явно заимствованными). Море происходит от «смертельного препятствия». Понятие судна у каждого ИЕ-этноса взято от соседей. Или от термина «кибитка» (как в случае ШКИП, ШКИПЕР, ШИП и так далее). А «гора» (вы поймете ниже) – производное от «гореть» (некоторые горы имеют такое свойство, т.к. являются вулканами). В ИЕ-зоне были лишь лиственные или южные хвойные породы (южные типы сосен и опять же южная разновидность березы), а также текучие водоемы и болота.
Наличие безлесных пространств, удобных ПАСТбищ – главная «визитка» ИЕ-локацийЧто еще произносится в ИЕ-мире схоже? «Пустоты» в аридной зоне. Сербскохорватская ПУСТа и ПУШта. Русские ПУСТыни и ПАСТбища. Корни ПАТ, ПУШ и ПАШ на языках Пакистана и Афганистана. Английский БУШ. А еще ПЕШт (старая основа заимствованная венграми у индоевропейского населения). Т.е. выПАС. Не случайно и равнинную часть Будапешта именуют «ПЕШт». Хотя «выПАС» по-венгерски звучит «легелтотеш». «ПАТ» или «ПАТТа» в санскрите – «ровная полоса». У албанцев ФУШе – «поле». Это формы, обозначающие не занятые лесом места.
В пользу того, что индоевропейский язык как явление рождался именно в степях и полупустынях, а лиственный лес был лишь его северной границей, говорит и тот факт, что слова, обозначающие в большинстве ИЕ-языков «коричневый», и слова, имеющие смысл «БУРя», обладают одним корнем. Эта «база» звучит БУР. Сильный ветер поднимал вверх пыль и песок, делая часть пространства коричневым или грязного цвета, более близкого к коричневому. Но это и цвет меха!
Сама основа ПЕСТ «отпочковывается» от очень древнего понятия «выТОПтанное». От раннеиндоевропейского понятия ПАД (ступня). Мы же топчем мир ступней! В латыни – ПЕД. Вот почему число ПЯТь (количество пальцев на ступне человека) звучит одинаково на всех ИЕ-языках: ПАТ, ПЯТ, ПЯЦ, ПЕТ, ПЕНТ, ПЕНД. А ПАДать изначально – «опускать» (ногу). «5» – когда-то ПФАНФ (отсюда английский «файв» и немецкий «фюнф») и ПАНДЖ. Аналогично кисть руки (с таким же количеством пальцев) ранее звалась у славян «ПЯДь». А вот по-албански «ПЯТь» это до сих пор ПЕСТ! У нас эта основа тоже присутствовала. Откуда, по вашему, слово заПЯСТье (часть руки за ладонью)? То, что мы сегодня зовем «ладонью», ранее звалось ПЯСТь, а где-то ПЯДЬ. А «ладонь» (изначальная форма ДЛаНь – «ДЛиНная») это уже остальная часть руки (она более вытянута). То же и со сТУПней, заТАПтывающей окружающее пространство, делающей ПЕСт (ПЕШт), то есть выПАС. Слово ПЯТка – намек на изначальное наименование ступни. Ступня – ее более позднее, но «связанное» «прозвище». Все эти ПАСТ/ПАТ/ПЕСТ/ПЕС/ПЕШ – указание на ступни ПАСущихся животных – ПАСТвы, идущей, соответственно, за ПАСТухом (ПАСТырем). По версии советского лингвиста Владислава Иллича-Свитыча, существовало праностратическое обозначение ступни – ПА‘КА (ПАЛ‘КА). Индоевропейский ПЕК, возможно, появился еще отсюда, став через тысячи лет сатемным ПЕС/ПЕШ). Да ведь человеческий «инструмент ТОПтания» (как и ладонь) имеет ПЯТь пальцев. А, может, наоборот – числительное «ПЯТь» образовано от древнейшего наименования упомянутой части ноги. От СТУПать название ПЕШего инструмента (СТОПы). Она же ПЕШка. С «особенным» происхождением «имени» числа «5» согласны как большинство академистов, так и слишком смелые теоретики типа Платона Лукашевича (с его «истотными» словами). ПЯТ – исконное обозначение любой манипуляции конечностями, даже просто процесс распространения энергетики тела. С-ПЯТ-ить изначально не употреблялось без слов «с ума», так как сПЯТить – глагол в значении «переместиться». Но еще точнее – переместить СТУПни (ПЯТы, ПЕСи, ПЕШни). В наддиалектом русском (намного позже) вербал произносился уже как «сойти». Но до сих пор есть слово ПЯТиться – «сходить с линии в какую-либо сторону». У ПЕС (ПЕШ) замечен родственник ПАШ (ПАХ). К примеру, у народов Индо-Персидского региона сей корень, опять же, указывает на выПАС или ПУСТошь. Одну из индоарийских этнических групп так и называют – ПАХари (ее этносы живут на горных ПУСТошах – ПАТХар). Самоназвание пуштунов (ПАШТо) лингвисты пытаются вывести из древней формы местного наименования персов, но, с моей точки зрения, тут такая же история, как и с народом ПАХари (ПАШТо от ПАШТ, и не надо ничего сочинять). А еще ПУШТуны ассоциируют широкий простор «тела земли» с ее «кожей». Кожа зовется почти как пустошь: ПОСТ.