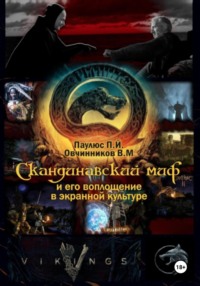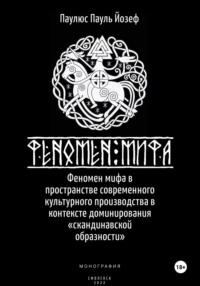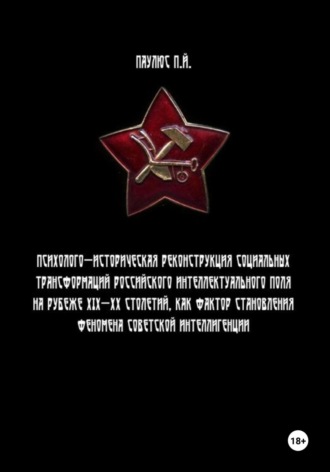
Полная версия
Психолого-историческая реконструкция социальных трансформаций российского интеллектуального поля на рубеже XIX-XX столетий как фактор становления феномена советской интеллигенции.
Нельзя не обратить внимание на особенности политического развития государства, представляющего собой пример классической «бюрократической империи», как именует соответствующую модель П. Абрамс, демонстрируя ее как сбалансированную структуру, сочетающую в себе сохранившиеся патримониальные интересы и бюрократизацию38, однако если соответствующая модель, базовые механизмы которой прослеживаются в Османской империи и Австро-Венгрии, были инновационной на заре эпохи нового времени, то к началу XX столетия она была деструктивна по своей природе и в целом весьма неэффективна. Весьма отчетливо это демонстрирует в своем труде У. Мак-Нил39. Фактическое выражение в рамках социокультурного ландшафта империи соответствующая практика находит в сохранении многочисленных ментальных барьеров между основными группами населения, выделяемыми по сословному, экономическому, религиозному и иным признакам. Несмотря на это присутствует целый ряд трансформаций психосоциального характера, находящих отражение и в «зеркале российской литературе» в виде знаменитого антагонизма отцов и детей, который противопоставляет сохранявшиеся в российском обществе имперсональности40 традиции неогуманизма, которые, однако, потерпят крах в рамках формирования усредненного общества потребления. По точному выражение В. Розанова, социально-политическая структура России даже в пореформенный период может быть сведена к своеобразной максиме «Человек человеку бревно»41.
Общая социокультурная фрагментарность определяла оформления феномена «ментальной фрагментарности», что было, по нашему мнению, одним из ключевых факторов формирования российского нигилизма как формы «отрицания отрицания». «Стремление не просто к эстетическому оформлению бытия, а к переустройству общества и мира с помощью художественной деятельности является одной из магистральных линий духовной жизни России начала XX века»42.
Подобная атмосфера определяла течение многочисленных ментально-психологических процессов, определявших видоизменение массового сознания на фоне «глобальной трансформации культуры, ставшей неотъемлемой частью изменений в политической и социальной сферах»43. С учетом многогранности культурно-психологического ландшафта империи в ее развитии в этот период обнаруживаются три взаимоисключающих, но все же взаимопроникающих друг в друга тенденции: либерально-демократическая, традиционалистски-элитарная и пролетарская, объединенные в значительной степени фактом признания существования «человека массы», ставшего основным субъектом серии «ментальных революций», последовательная смена которых определила становление «социалистического общества», демонстрируя формирование локально культурной парадигмы, повлиявшей за счет «психоконструирования» на различные аспекты процесса государственного строительства. Истоки этого процесса отчетливо прослеживаются в ментально-психологическом и социокультурном развитии Российской империи рубежа XIX-XX веков.
1.2. Феномен декаденсной революции ментальности как фактор трансформации российского ментально-психологического ландшафта на рубеже столетий.
Как отмечает Н. А. Хренов, «…восприятие истории, характерное для рубежа XIX–XX веков, удивительным образом соответствует настроениям, во власти которых находятся наши современники рубежа уже ХХ – XXI веков»44, что связано с возникновением особого настроения «конца истории, когда все уже высказано до конца». Подобное явление социокультурной жизни европейской цивилизации традиционно именуется декаденсом.
Как подчеркивает А. И. Мисуно45, подобный феномен уместно рассматривать в качестве особой философской категории со своей собственной неоархаической космологией, проецирующейся, по нашему мнению, в трансформации массового сознания и формирования особого ментально-психического ландшафта, породившего феномен революции ментальности, трактуемой нами как декаденсная.
Находит выражение этот феномен в формировании особого типа мировосприятия, о чем упоминают такие исследователи, как В. А. Крючкова46, В. М. Толмачева47, К. Н. Савельев48, а также ряд иных авторов сводимого к одному из известнейших принципов дзен буддизма – «форма есть пустота, и пустота есть форма», что зачастую приводит целый ряд исследователей к тезису о размытости дефиниции декаденса, как подчеркивает Н. А. Панов49, выделяя следующее: «Нельзя говорить о четко очерченной дефиниции и даже о преемственности и корректности использования этого термина»50.
В целом декаденс – это в первую очередь одно из порождений эпохи кризиса позитивизма, развивающееся на фоне продолжения урбанизации и соответствующих трансформаций массового сознания, формирующих новый тип личности и совершенно иные социокультурные реалии, которые также имели свои локальные особенности. При этом истоком описываемого феномена стала Франция.
Стоит заметить, что декаданс как форма мироощущения (постулирующая концепт вырождения общества и цивилизации) оформляется во Франции, недавно пережившей «военную тревогу», продолжавшей помнить о национальном позоре – поражении во Франко-прусской войне как антиподе такого непрекращающегося карнавала, символом которого стали многочисленные парижские кабаре и кафе, некоторые из которых, такие как «Гидропаты» и «Черный кот», стали прибежищем тех, кто «были известны под названием «декадентов». Оно придумано было для них в насмешку одним критиком, но, подобно нидерландским «гезам» (нищим), смело и гордо принявшим это унизительное название, и бывшие «гидропаты» стали называть себя «декадентами», бросая этим вызов критикам»51.
«Проклятые поэты» во главе с Полем Верленом формируют новое настроение эпохи, которое «Le decadent» характеризует следующим образом: «Современный человек всем пресыщен. Утонченность аппетита, ощущений, вкуса, туалетов, удовольствий; невроз, истерия, увлечение гипнозом и морфием, научное шарлатанство, страстное увлечение Шопенгауэром – таковы симптомы социальной эволюции»52. В определенной степени перед нами предстает своего рода манифест нового движения, отражающий умонастроения эпохи и полномасштабную трансформацию массового сознания, сравнимую с ощущением упадка, «витавшем в воздухе» в эпоху кризиса III века. Обращает на себя внимание трактовка «надвигающейся эпохи» мистика, философа и литератора Г. Ф. Лавкрафта: «… Словно поток принес многих странных поэтов и фантастов, принадлежавших к символистской и декадентской школам, чьи темные интересы сосредоточились в основном на ненормальностях человеческой мысли и чувства… из «художников греха» прославленный Бодлер, находившийся под большим влиянием По, самый значительный; тогда как автор психологической прозы Жорис-Карл Гюисманс, истинный сын 1890-х годов, одновременно суммировал и завершил традицию»53.
Декаданс, как идеализация вырождения активно критиковался в ряде случае, рассматриваясь в качестве проявления массовой истерии или же формы депрессии. Ф. Ницше видел в декадансе лишь форму коллективного невроза, проявлением которого он в частности считал музыку Вагнера, затрагивая в своих рассуждениях при этом разрушительное влияние декаданса: «Проблемы, выносимые им на сцену, – сплошь проблемы истеричных, – конвульсивное в его аффектах, его чрезмерно раздраженная чувствительность, его вкус, требующий все более острых приправ, его непостоянство, переряжаемое им в принципы, не в малой степени выбор его героев и героинь, если посмотреть на них как на физиологические типы (галерея больных!): все это представляет картину болезни, не оставляющую никакого сомнения»54.
Подобные резкие высказывания в адрес символистов, пропагандирующих «декадансное мироощущение», активно синтезируемое с эзотерикой и теософией (большую популярностью пользовались рассуждения Е. Блаватской), а на российской почве соответствующие духовные практики дополнялись принципами религиозной философии, формируя дуалистичную и антиномичную категорию, которую уместно именовать «русский декаданс», который наряду с философскими и социальными имел явные политические коннотации, комплексно проецируемые в массовое сознание, определяя начала полномасштабной ментальной революции, именуемой нами декаденсной.
Вполне уместным в этой связи будет упоминание о рассуждениях Эллиса (Л. Л. Кобылинского), пытавшегося философски осмыслить природу того движения, частью которого он являлся: «Мы – символисты – являемся якобинцами в русской литературе. Аристократический якобинизм – основной дух, например, журнала «Весы». Террористическими ударами по головам мы освободили русскую поэзию и литературу от опутывающих ее всяких оков и от полного погружения в тину бытового маразма. … именно мы, символисты, и открыли дорогу прихода к нам Европы – появлению у нас Ибсена, Бодлера, Ницше, Верлена, Малларме, Э. По, Уитмена, д’Аннунцио, Гамсуна, Верхарна, Роденбаха, Стриндберга, Метерлинка и множества других. …Без нас, московских и петербургских символистов, вы по сей день считали бы, что Альбовы, Мачтеты, Потапенки, Щепкины – Куперники, Боборыкины, романы «Нивы» и особенно сборники «Знания» есть великая литература. Мы открыли вам глаза на величие Врубеля и прочистили уши, чтобы вы поняли музыку Скрябина. Без этого вы по-прежнему считали бы гениальными художниками К. Маковского и Ярошенко и шедевром – умилительную картиночку «Не ждали» <…> Мы объявили художество свободным от всех оков, от идеи пользы, от всех морализующих запрещений. Для искусства нет ничего запретного, оно абсолютно свободно, оно может заниматься решительно всем, что его интересует, – и адом, и раем, и в довершение к этой свободе символисты принесли новые формы художественного творчества, поднимающее его на высокую ступень совершенства»55.
Становление символизма в России традиционно связывают с выходом в 1895 году изданного П. Перцовым сборника «Молодая поэзия». Вместе с тем в «Северном вестнике» были напечатаны роман Мережковского «Отверженный» и роман Сологуба «Тяжелые сны». В этот же период подобно «манифесту декаданса как культурно-идеологического конструкта» выходят стихи Мережковского, в которых он призывал к варварскому дионисизму и «новой красоте». «В 1896 году стала окончательно оформляться теория символизма в публицистических сборниках Перцова «Философские течения в русской поэзии» и Волынского «Русские критики». На рубеже веков в Петербурге стал выходить журнал «Мир искусства» (1899), полностью посвященный пропаганде творчества русских символистов, а в Москве появилось ориентирующееся на символистов издательство «Скорпион» (1899), которое с 1901 по 1905 год издавало «декадентский» альманах «Северные цветы»»56.
Для российской интеллектуальной элиты обозначенный период был временем перехода, своего рода трансформацией типа массового сознания, связанного с отказом от «романтической» доминанты, лежащей в основе мировоззрения, и принятием «реализма» в первую очередь в сфере духовной жизни. Мистическая идеализация действительности при этом парадоксально сочеталась с основами сциентизма и реалистическим отображением сущего. В то же время иррациональные идеи не овладели умами всех и каждого, так как «мистический идеализм являлся проявлением несвойственного широким кругам общества «романтического» миропонимания и, таким образом, неизбежно был обречен на замкнутое существование идейного аристократизма»57. При этом своеобразным ответом рассуждениям М. Нордау, представленным в его работе «Вырождение», в которой поднималась проблема декаденса во Франции, стали известные лекции Д. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», прочитанных им в Петербурге 7 и 14 декабря 1892 года58, весьма подробно охарактеризованные известным критиком Н. Михайловским. «Г. Мережковский насчитывает “три главных элемента нового (то есть символистского или декадентского) искусства: мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности”», – указывал Н. Михайловский. Но «он даже не хочет, чтобы расстилающийся перед ним красивый мираж превратился в настоящую действительность, где он <…> мог бы утолить жажду. Это мираж красив именно как мираж и, следовательно, представляет особенную ценность для художника и пламенного поклонника красоты. Но он <…> даже не призывает к жизни в полном, глубоком значении этого слова»59.
Нельзя не заметить, что эпатаж в различных направлениях искусства, общественно-политических взглядах, моде и, наконец, в образе мысли становится неотъемлемой частью мироощущения по крайней мере части российского общества. Тютчевская «Мысль изреченная есть ложь» стала своеобразным вектором развития нового движения, доминантой которого становился символ как знаковая система, форма и содержание. Условным центром притяжения декаденсного движения в России была, без сомнения, столица империи – Санкт-Петербург, что в первую очередь связано с усилиями самопровозглашенного пророка новой духовности – Мережковского, видевшего в «упадничестве» новую философию, образ жизни и мысли; он «искал веры, религиозного опыта, но сознавал, что в молитве ему не хватает той же самой «силы», что и в поэзии»60.
Культурное пространство, в рамках которого господствовал новый тип мироощущения, первоначально во многом тяготело к пангерманистской традиции (которую условно уместно именовать нордическим мифом), переплетаясь с идеями Шопенгауэра, Ницше и Вагнера в тот период, когда они еще не были столь неоднозначно интерпретированы А. Розенбергом. На российской почве оно укреплялось под влиянием идей Вл. Соловьева, основанных на поиске смыслов, постижении «великой миссии» и принятии всеединства, сокрытых в духовном поиске, дополняемых при этом принципами быстро ставших популярными «псевдовосточных мистических практик». Синтез всех представленных категорий, как своеобразный базис, и формирует духовное пространство русского декаданса, оказывавшего влияние на трансформацию ментальных основ российской идентичности. Стоит при этом заметить, что значительное влияние религиозной философии в первую очередь прослеживается на первом этапе становления и развития движения. Источником же мировоззрения символистов второго поколения была философия Ницше и в первую очередь его идея о двух противоположных началах в искусстве – аполлонического (дневного, объективного, рационального и гармоничного) и дионисийского (ночного, субъективного, иррационального и экстатического). «Младшие символисты стремились создать в жизни и в книгах некую грандиозную схему, которая позволяла бы выражать невыразимое»61.
В сознании российских интеллектуалов вероятно «декадентские “сенакли” и “тайные общины” под напором внешних событий должны были утратить свои замкнутый характер»62. Сообщества, подобные «Миру искусства», синтезируя языческое мироощущение с основами христианской морали, во многом влияли на «соединение вершин символизма как искусства с мистикой», трактуемые Вл. Соловьевым, как теургия (что дословно переводится как мистерия). «…Мудрость Ницше (таким образом) на более углубленной, сравнительно с трагизмом, стадии понимания можно определить как стремление к теургии»63.
События первой русской революции, протекавшей параллельно с конфликтом на Дальнем Востоке, стали начальным этапом того кризиса, в который погрузился символизм, и отправной точкой полномасштабной революции ментальности, сопряженной с попытками объединить «новое религиозное сознание» с революционными идеалами в формах «истинного символизма», далеко выходившего за пределы искусства. Интерес к политике Мережковского и Гиппиус сблизил их со сторонником «мистического анархизма» Г. Чулковым и бывшими марксистами Н. Бердяевым, Н. Лосским, С. Франком, С. Аскольдовым и С. Булгаковым; своеобразным «рупором» их общих идей стал журнал «Вопросы жизни».
Есть мнение, что первое поколение российских символистов испытало на себе влияние французской поэзии от Бодлера до символистов, а второе в большей степени находилось под влиянием немецких романтиков. Конечно, в обоих случаях влияние не было таким однозначным, но рациональное зерно в этом утверждении есть. Еще одним отличием между двумя поколениями символистов было отношение к философии Вл. Соловьева: если первое поколение его вежливо признавало, что второе поколение попыталось использовать его идеи.
Богоискательство в форме построения «нового мира» определило не только трансформацию сознания интеллектуальной элиты российского общества, но также и повлияло на дальнейшую активизацию общественно-политической жизни. Вместе с тем наряду с познанием будущего символисты «реконструировали» прошлое. Если Мережковского привлекал христианский мистицизм, то сторонники Иванова пропагандировали дионисийство в форме так называемых встреч в «башне». «Вячеслав Иванов пытался соединить митраистический культ «страдающего Бога», вечно умирающего и воскрешающегося языческого Диониса – по его понятиям, носящего одно из имен Христа, с русской православной соборностью, тоже понимаемую им своеобразно»64. «Кроме известных и открытых для всех «сред», на «Башне» устраивались и более интимные сборища, например, «вечера Гафиза». Участники «вечеров» облачались в «восточные» одежды и располагались в «пиршественном зале», убранном в «восточном» духе. У каждого было свое прозвище, взятое из античности или мифов Востока: Кузмин звался Антиноем, Сомов – Алладином, Иванов – Гиперионом (имя героя романа Гельдерлина), Зиновьева-Аннибал – Диотимой (имя героини того же романа и в то же время – из «Пира» Платона). За легким ужином пили вино. Разговоры… велись только о прекрасном и отвлеченном, об искусстве. В зале витал дух всеобщей влюбленности – и параллель с античными пирами возникала поневоле»65.
Зарождение русского символизма как формы декаданса, без сомнения, связано с деятельностью Брюсова, о котором уже упоминаемая ранее Гиппиус напишет следующее: «Декадентство, символизм…, принцип «чистого искусства», тяга к европеизму, наконец, – всё это было неизбежной революцией против многолетнего царствования наследников Белинского и Писарева. <…> Ломались старые рамки. Много при этом было и уродливого, и ненужного, – но и неожиданного. <…> Всё зависело от личных способностей и упорства. Вот этого и работоспособности, при громадной сметке, у Брюсова оказалось очень много. Он по праву занял видное место в новом литературном течении»66.
Эпатажные философические метафоры поэта во многом определяли умонастроение эпохи, как, например, балансирующие на грани смыслов и форм: «О, закрой свои бледные ноги!».
Стремление к поиску новых источников в условиях трансформаций политической жизни Российской империи влекло за собой видоизменение ранее монолитного движения «Не дождавшись спасения “из бездны”, оно стало чаять его “свыше” – и отсюда такой резкий, казалось бы переход… к религиозным исканиям, к “неохристианству”»67, в то же время как Дягилев, Бенуа и Брюсов не были столь радикальны и призывали к растворению в искусстве.
Их антиподом стали религиозные поиски Мережковского и его соратников, которые проявились как в художественной сфере (в трилогии «Христос и Антихрист» (1896–1905)), так и в создании «религиозно-философских собраний». Символисты при этом пытались наладить контакты с сектантами, организовать дискуссии с представителями русской православной церкви. Однако после октябрьского манифеста 1905 года, даровавшего свободу политической деятельности, старшее поколение символистов со своими идеями оказалось на обочине разнообразных политических течений, сформировавшихся в России. С другой стороны, начавшиеся расхождения между символистами имели личный характер.
Кризис символизма, всё больше нараставший после 1905 года, проявился, в том числе, и в определенной смене образов. Наступивший после революции 1905 г. период реакции в российском обществе снова породил у части интеллигенции желание уйти в некий вымышленный мир, но это уже была не тихая элегия ранних символистов, а более «пряная» тематика. Одну из тем обозначил новый журнал «Золотое руно», появившийся в Москве в конце 1905 года, в котором были заявлены претензии на «вечные ценности» «символичного» и «свободного» искусства68.
Довольно быстро обилие теоретических споров, изначально дававших импульс для развития движения, превратились в основной смысл его существования и попытки теоретического обоснования логики существования символизма, уже определившего оформление акмеизма, а затем и футуризма, превратившихся в замкнутую форму позиционирования, потерявшую возможность влиять на продолжавшуюся трансформацию массового сознания. Эти попытки институционализировать символизм напоминают «осень Средневековья», когда были окончательно прописаны правила поведения на рыцарских турнирах и манеры куртуазной любви, что тоже было началом их конца. Иванов-Разумник так писал о конце символизма: «Он заблудился и погиб в тупике вульгарного эстетства, омещанившейся мистики, духовного стилизаторства»69.
При этом те изменения, которые уже имели место, комплексно трактуемые нами как декаденсная ментальная революция, уже оформили особый психо-культурный ландшафт, основанный на поиске идентичности, идеализации будущего и абсолютизации стремления к духовному равенству в поиске истины. «В результате сложилась уникальная ситуация: нигде в мире, кроме России, элитарная философия Ницше не смогла завладеть умами столь широких слоев образованного и полуобразованного общества»70.
Интеграции творческого импульса с философскими дилеммами и религиозными постулатами, с одной стороны, породила особую знаковую систему, ставшую культурообразующим фактором, определившим мироощущение эпохи.
О. Мандельштам по этому поводу писал: «Декаденты были еще христианские художники. Музыка тления была для них музыкой воскресения. <…> Совсем другое дело сознательное разрушение формы. Болезненный супрематизм. Отрицание лица явлений. Самоубийство по расчету, любопытства ради»71. Декаданс и, в частности, символизм не был в России случайным явлением, в силу того что империя развивалась в контексте общеевропейской культуры: так же как во всей Европе, культура декаданса была порождением противоречивого времени переходной эпохи. Д. Мережковский писал: «… мы переживаем одно из самых тягостных и мрачных эпох умственной тревоги, блуждания, смятения, болезненно-страстных и все-таки бесплодных порывов к неизвестному будущему, если и не самые страшные, то, по крайней мере, самые томительные дни, какие когда-либо переживало человечество»72.
В целом российский символизм как особая форма мироощущения во многом является уникальным и самобытным явлением российской духовной жизни, определяющим трансформацию ментальности и массового сознания отечественной интеллигенции, интегрируя в себе революционную романтику, склонность к соборности и мистицизму, веру в богоизбранность русского народа, дополняемые идеализмом и стремлением к созданию «идеального мира» (причем лишь изначально в собственном сознании). «…Всё декадентство – область заглушенных полузвуков, утонченных полутонов, изощренных получувств, заостренных полумыслей. И эта декадентская полутонность («rien que la nuance!», по завету их французского учителя и предшественника), эта их заостренность и изощренность, всё это – характерное, общее, объединяющее свойство этих детей «fin de siecl’я». <…> это был разрыв с живой жизнью, которая не ограничивает себя областью полутеней и полузвуков. «Мне мило отвлеченное: им жизнь я создаю; я все уединенное, неявное люблю…» 73.
В первую очередь российские декаденты сделали попытку перейти от собственно символического искусства к оформлению философско-религиозной системы, интегрированной в социальный дискурс. «С изменением теории познания меняется отношение к искусству, – писал А. Белый. – Оно уже больше несамодовлеющая форма. <…> Оно становится путем к наиболее существенному познанию – познанию религиозному. Религия есть система последовательно развертываемых символов»74.
Забывалось только одно: «символизм», – как тремя четвертями века ранее «романтизм», – не только мировоззрение, но и мироощущение, мировосприятие, что «мистическое восприятие», лежащее в основе и романтизма и символизма, не берется, а дается. А кому не дано – те тщетно будут называть себя «символистами»: они будут ими лишь по внешней форме, а не по сущности духа»75.
Неоромантики, интегрируя панславянизм (как своего рода антипод пангерманизму) с принципами восточной философии, определили течение ментальной революции, что и определило возникновение целого ряда изменений ментально-психологического поля российской цивилизации. «…Русский модернизм действительно в корне отличался от европейского символизма. В первую очередь масштабностью постановки мировоззренческих задач, которые вели к напряженным религиозным поискам, чаянию философского синтеза»76.
1.3. Московская профессура в рамках либеральной революции ментальности на рубеже столетий. Трансформации мировоззрения и позиционирования социальной психологии и быта.
Российская империя рубежа XIX-XX столетий являет собой широчайший спектр трансформаций в социокультурной, экономической и политической сферах, которые находят отражение в массовой психологии в рамках полномасштабного кризиса субъективности77, осложняемого широким распространением иррациональных по своей природе духовных практик, обретающих в ряде случаев формы богоискательства и развития мистического декаденсного мироощущения.