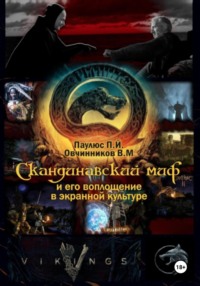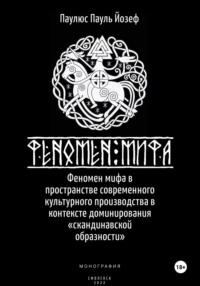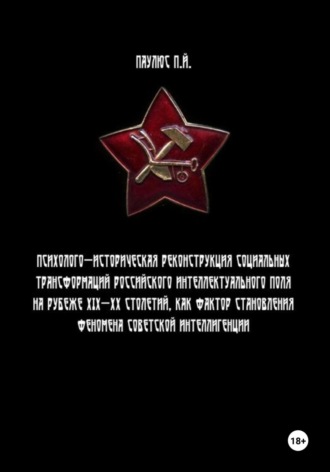
Полная версия
Психолого-историческая реконструкция социальных трансформаций российского интеллектуального поля на рубеже XIX-XX столетий как фактор становления феномена советской интеллигенции.

Пауль Паулюс
Психолого-историческая реконструкция социальных трансформаций российского интеллектуального поля на рубеже XIX-XX столетий как фактор становления феномена советской интеллигенции.
Введение
Одним из ключевых факторов психологического конструирования социокультурного пространства советского общества был феномен серии «ментальных революций», течение которых было связано в первую очередь со стремлением российской интеллектуальной элиты к эклектизму, в том числе обеспечившему сохранение в рамках «социалистического ритуализма» как базиса формирования советской культуры целого комплекса неосознаваемых национальных элементов культурной идентичности.
Актуальность рассматриваемой тематики может быть связана с демонстрацией трансформации культурного поля определенного региона (автор предполагает концентрировать внимание на центральных губерниях Российской империи), сопряженного с протеканием широкого спектра социокультурных процессов, определявших «реконструкцию» эмоциональной природы социального и политического поведения в рамках серии «революций ментальности» (таковых автор предлагает выделить три: декаденсная, либеральная, пролетарская), последовательно определивших трансформацию массового сознания, что в свою очередь породило совершенно «новый культурный и психологический ландшафт», динамично развивающийся в рамках высокоидеологизированной культуры Советской России (которую вполне уместно будет именовать особым сегментом культуры массовой), что отразится на широком спектре социально-экономических и культурно-идеологических процессов, протекавших в республике Советов. Описываемые процессы определили оформление концепта слияния целого комплекса различных социокультурных, идеологических и экономических структур в единое целое, порождая многочисленные смешанные образы, символизм которых стал фундаментом формирования особого пространства политической мифологии, трансформирующей массовое сознание.
Можно предположить, что автором предпринимается одна из первых попыток комплексного изучения серии психологических трансформаций российского общества в период с 18941 по 1922 годы, повлиявших на формирование особого социокультурного пространства, в основе которого лежит мифологическое сознание. Последовательная смена друг другом целой серии так называемых «революций ментальности», определивших становление «пролетарского общества», демонстрирует формирование локально культурной парадигмы, повлиявшей за счет «психоконструирования» на различные аспекты процесса государственного строительства.
В первую очередь в контексте интересующей нас проблемы стоит обратить внимание на целый ряд исследований, посвященных истории российских университетов, среди которых особо хотелось бы выделить труды Ф. А. Петрова2, Е. С. Ляховича3 и А. С. Ревушкина, А. Ю. Андреева4. Не меньший интерес представляют исследования, посвященные российской интеллигенции рубежа столетий. По нашему мнению, подобная тематика наиболее полно раскрывается в работах Гудкова Л. Д.5 и Лейкиной-Свирской В. Р.6. Стоит также обратить внимание на исследования Т. Мауэр, в которых продемонстрирован широкий спектр социально-психологических аспектов позиционирования научной элиты Российской империи, выступавшей своего рода экспертной группой и особым социокультурным микрокосмом, воплотившим в себе идеи гражданского общества и правового государства7. Представленные авторы отражают в своих трудах процесс протекания одной их характеризуемых нами ментальных революций – либеральной. Вопросы же трансформации «мироощущения» российского думающего класса в рамках такого феномена, как «декадентская революция», представлены в исследованиях таких авторов, как: Гривенная Е. Н.8, Евплова Т. В.9, Хренов Н. А.10, Мисуно А. И.11, Толмачев В. М.12, Крычкова В. А.13 и пр. Опора на богатейший материал, отражающий особенности «культурной ситуации» того периода, обеспечивает возможность сформировать представление о трансформациях массового сознания, породивших новые векторы в культурном производстве.
Феномен же пролетарской революции в области ментальности рассматривается автором с опорой в первую очередь на эпистолярное наследие эпохи, к которому стоит отнести изложение ситуации двумя противоположными сторонами – представителями «старого» и «нового» миров. К первым стоит отнести Керенского А. Ф.14, Деникина А. И.15, Ростовцева М. И.16, Сорокина П.17, Бунина И. А.18 Вторые же представлены трудами Ленина В. И.19, Троцкого Л. Д.20, Горького М.21 и пр. Обращает на себя внимание целый ряд работ, посвященных характеризуемой проблематике, позволяющих на основе моделирования основных социальных и политических процессов анализировать трансформации массового сознания российского общества в тот неспокойный период: Загорина П.22, Киммель М.23, Бринтон С.24, Пайпс Р.25, Торкунова А. В.26, Тилли Ч.27, ле Бон Г.28 и пр.
В исследовании демонстрируется трансформация массовой психологии, анализируемая через призму анализа социокультурного и политического развития России в первой четверти XX столетия, в условиях мифологизации культуры и социального пространства, представляемых на примере видоизменения российского общества на рубеже XIX-XX столетий.
Методологической основой исследования служат принципы историзма и объективности, что предполагает непредвзятый подход к анализу проблемы инструментализации и трансформации стереотипов массового сознания в рамках протекания процесса смены социокультурной парадигмы. Автор использовал семиотический и герменевтический методы применительно к проблеме видоизменения ментального и культурного пространств российского общества начала XX столетия. Структуралистский метод применяется при внутреннем анализе как социокультурной парадигмы, так и структурного разделения феномена ментального пространства.
Автором активно использовались сравнительно-исторический, хронологический, системно-структурный методы. Применяя в рамках исследования базовые методы аналитической психологии, такие как: анализ, амплификация, метод свободных ассоциаций – автор рассматривает «революции ментальности» (как определяющий фактор видоизменения массовой психологии) через призму культурологического анализа, что позволяет трактовать их в качестве механизма, генерирующего пространство культуры.
Комплексный характер подхода позволяет рассмотреть семиопсихологемное пространство культуры с позиции таких научных дисциплин, как: философия, культурология, психология, синергетика – при рассмотрении выделяемых нами проблем, находящихся в теснейшем единстве. Исследование выполнено на основе междисциплинарного подхода, т. е. с учетом познавательных принципов и приемов истории, социологии, политологии, социальной психологии, позволяющих комплексно подходить к исследуемой проблеме.
В работе показаны базовые факторы становления пространства ментальных трансформаций, определивших формирование специфических условий развития советского общества. Указаны базовые характеристики феномена «революции ментальности», которая представляется в качестве одного из механизмов становления массовой культуры. Выводы, полученные в ходе исследования, могут быть использованы для анализа других аспектов современной культуры.
Основные положения, изложенные в монографии, могут быть использованы как для теоретических научных исследований, так и при составлении учебно-методических курсов по таким дисциплинам, как культурология, история культуры, теория культуры, философия культуры, религиоведение, а также при прогностическом изучении развития современной культуры.
Глава I. На рубеже двух эпох. Российская империя в условиях двух революций. Декаденс и либерализм как предтечи новой эпохи.
1.1. Российская империя на рубеже веков, особенности социокультурных и ментально-психологических трансформаций.
Российская империя рубежа XIX-XX столетий являет собой широчайший спектр трансформаций в социокультурной, экономической и политической сферах, которые находят отражение в массовой психологии в рамках полномасштабного кризиса субъективности, осложняемого широким распространением иррациональных по своей природе духовных практик, обретающих в ряде случаев формы богоискательства и развития мистического декаденсного мироощущения.
Подобные трансформации во многом могут быть связаны с увеличением скорости течения «неорганической» модернизации, обострявшей социокультурный конфликт между ее сторонниками и адептами традиционализма. Соответствующее противостояние доминировало над осознанием исторической общности, еще в большей степени обостряя целый комплекс противоречий, присутствующих в столь крупном поликонфессиональном и полиэтническом государстве, каковым являлась на тот момент Россия.
Первые признаки разрушения «суперэтнической» империи, сочетающиеся с нарастанием кризиса идентичности и проявлениями регионального сепаратизма, во многом ускоряли процесс течения так называемых ментальных революций, повлиявших в период с 189429 по 1922 годы на формирование особого пространства культуры, в основе которого лежит мифологическое сознание. Последовательная смена друг другом целой серии так называемых «революций ментальности», определивших становление впоследствии «пролетарского общества», демонстрирует формирование локально культурной парадигмы, повлиявшей за счет «психоконструирования» на различные аспекты процесса государственного строительства. Ранее обозначенный феномен (ментальная революция, или же революция ментальности) мы рассматриваем в качестве проявления трансформации психологической парадигмы в условиях деструктивных трансформаций в социально-политической и духовной сфере, выражающиеся в смене господствующего типа мироощущения и восприятия.
Течение всех выделяемых процессов, по нашему мнению, является прямым следствием эпохи «великих реформ», повлиявшей на начало полномасштабной «реконструкции» эмоциональной природы социального и политического поведения социума в рамках серии «революций ментальности» (таковых уместно выделить три – декаденсная, либеральная, пролетарская), последовательно определивших трансформацию массового сознания, что в свою очередь породило совершенно «новый культурный и психологический ландшафт», динамично развивавшийся уже в рамках высокоидеологизированной культуры Советской России (которую вполне уместно будет именовать особым сегментом культуры массовой), что отразится на широком спектре социально-экономических и культурно-идеологических процессов, протекавших в республике Советов.
Описываемые процессы определили оформление концепта слияния целого комплекса различных социокультурных, идеологических и экономических структур в единое целое, порождая многочисленные смешанные образы, символизм которых стал фундаментом формирования особого пространства политической мифологии, трансформирующей массовое сознание под влиянием широкого спектра идеологических мифов.
Нельзя не обратить внимание, что на рубеже веков в социокультурном и духовном развитии Российской империи можно обнаружить признаки формирования эффекта «ментального лимеса», трактуемого нами, как процесс искусственного выделения общности (как большой, так и малой, но предпочтительно применять предлагаемую терминологию применительно к крупным образованиям) из ранее сложившейся системы социальных связей и отношений в условиях расчленения «социального мира индивида» в связи с становлением дисфункциональных отношений между качеством и стереотипом, влекущих в масштабах культурного поля видоизменение массового восприятия фактической и виртуальной социальной идентичности.
В основе рассматриваемого феномена лежит (искусственно стимулируемая) абсолютизация ксенофобии (в виде эффекта враждебного окружения, навязываемого индивиду), сопровождающаяся авторкизацией массового сознания. Соответствующие деструктивные процессы сопряжены с масштабными трансформациями, ведущими к стигматизации отдельно взятых субъектов или же целых общностей.
Описываемый эффект (или же эффект ментального лимеса) демонстрирует полномасштабную трансформацию иерархии смыслов, начинающуюся на уровне личностных границ. Он включает многочисленные экзистенциальные кризисы, переживаемые индивидом и представляет собой процесс становления субъективной психологической границы, сопряженной с интериоризацией и экстериоризацией30 и получающей развитие на уровне социальных границ, порождая качественно новые контексты. Это во многом соответствует рассуждениям В.Тэрнера, утверждавшего, что «новые социальные структуры и отношения могут возникнуть только на границе, на периферии старых структур, их становление происходит на изломе, в революции, при переходе через хаотическое состояние, когда меняются нормы и ценности, переворачиваются иерархии и формируются новые устойчивые системы», и М. Элиаде, подчеркивавшего, что в человеческом бытии есть внутренняя разделенность, и «всегда, так или иначе, есть брешь между сакральным и профанным и переход от одного к другому, и именно существование разрыва и перехода лежит в основе религиозной жизни». Подобные процессы в условиях появления новых форм коммуникации и трансформации базового носителя информации становятся базовым компонентом появления новых доминант развития «массового сознания», объединяя тем самым значительные трансформации личностных, культурных, социально-политических и территориальных границ социума в единое поле.
Используемая нами терминология обобщения целого комплекса процессов в единое пространство опирается на философские коннотации, прослеживающиеся в реализации политической и социальной практики эпохи принципата, известной как лимес31 (представляемой нами в качестве политической мифологемы) – бывшей условной границы между цивилизацией и варварством (каждый из представленных миров соответственно наделялся соответствующими особенностями, подчеркивающими их антагонизм).
Описываемые процессы, характеризующие социально-культурное развитие страны, обладали целым рядом особенностей, связанных со спецификой взаимодействия различных этносов, проживающих в составе империи, порождая ряд дисфункций, связанных с решением «национального вопроса». Ярчайшим примером подобного дестабилизирующего фактора является использование целой серии ограничителей, известных как «черта оседлости», превращавшей в первую очередь западные губернии в источники постоянной революционности и противостояния имперской идее.
В целом в рамках так называемой «национальной политики» Российской империи на рубеже XIX-XX вв. прослеживаются признаки комплексной социальной и национальной мобилизации, усиливающие гетерогенность страны; экспансия на Кавказ и в Среднюю Азию еще более способствовала тому, что этническое, конфессиональное, социальное и экономическое многообразие России в течение XIX в. еще более увеличилось, модернизация и индустриализация страны имели интегрирующее действие. Поэтому национальная политика империи начиная с 1860-х гг. была направлена на административную систематизацию и унификацию гетерогенного государства, а на поднимающиеся национальные движения отвечала частичным проведением культурной русификации. Этим тенденциям национальной гомогенизации общества противостояли стойкие силы, продолжавшие стремиться к объединению империи на сословно-династических основах32.
Важную роль в понимании особенностей становления нового социокультурного и психологического ландшафта играл территориальный фактор, демонстрирующий наряду с политикой русификации окраинных территорий империи появление некоторых элементов мультикультурализма, соотносящихся с продолжающей применяться еще с эпохи правления Николая I теорией официальной народности. Обладая значительными пространствами, которые в культурном и ментально-психологическом плане являют собой широкое поле социального взаимодействия и взаимопроникновения, Россия, формируя основы собственной национальной политики в рамках синтеза разнообразных форм стратификации, обладала самобытным социопсихологическим ландшафтом, основанном на доминировании «великорусской народности».
Представленные явления и процессы, помещенные в пространство полномасштабной трансформации культурной и политической жизни, наглядно демонстрируют общую социокультурную и ментальную трансформацию российской ментальности. Увеличение влияния сциентизма вследствие бурного роста промышленности и дальнейшего развития системы российского образования становится фактором отказа от традиционализма, происходящего на фоне появления первых признаков кризиса позитивизма, что не было катастрофой и не означало, что «объективное бытие утрачивает свой статус», но было сопряжено с необходимостью открытия новых его сторон, «в которых нет места разрыву с бытием человека»33.
Одним из факторов становления культурной традиции ХХ столетия является кризис религиозного сознания. «Интеллектуальная элита, разочарованная бессилием учений позднего периода народничества, вела поиск новой всеобъемлющей системы воззрений и обоснований»34.
Серьезнейшим фактором дестабилизации была проблема взаимодействия разнообразных социальных групп. Среди упомянутого спектра проблем особым образом выделяется так называемый «рабочий вопрос», связанный со становлением в рамках по сути сословного российского общества такого социального объединения, как пролетариат. Без сомнения, важнейшей ментальной трансформацией пореформенного периода стало оформление слоя «свободных сельских обывателей», который продемонстрировал невероятную для того периода степень экономической и социальной активности, что находит выражение, с одной стороны, в создании целого ряда «торговых домов» и активизации социальной и духовной жизни городов, пополняемых наиболее активными представителями низшего сословия, стремившимися к реализации своих амбиций. В полной мере этот процесс не могли, да и не пытались оставить контрреформы Александра III, породив при этом целый ряд противоречий.
Рабочее движение, повлиявшее уже в начале века на течение очередной ментальной революции – пролетарской, в реалиях стремительно модернизирующейся России имело очевидную специфику, связанную с сохранением значительной патерналистской тенденции в комплексе производственных отношений, что связано с заменой формальных, основанных на контракте и правовых нормах взаимодействий, на неформальные, личные. Ключевой момент в патерналистских отношениях – зависимость рабочего от заводовладельца, предпринимателя. Эта зависимость определяла характерные черты рабочего-патерналиста, который делегировал предпринимателю ответственность за определение и реализацию своей жизненной стратегии35.
На фоне целой серии намечавшихся глобальных изменений российская интеллигенция, стремясь к сохранению и преобразованию ранее существовавших перцептивных и когнитивных эталонов, в полной мере не приняв идею изменения системы доминирующих в больших социальных группах мотивов, детерминированных существующей иерархией ценностей, оказалась фактически вне вновь конструируемой системы социальны связей, что впоследствии и определило необходимость формирования новой «пролетарской интеллигенции», ассимилировавшей «старую» (пребывавшую в большинстве своем в статусе лишенцев). В рамках же рассматриваемого нами периода мы можем наблюдать определенную долю онтологичности всех ранее описываемых процессов ввиду исключительной идеологической ангажируемости проблемы.
При этом истоки полномасштабного социокультурного конструирования, характерные уже для первых десятилетий существования СССР, являются прямым следствием духовного поиска, протекавшего и трансформировавшегося в рамках серии ментальных революций, переживаемых российским обществом на рубеже веков. В силу этого стоит обратить внимание на особенности духовной жизни, характеризующие трансформацию российского общества, вызванную увеличением скорости течения «научной революции» как парадигмы трансформации массового сознания и ментальности в планетарном масштабе. В российских реалиях общекультурные трансформации, определявшие изменения ментального и социально-психологического ландшафта российской цивилизации, были в равной степени связаны с феноменами иррационального поиска (лишь одним из проявлений которого являлся декаданс), сциентизма и «богоискательства», что было в равной степени частью соответствующей общеевропейской тенденции, но также являлось важным элементом общероссийского кризиса традиционализма. Вместе с тем в силу «апокалиптического настроения творческой интеллигенции жажда веры, сопровождавшаяся организацией религиозно-философских обществ и изданий, обернулась отрицанием христианства и привела к драме бездуховности. Вместе с тем значительной части научной и художественной интеллигенции стали присущи религиозно-философские искания»36. Примером подобного рода поиска могут быть рассуждения И. Ильина, отрицавшего ницшеанское «старый Бог не жив более», но в то же время и согласный с этим тезисом.
Вместе с тем именно соловьевство как течение, несущее в себе оттенок иррационализма, породило столь специфическое явление в духовной жизни российской цивилизации, весьма неоднозначное по своей природе, как религиозно-философский Ренессанс, ставший манифестом неотрадиционализма за счет абсолютизации неохристианского поиска, воплощенного в российской традиции в богоискательстве, проецируемом в образе мировой гармонии – всеединства.
Феномен всеединства, как форма поиска абсолютной гармонии, доминировавший в российской философской мысли на рубеже столетий, определил уделение самого пристального внимания концепту смирения и покаяния в рамках единой традиции постнародничества, формируя на непродолжительный период устойчивую пацифистскую традицию, постулирующую невозможность изменения внешних условий бытия вне «самости» человека, поэтому задачей метафизиков стало создание нового религиозного сознания не только на основе богословской традиции, но и во взаимодействии сути христианской идеи и философии37.
Продолжатели идей Соловьева – Н. Бердяев, С. Булгаков, П. Флоровский – пытались создать целостное религиозное мировоззрение, осмысляя историю становления цивилизации в качестве сложного синтеза идеи творения, воплощаемой демиургом, направляющим устремления человека, трактуемой в качестве формы теургии. В рамках учения особую роль играла пацифистская составляющая, ставшая наряду с принципом мессианства одним из ключевых механизмов трансформации социопсихологического ландшафта российского общества эпохи «ментальных революций».
Этот процесс связан с абсолютизацией принципа социальной справедливости, соборности и праведности, превратившихся в рамках психической и культурной идентификации различных социальных групп российского общества в триединую локальную мифологему, превратившуюся в рамках кризисных явлений того периода в своеобразный деструктивный двигатель социальных преобразований, который постепенно проецировался из ментальной и психологической сфер в сферу политическую. Романтическая традиция в развитии российского революционного движения, таким образом переосмыслив постулаты христианства через призму рационализма, инструментализировала основные принципы христианской философии, активно дополняя их многочисленными ментальными стереотипами и архетипическими конструктами, сформировав идею предвосхищения идеализированного будущего.
Возрастающее внимание к личности, сочетаемое с демонстративным отказом от традиционного морализма, изначально утвердившееся в «творческой среде», традиционно тяготевшей к свободе нравов, начинает распространяться в рамках урбанизированной части российского общества, освобождая критически мыслящего человека от иллюзии всеохватывающего детерминизма, в то время как претензии на безусловную истину приобрели исключительную актуальность.
Националистическая тенденция, характерная для официальной культуры, дополняемая «воинственным» традиционализмом большинства населения империи, сталкивается со столь популярной идеей многообразия практического и духовного опыта, их антагонистичности, позволяющей, однако сосуществовать в рамках единого культурно-психологического пространства.
В условиях подобного дуализма можно обнаружить определенные элементы культурного обмена в рамках одного полиэтнического государства, открыв при этом новые возможности для интеграции революционных идей в общекультурную парадигму, внедряясь в тот мощный информационный поток, который, по словам А. Блока, «несет на себе драгоценную ношу национальной культуры».
Весьма часто в рамках поисков иррационального начала, как обновленного и возвышенного, выходящего за пределы официозной триады, русская идея принимала формы литературных, художественных и философских откровений, которые, в полной мере создавая фаталистическую атмосферу, воздействовали лишь на наиболее экзальтированную часть интеллектуальной элиты, в то время как основная масса создавала новую мифологию и фольклор, как основы мироощущения «человека массы», опираясь на социалистическую утопию.