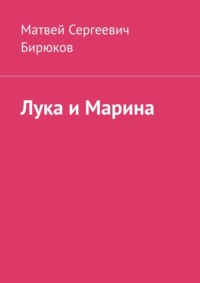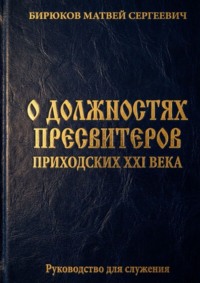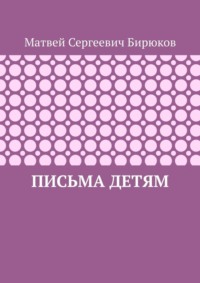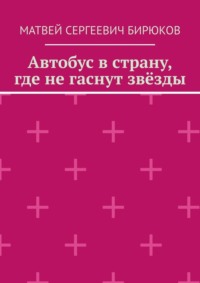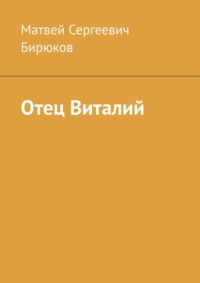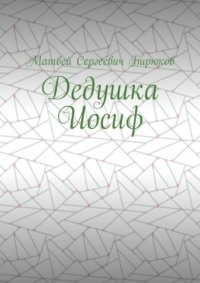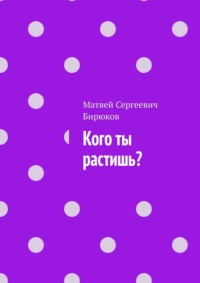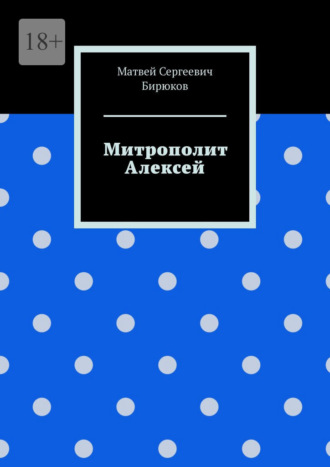
Полная версия
Митрополит Алексей
Третье – это люди и тишина. В храме уже было довольно много народу, в основном пожилые женщины в тёмных платках, несколько мужчин. Но они не разговаривали. Они стояли молча, сосредоточенно, и эта общая тишина была не пустой, а наполненной – ожиданием, молитвой, благоговением. Лишь изредка слышался чей-то тихий вздох или шёпот молитвы.
– Пойдём, – тихонько потянула его за руку бабушка.
Они прошли к большому подсвечнику, стоявшему в центре. Бабушка достала из узелка несколько свечей, дала одну Серёже.
– Вот, поставь свечку о здравии папы и мамы. Попроси у Бога, чтобы Он дал им здоровья.
Свечка была тёплой и гибкой. Серёжа смотрел, как бабушка зажгла свою свечу от другой, уже горевшей, и аккуратно поставила её в свободную ячейку. Расплавленный воск тут же схватился, и свеча встала ровно. Он тоже поднёс свою свечку к огоньку. Фитилёк зашипел и вспыхнул. Серёжа попытался поставить её, но она накренилась. Бабушка без слов поправила её своей опытной рукой.
– А теперь перекрестись и поклонись, – прошептала она.
Серёжа посмотрел на свою свечку, которая присоединилась к общему хору огоньков. Ему вдруг показалось, что эта маленькая свечка – это он сам, его душа, которая тоже вот так горит перед Богом. И он изо всех сил, очень искренне, подумал: «Господи, пожалуйста, пусть мама и папа никогда не болеют».
В этот момент впереди, в алтаре, раздался голос. Громкий, красивый, немного певучий. Это был голос батюшки, отца Василия:
– Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков!
И хор, стоявший где-то наверху, на клиросе, ответил ему мощным и стройным:
– Ами-и-инь!
Серёжу словно током ударило. От этого пения по спине побежали мурашки. Это не было похоже ни на одну песню, которую он слышал по радио или от мамы. В этих звуках была какая-то невероятная сила и красота. Голоса сплетались, поднимались под самый купол и опускались вниз, наполняя всё пространство храма. Казалось, что поют не люди, а сами ангелы, про которых рассказывала бабушка.
Началась служба. Серёжа мало что понимал в происходящем. Священник то выходил из алтаря, то снова заходил туда. Люди то крестились, то кланялись. Хор пел что-то то печальное и протяжное, то радостное и торжественное. Но, не понимая умом, он понимал сердцем. Он чувствовал, что здесь, в этом старом храме, происходит что-то очень-очень важное. Что-то, что связывает всех этих разных людей – и его, маленького мальчика, и его старенькую бабушку, и строгого батюшку, и даже тех святых, что смотрели на него с тёмных икон.
Он стоял, прижавшись к бабушкиному боку. Ноги понемногу уставали, хотелось сесть, но он терпел. Он смотрел на лики святых, на огоньки свечей, на лучи света в дыму ладана, слушал ангельское пение, и постепенно страх и любопытство ушли. Вместо них пришло другое чувство. Чувство дома. Странное, необъяснимое ощущение, что он не в гостях. Что он здесь, в этом таинственном и прекрасном месте, – свой. Что это и есть его настоящий, самый главный дом. И в этом доме его всегда ждёт Тот, Кто его любит и понимает без слов.
Он поднял глаза на большой купол. Там, в самом центре, был изображён Христос – с книгой в руках и строгим, но полным любви взглядом. Солнечный луч упал прямо на Его лик, и на мгновение Серёже показалось, что Христос смотрит прямо на него и едва заметно улыбается. И от этого взгляда на душе у маленького мальчика стало так светло и радостно, как не было никогда в жизни.
Глава 5. Разговор без слов
Служба шла своим чередом. Для взрослого, привычного человека время на богослужении течёт по-особенному – то замедляясь до вечности во время чтения длинных молитв, то пролетая как одно мгновение в радостных пасхальных возгласах. Но для семилетнего мальчика, стоящего в храме впервые, время просто остановилось. Оно превратилось в густой, насыщенный поток образов, звуков и ощущений, которые вливались в его душу, как река вливается в море.
Ноги уже ощутимо гудели от долгого стояния. Внимание, как непослушный котёнок, то и дело пыталось ускользнуть – то на узор трещины на каменном полу, то на залетевшую в окно осу, которая растерянно билась о стекло под самым куполом. Но бабушка Аня, почувствовав его ёрзанье, не ругала и не шикала. Она просто клала свою сухую, тёплую руку ему на плечо, и эта простая тяжесть возвращала его обратно, в торжественную тишину храма.
И тогда, чтобы отвлечься от усталости, Серёжа начал по-настоящему смотреть. Не просто скользить взглядом, а всматриваться. Он стал изучать то, что его окружало, – иконы.
Они были повсюду. Большие, в массивных, потемневших от времени окладах – на стенах. Маленькие, которые люди прикладывали к губам, – на специальных наклонных столиках-аналоях. Вся церковь была населена этими молчаливыми, строгими и печальными ликами. Раньше, в бабушкином красном углу, они казались ему просто таинственными картинками. Здесь, в своём настоящем доме, они ожили.
Вот, совсем рядом с ними, была большая икона Божией Матери. Она держала на руках Младенца, но смотрела не на Него, а куда-то мимо, прямо в душу Серёже. И в Её огромных, тёмных глазах была вся скорбь мира. Не злость, не упрёк, а бездонная, всепонимающая печаль. Серёжа вдруг подумал о том, как вчера он не послушался маму и порвал новую рубашку, зацепившись за гвоздь. И как мама не ругалась, а только вздохнула и сказала: «Эх ты, Серёженька…». Взгляд Богородицы был похож на этот мамин вздох, только увеличенный в тысячу раз. Ей было жаль не порванной рубашки, а чего-то гораздо большего. Ей было жаль каждого человека, который делает что-то не так, который причиняет боль себе и другим. И в то же время в этой печали была безграничная любовь и готовность простить.
Серёжа перевёл взгляд на другую икону – своего небесного покровителя, преподобного Сергия. Здесь святой был изображён в полный рост. В одной руке он держал свиток с письменами, а другая была поднята в благословляющем жесте. Его лицо было худым, измождённым от поста и молитвы, но взгляд был ясным, твёрдым и удивительно спокойным. Это был взгляд человека, который видел что-то, чего не видят другие. Который знал какую-то очень важную тайну и обрёл покой. Глядя на него, Серёжа почувствовал не страх, а уверенность. Ему показалось, что преподобный Сергий говорит ему без слов: «Не бойся. Иди своей дорогой. Я рядом».
Он стал рассматривать другие лики. Вот суровый, почти грозный пророк Илия с огненными волосами. Вот кроткий целитель Пантелеимон с ларчиком лекарств в руках. Вот седовласый Николай Чудотворец, в глазах которого светилась доброта. Они были такие разные, но было в них что-то общее. Они все смотрели не на него, а как бы сквозь него, в самую глубину. И этот взгляд не осуждал, а звал. Звал стать лучше, чище, сильнее. Это был разговор без слов, который был понятнее любых проповедей.
Вдруг он заметил, как одна старенькая-старенькая женщина, похожая на высохший стручок фасоли, подошла к иконе Божией Матери. Она с трудом опустилась на колени. Её губы беззвучно шевелились. Она смотрела на икону так, будто перед ней была не доска с красками, а живая, родная мать, которой она поверяла своё самое сокровенное горе. И по её морщинистой щеке медленно поползла слеза. Она не вытирала её. Она просто стояла на коленях, смотрела и плакала – тихо, горько и доверчиво.
Серёжу это поразило. Он никогда не видел, чтобы взрослые так плакали – не от боли или обиды, а как-то иначе. Он понял, что эта старушка сейчас не просто смотрит на картинку. Она разговаривает. Она жалуется, просит, надеется. И она верит, что её слышат.
В этот момент хор запел что-то особенно красивое и протяжное. Песня лилась, как широкая река, заполняя всё пространство храма. И бабушка Аня вдруг сделала то, чего Серёжа от неё не ожидал. Она, всегда такая строгая и сдержанная, опустилась на колени рядом с той плачущей старушкой. Она не плакала, но её лицо стало таким, каким Серёжа его никогда не видел – отрешённым, светлым и бесконечно преданным. Она сложила руки в молитве и вся ушла в этот разговор без слов, в эту тихую беседу со своей Небесной Заступницей.
Серёжа остался стоять один. Он почувствовал себя немного потерянным. Но потом он посмотрел на свою коленопреклонённую бабушку, на другую старушку, на лик Богородицы, из глаз которой, казалось, вот-вот тоже скатится слеза, и что-то в его детской душе перевернулось. Он понял: вера – это не просто правила, которые нужно соблюдать. Это не просто знание историй из жизни святых. Вера – это живая, трепетная связь. Это любовь. Такая сильная, что заставляет старых и больных людей опускаться на холодный каменный пол. Такая глубокая, что даёт утешение в самом большом горе.
Он ещё не умел молиться по-настоящему, не знал нужных слов. Но он сделал то, что подсказало ему сердце. Он подошёл поближе к бабушке, несмело опустился на колени рядом с ней и тоже посмотрел на икону. Он ничего не просил. Он просто смотрел на прекрасный, печальный и любящий Лик. И в этой общей тишине, в этом совместном стоянии на коленях, он впервые почувствовал себя частью Церкви. Не просто зрителем, а участником. Маленьким, неумелым, но принятым в эту великую семью, где люди и святые, живые и ушедшие, говорят друг с другом на языке сердца, на языке любви, которому не нужны слова.
И когда бабушка поднялась с колен и помогла ему встать, он почувствовал, что усталость в ногах прошла. Вместо неё была лёгкость и тихая, светлая радость. Радость от того, что он только что подслушал великую тайну. Тайну разговора без слов.
Глава 6. Сокровище старого чердака
Прошло несколько дней после того первого похода в храм. Пережитое там – мерцание свечей, запах ладана, ангельское пение и особенно тот разговор без слов у иконы – не отпускало Серёжу. Оно жило в нём, как тихая, светлая музыка. Мир вокруг остался прежним, но он сам смотрел на него немного другими глазами.
Однажды, в дождливый и серый день, когда на улицу выходить не хотелось, Серёжа от скуки решил исследовать самое таинственное место в доме – чердак. Туда ему строго-настрого запрещалось ходить одному. «Там и провалиться недолго, и пыли наглотаешься», – говорила мама. Но запрет, как известно, только разжигает любопытство.
Дождавшись, когда мама уйдёт в огород под наве перебирать лук, а бабушка задремлет в своём кресле, Серёжа на цыпочках прокрался в сени. Там, в углу, стояла старая, скрипучая лестница-стремянка. Он с трудом притащил её к потолочному люку, повозился с тяжёлым железным крюком и, наконец, откинул крышку. В лицо ему пахнуло густым, спёртым воздухом, запахом сухой пыли, старого дерева и чего-то ещё – мышиного помёта и времени.
Он полез наверх. Чердак был погружён в полумрак. Сквозь единственное затянутое паутиной слуховое окошко пробивался тусклый, серый свет. Под ногами хрустел какой-то мусор, балки были покрыты толстым слоем пыли, похожей на бархат. Повсюду висели гирлянды паутины, похожие на флаги заброшенного королевства. Здесь было свалено всё, что уже не нужно было в доме, но что жалко было выбросить: старый дырявый таз, сломанная прялка, какие-то мешки с непонятным содержимым, перевязанные стопки пожелтевших газет.
Серёже стало немного жутко. Он уже собирался лезть обратно, как вдруг в самом дальнем и тёмном углу, под связками сушёной полыни, он увидел что-то, что привлекло его внимание. Это был большой деревянный сундук, окованный ржавыми железными полосами. Он был не похож на бабушкин сундук, в котором та хранила свои платки и нитки. Этот был гораздо старше, массивнее и выглядел очень загадочно.
Поддавшись непреодолимому любопытству, Серёжа подобрался к нему. Замка на сундуке не было, только ржавая петля. Он с усилием потянул за неё, и тяжёлая крышка со скрипом, похожим на стон, откинулась назад.
Внутри не было ни золота, ни драгоценностей, как в сказках. Но то, что он увидел, было для него настоящим сокровищем. Сундук был почти доверху набит книгами. Огромными, толстыми, в тёмных, потрескавшихся кожаных переплётах с тиснёными крестами.
Серёжа осторожно, двумя руками, вытащил самую большую книгу. Она была невероятно тяжёлой. Он положил её на пол и сдул с обложки вековую пыль. Кожа была холодной и гладкой на ощупь. На обложке не было никаких букв, только большой, строгий крест. Он с трепетом открыл книгу.
Страницы были толстыми, желтоватыми, с неровными краями. И на них были буквы. Но это были не те буквы, которые он учил в своём букваре. Они были странными, витиеватыми, красивыми и совершенно непонятными. Некоторые из них были нарисованы красной краской и украшены замысловатыми узорами. Текст шёл сплошным потоком, без пробелов между словами, к которым он привык.
Он листал страницу за страницей. Это было похоже на разглядывание таинственной карты, ведущей в неведомую страну. Он не понимал ни слова, но чувствовал, что прикасается к чему-то очень древнему, важному и священному. Иногда среди непонятных букв он встречал знакомые образы – небольшие, выписанные от руки картинки-миниатюры. Вот ангел с трубой. Вот седовласый старец, похожий на тех, что он видел на иконах. Вот схематичное изображение храма.
Он достал другую книгу, поменьше. В ней буквы были такими же, но на полях кто-то оставил пометки уже обычным, понятным ему почерком. «Сие есть зело поучительно», – прочитал он с трудом, разбирая старинные каракули. «Господи, помилуй грешнаго раба твоего Прохора». Кто был этот Прохор? Может быть, его прадед? Или прапрадед? Эта мысль ошеломила его. Эта книга держала в себе голоса его предков.
В этот момент снизу послышался голос мамы:
– Серёжа! Ты где?
Он вздрогнул от неожиданности, быстро, но аккуратно положил книги обратно в сундук, закрыл крышку и со всех ног бросился к люку. Он успел спуститься и отставить лестницу на место за секунду до того, как мама вошла в сени.
– Ты что такой пыльный? – строго спросила она. – Опять на чердак лазил? Я же тебе говорила!
Он виновато молчал, боясь поднять глаза. Мама повздыхала, но наказывать не стала, только отправила его умываться.
Но тайна старого сундука не давала ему покоя. Весь вечер он был задумчивым. За ужином он не выдержал и спросил:
– Ба, а у нас на чердаке сундук стоит. Старый такой. А в нём книги. Что это за книги?
Бабушка Аня отложила ложку и посмотрела на него долгим, пронзительным взглядом.
– Добрался-таки, разбойник, – сказала она беззлобно. – Я уж думала, сгниют они там. Это книги твоего прадеда, Прохора. Отца моего. Он в нашей церкви псаломщиком был до революции. Читал на клиросе. Голос у него был, как колокол, на всё село слышно было. А книги эти – церковные. Евангелие, Псалтирь, Часослов…
– А почему они на чердаке? – удивился Серёжа.
Лицо бабушки омрачилось.
– Времена потом пришли лютые, страшные. За такие книги в тюрьму могли посадить, и даже хуже. Церковь нашу закрыли, батюшку отца Василия, что тебя крестил, – его отца, тоже Василием звали, – куда-то увезли, и с концами. А отец мой, Прохор, успел самые ценные книги из храма вынести ночью и спрятать. Так и велел мне: «Храни, дочка, до лучших времён. Может, пригодятся ещё». Вот и храню. Только боюсь я их. Грамоте той, церковнославянской, я не обучена, да и страх с тех пор в сердце сидит.
Серёжа молчал, потрясённый. Оказалось, что эти книги – не просто старые вещи. Это были спасённые святыни. Это был подвиг его прадеда.
– Ба… – прошептал он. – А можно… можно мне их посмотреть?
– Что ж ты там увидишь, коли букв не знаешь? – вздохнула бабушка. Но потом посмотрела на серьёзное, сосредоточенное лицо внука и добавила: – Ладно. Только не на чердаке. Завтра принесём одну вниз. Самую главную.
На следующий день они с папой с трудом спустили с чердака ту самую, самую большую и тяжёлую книгу. Они протёрли её от пыли, и бабушка благоговейно положила её на стол, застеленный чистой скатертью.
– Это Евангелие, – сказала она. – Книга о жизни Господа нашего Иисуса Христа.
Она открыла его. И Серёжа снова увидел эти прекрасные и непонятные буквы. Но теперь он смотрел на них иначе. Это была не просто тайнопись. Это был язык, на котором его прадед разговаривал с Богом. Язык, за который люди шли в тюрьму. Язык, который хранил в себе самую важную правду на свете.
Он робко провёл пальцем по строчке. Буквы были чуть выпуклыми от густой типографской краски.
– Я хочу научиться, – сказал он тихо, но твёрдо.
Бабушка посмотрела на него, потом на икону преподобного Сергия, своего тёзки, который когда-то тоже мечтал научиться читать священные книги. И в её глазах блеснула слеза.
– Может, и правда, время пришло, – прошептала она. – Только кто ж тебя научит? Я сама не умею.
Серёжа не знал, кто его научит. Но в этот момент, стоя перед старинной книгой, спасённой его прадедом, он почувствовал, что его жизнь сделала ещё один важный поворот. Первый был в храме, когда он почувствовал себя дома. А второй – здесь, на их старой кухне, когда он понял, что хочет не просто быть в этом доме, а научиться понимать его язык. Язык веры. И это желание было таким сильным и ясным, что он не сомневался: если очень-очень захотеть, то, как и в истории про его святого, обязательно найдётся тот, кто ему поможет.
Глава 7. Первый разговор со священником
Желание научиться читать таинственные буквы в прадедовом Евангелии поселилось в сердце Серёжи и не отпускало его. Оно было похоже на маленький, но очень упрямый росток, пробивающийся сквозь асфальт. Он то и дело доставал тяжёлую книгу, клал её на стол и пытался сам разгадать загадку. Он сравнивал буквы с теми, что знал, искал похожие, но славянская вязь лишь дразнила его своей красотой и неприступностью.
Бабушка Аня смотрела на его мучения с сочувствием и тревогой.
– Ох, внучек, – вздыхала она, – не по силам тебе эта ноша пока. Тут наставник нужен, человек учёный. А где ж его взять в нашем селе?
И вот однажды, в обычный будний день, когда Серёжа помогал бабушке поливать огурцы в теплице, по улице проехала незнакомая машина, старенький «Москвич» серого цвета. Она остановилась у ворот их Успенской церкви. Из машины вышел невысокий, уже пожилой мужчина в тёмном подряснике. Это был отец Василий, тот самый священник, который служил в их храме. Он приезжал из районного центра раз в неделю, по воскресеньям, а иногда и в будни, чтобы проведать своё небольшое хозяйство.
Серёжа замер с лейкой в руках. Он видел батюшку в храме, в сияющих ризах, окружённого таинством службы. Там он казался почти неземным существом, грозным и недосягаемым. А сейчас это был просто пожилой человек в поношенной одежде, с усталым лицом и добрыми глазами, которые щурились от солнца.
– Ба, – прошептал Серёжа, дёргая бабушку за рукав. – Батюшка приехал.
Бабушка выпрямилась, вытерла руки о передник и строго посмотрела на внука. В её глазах мелькнула какая-то решимость.
– А вот, Серёженька, может, и пришёл твой час, – сказала она загадочно. – Собирайся. Пойдём к батюшке за советом.
Серёже стало страшно. Пойти к самому батюшке? Просто так? Зачем? Что он ему скажет?
– Я не пойду, – пробормотал он и попятился.
– Пойдёшь, – твёрдо сказала бабушка. – Не бойся. Отец Василий человек добрый. Он не укусит. Мы просто спросим. За спрос денег не берут.
Она взяла внука за руку своей крепкой, мозолистой рукой, и Серёжа понял, что спорить бесполезно. Они вышли за калитку и медленно пошли к церкви. Батюшка в это время обходил храм, внимательно осматривая стены, где-то поправляя отвалившуюся штукатурку.
– Благословите, батюшка, – сказала бабушка, подойдя и сделав низкий поклон.
Серёжа, прячась за её спиной, тоже неловко поклонился.
Отец Василий обернулся. Он узнал свою прихожанку.
– Бог благословит, Анна Тимофеевна. Какими судьбами? Не воскресенье ведь.
– Да вот, отец Василий, с бедой я к вам. И с радостью, – ответила бабушка.
– Это как же так, и беда, и радость в одном флаконе? – улыбнулся священник, и морщинки у его глаз собрались в добрые лучики.
– А вот так, – вздохнула бабушка. – Внук мой, Сергий, – она вывела Серёжу из-за своей спины, – после службы в храме совсем умом тронулся. Нашёл на чердаке прадедовы книги церковные, Евангелие старинное. И теперь ни сна, ни покоя ему нет – хочет научиться читать по-славянски. Вот и беда моя – кто ж его научит? А радость – что душа у мальчонки к Божьему слову тянется.
Отец Василий перевёл взгляд на Серёжу. Он смотрел не строго, а с большим, тёплым любопытством. Серёжа почувствовал, как у него горят уши, и уставился в землю, ковыряя носком сандалии корень подорожника.
– Вот оно что… – протянул батюшка задумчиво. – К Божьему слову, говоришь, тянется… А ну-ка, отрок Сергий, погляди на меня.
Серёжа с трудом заставил себя поднять глаза.
– И правда хочешь? – спросил священник. – Это ведь труд большой. Буквы там мудрёные, правила строгие. Не игрушки.
– Хочу, – прошептал Серёжа, сам удивляясь своей смелости.
– А зачем тебе это? – спросил батюшка, и его взгляд стал серьёзнее. – Чтобы перед ребятами хвастаться, что ты такие закорючки знаешь?
Серёжа отрицательно замотал головой.
– Нет… – он запнулся, пытаясь найти нужные слова. – Я… я хочу понимать… что там написано. Про Бога.
Наступила тишина. Было слышно только, как жужжит пчела над цветком цикория. Отец Василий долго смотрел на мальчика, и Серёже казалось, что он видит его насквозь – и его страх, и его упрямое желание, и то первое, светлое чувство, что родилось в его душе в храме.
– Ну, что ж, – сказал наконец батюшка. – Желание доброе. А доброму желанию надо помогать.
Он повернулся к бабушке.
– У меня в городе, Анна Тимофеевна, при храме есть кружок. Я там нескольких ребятишек учу основам грамоты церковной. Привози его ко мне по субботам. Если не испугается трудностей и не бросит через месяц – будет толк.
У Серёжи от радости перехватило дыхание. Неужели это правда? Неужели его мечта может сбыться?
– Господи, спаси вас, батюшка! – запричитала бабушка, пытаясь поцеловать его руку. – Да как же мы вам благодарны будем!
– Бога благодарите, – остановил её отец Василий. – Это Он в его душе такое желание посеял. Моё дело – только грядку прополоть да водичкой полить.
Он снова посмотрел на Серёжу.
– А Евангелие своё прадедово береги. Это великая святыня. Не просто книга, а свидетельство веры твоих предков. Когда научишься, будешь сам по нему молиться. И будешь за прадеда своего, Прохора, просить, чтобы Господь его в Царствии Своём упокоил. Понял?
– Понял, – твёрдо ответил Серёжа.
– Ну, вот и славно, – сказал батюшка. – Тогда до субботы. А сейчас идите с Богом, у меня тут ещё крышу надо посмотреть, совсем прохудилась.
Они поклонились и пошли домой. Серёжа больше не прятался за бабушкиной спиной. Он шёл рядом, и ему казалось, что он вырос на целую голову. Страх перед священником полностью исчез. Отец Василий оказался не грозным небожителем, а простым, добрым и мудрым человеком, который чинит крышу и готов тратить своё время на незнакомого мальчишку.
– Вот видишь, – сказала бабушка, когда они подошли к своей калитке. – А ты боялся. Пути Господни неисповедимы. Ты только захотел всем сердцем, а Господь тебе тут же и учителя послал.
В тот вечер, ложась спать, Серёжа уже не просто лежал и смотрел на звёзды. Он пытался разговаривать с Богом. Он не знал правильных молитв, кроме тех, что слышал от бабушки. Он говорил своими словами, просто и неумело.
«Господи, – шептал он в подушку, – спасибо Тебе за батюшку. Спасибо за книги. Пожалуйста, дай мне сил, чтобы я всему научился. И, пожалуйста, упокой душу раба Твоего Прохора, прадедушки моего».
Это была его первая осмысленная, личная молитва. И он чувствовал, что там, в бездонной высоте, его слышат. Он засыпал с чувством огромной благодарности и надежды. Впереди его ждал новый, неизведанный путь – путь к пониманию Божьего слова. И он был готов пройти его, чего бы это ни стоило.
Глава 8. День Ангела, не похожий на день рождения
Приближался сентябрь. Дни становились короче, воздух – прозрачнее и прохладнее, а в саду тяжело наливались соком антоновские яблоки. Серёжа уже несколько раз съездил с бабушкой в город на занятия к отцу Василию. Это было непросто: два часа трястись в стареньком автобусе, потом сидеть в прохладной комнатке при храме, пытаясь запомнить диковинные названия букв – «аз», «буки», «веди», «глаголь», «добро». Рука не слушалась, выводя неуклюжие крючки, а строгие правила чтения с «титлами» и «паерками» казались китайской грамотой. Но Серёжа не сдавался. Каждая угаданная буква, каждое прочитанное по слогам слово «Бо-гъ» или «Го-спо-дь» было для него огромной победой.
Однажды вечером, когда он корпел над своими прописями, мама, штопая его рубашку, сказала:
– Серёженька, скоро ведь у тебя праздник. Восемнадцатое сентября. Помнишь?
Серёжа нахмурился. Его день рождения был зимой, в январе. Он его очень любил: всегда был торт со свечками, подарки, приходили в гости его друзья.