
Полная версия
Маленькие дела большой жизни. Весна да лето – пройдет и не это
Сердечная вера
Способность видеть и воспринимать чудо – удел ребенка. Незнание сохраняет пространство неведомого. Интерес к жизни дает объем жизненного пространства. Доверие жизни открывает двери чуду.
Сердечная вера – это свойство детской психики. Незнание, интерес и доверие – так сама жизнь ведет ребенка за руку. Нет представлений о себе, других и мире – нет скуки и обыденности. Есть ощущение волшебства и вера в чудо. И красота в глазах смотрящего, и вера в духе открытого ей, и любовь в сердце, жаждущем ее. В детстве жизнь наполнена чудом каждый день. Ты не ставишь условий жизни – ты играешь в ее игру. Ты смотришь на облака и обнимаешься с самим небом. И чудо в каждом колоске, цветке, жуке – оно открывается по готовности видеть. Восприимчивость к чуду связывает тебя с вечностью. Это рождает детскую надежду и мечту. Все кажется возможным. Ты с чудом заодно. И эта принадлежность – опыт счастья.
Дефицит сердечной веры, восприимчивости к тайне жизни определяет наше сегодня. Победа личности над духом закрыла двери волшебству. Мы перестали видеть сквозь огни елочной гирлянды свет жизни необыкновенной. Мы перестали сами быть чудом. И этот морок погружает в беспробудный сон.
Мы перестали воспринимать себя как чудо, а потребность осталась. И на арену вышли шарлатаны, которые обещают нам чудо за деньги. Вот тебе ведьма, вот шаман… Спрос рождает предложения. И это грустно. А святые отцы предупреждали: «Царствие Божие внутри нас, и оно силой берется». Счастье – внутри, и оно требует твоих усилий. Твоя проявленность внутри – это внутренний свет. Иди за ним!
Декабрь, новогодняя елка, пахнет хвоей и мандаринами. Стеклянные игрушки такие хрупкие. Вот золотая шишка, а это – орех; вот белоснежная сосулька, а вот и разноцветные шары. И, наряжая елку, ты впускаешь в свою жизнь волшебство, нужно только вспомнить, как ты умел это делать – наполняться волшебством и чудом. Ты точно умел видеть чудо во всем. Тебе просто нужно это вспомнить.
Мы хотели, чтобы больше было…
Привезли мне однажды лесную чудо-ягоду. Сажаю я этот диковинный новый сорт земляники, и картинка перед глазами: я, маленькая, сижу в саду и читаю взахлеб… Знаете, есть такие книги из разряда «зачитать до дыр». «Повесть о настоящем человеке», «Повесть о Зое и Шуре», «Хозяйка Медной горы» и другие сказы Бажова… Я буквально ими зачитывалась и бредила описанными в них тайнами. Помните, как в детстве можно было у железной дороги камушки всякие разные находить гранитные, красивые такие? Они же тогда были волшебными! Мы загадывали на них желания и «предвидели» будущее.
Мать героя-подпольщика Олега Кошевого в одном из интервью рассказывала о его детстве, и в этом детстве узнавали себя многие советские дети. Так вот, посадил его дед как-то клубнику (прямо как я сейчас), Олег с другом решили ему «помочь» и ягоду пересадили – «чтобы больше было, хоть отбавляй». Эх и шуму подняли тогда взрослые!.. Но ребят, конечно, простили.
Вывод один: дети копируют взрослых, это и определяет особенность времени. Возиться в земле, экспериментировать и быть любопытным до нового – это про советское время. Время дефицита, как оказалось, способствует творчеству: ты все время что-то придумываешь. Минус – вечно попадаешь в истории; плюс – тебе никогда не бывает скучно. (Согласны с моими словами, советские дети?)
Наши детские игры определяли книги, которые мы читали. Мы сооружали на деревьях невиданные конструкции – там обязательно был штаб, как у Тимура и его команды. В лесу непременно был шалаш, как у разведчиков и партизан. Ну и, конечно, как не вспомнить заброшенные дома, где мы вызывали пиковую даму и потом гонялись от привидения.
Мой шрам над переносицей теперь всегда напоминает о еще одной игре – клек: проследил момент – получил по лбу! Нам не нужны были игрушки – мы играли сами с собой, с жизнью и другими детьми.
Мы ходили босиком до 31 августа, и у родителей был единственный день нас отмыть, чтобы отправить чистыми в школу. А в школе что? Там снова труд и отличная событийная детская жизнь: ходили и всегда искали, кому помочь. Спасали котов, щенков…
Коты для меня – это, конечно, любовь на всю жизнь. Они подбирались на улице и неслись домой, где я потом неделю драила полы – за то, чтобы оставить принесенных друзей дома. Летом они вместе со мной торжественно переезжали в деревню, где и оставались: кто ж променяет такую жизнь на город?! И в голову тогда не могло прийти, что они какие-то некрасивые, непородистые… Все были хорошенькими, зацелованными в щечки и затанцованными на ручках! Рыжик, Антон, Семен – эх, сколько же их было!..
Мы, советские дети, не были оторваны от жизни, мы были вместе с ней. Были в ней с головой. Помните ручьи весной, кораблики? Как вчера… Все так живо!
Детская депрессия возникает от скуки. Скука – это всегда про изолированность от жизни. От живой такой жизни, которая идет дождями, снегопадами… Жизни с лужами, которые можно (и обязательно нужно) измерить лично сапогами; жизни с секретиками в земле, солдатиками и муравьями, за которыми всегда так интересно наблюдать.
Жизнь – это роса, это мох в лесу. Это поле с жужжащими пчелами, речка с запахом тины. Нет в этой жизни ничего искусственно созданного – нет и скуки. В этом спасение человека от его собственного ума. В этом гармония. В этом созидание. В этом – возвращение к себе.
Высадила я свою клубнику. Сижу, чай пью… То ли восемь лет, то ли сто. В гармонии нет возраста. Возраст есть только у ума.
У души и духа его нет.
Про поддержку
Каталась я как-то на горных лыжах в загородном клубе. Ну как каталась: пока только училась стоять, падать и подниматься.
На учебной трассе были и другие «ученики».
Супруги за сорок: они поддерживают друг друга, но тоже падают. И все мы дружно заливаемся от смеха, встаем и снова пробуем. Две подружки на сноубордах: скатились, упали и лежат в снегу, хохочут. Я с умилением наблюдала за всеми, но хочу рассказать о мальчике лет восьми, который был на горке с отцом.
Пацан ехал на лыжах на большой скорости и орал. Отец бежал рядом и страховал. Парень свалился и начал истерить. Он плакал навзрыд и кричал, что в жизни больше не встанет на «эти дурацкие лыжи», что у него вообще не получается и что он ничего не хочет. Потом заливался, что его никто не понимает, не любит, и «отстаньте вы все». Проезжавшие мимо лыжники пытались его успокоить и как-то поддержать, но все было бесполезно.
Позиция отца была героически прекрасна: он что-то подстелил себе на склоне, уселся поудобнее и спокойно, но твердо давал обратную связь сыну: «У тебя уже получалось. Ты все сможешь! Ты уже падал, но вставал. Мы – мужики, мы сильные. Ничего же страшного не случилось».
Я слушала – меня мурашило: никаких оценок и критики – спокойная, уверенная поддержка, как мужик мужика.
Стало очевидным: отец растит мужчину. Того, кто будет преодолевать, а не истерить. Того, кто будет вставать и идти, а не обвинять. Того, кто поступками определяет свой жизненный путь. Того, чья свобода определяется ответственностью, а не претензиями.
И так мне стало приятно, оттого что рядом есть подобные примеры воспитания и передачи родительского опыта. Такие примеры наполняют и вселяют уверенность в нашем обществе и в его завтра. Такие примеры задают нормы и определяют ценности общества. Такие примеры, несомненно, про здоровую семью.
Мы с сестрой, когда взбирались по склону, чувствовали себя астронавтами, покорившими Марс. От души нахохотались и вдохновились и взаимной поддержкой, и теплом ближних своих. Ведь когда рядом все по-доброму и по принципу взаимной помощи – это же и есть ближние, правда?
Ячейка общества
Есть в России такой официальный праздник – День семьи, любви и верности.
Хороший праздник. Осталось только разобраться, что считать семьей. Какая это ячейка, семья? Что значит для общества и для отдельно взятого человека? Какие человеческие потребности удовлетворяет семья? Для чего она человеку?
Поделюсь своими мыслями и наблюдениями.
Семья – это когда я чей-то. Так удовлетворяется потребность в принадлежности.
Семья – это когда меня признают особенным, уважают. Так удовлетворяется потребность в индивидуальности. Так формируется внутренняя опора.
Семья – это когда есть перспектива. Ориентиры и примеры – это то, что помогает укрепить внутренние опоры.
Семья – это опыт безусловной любви: меня принимают по праву любви. Потому семья – это малая церковь: она делает внутренние опоры сильными.
Семья – это опыт человечества. «Я хочу так же жить» – это передача ответственности. Это делает меня свободным.
Выходит, семья – это глубокое ощущение себя Человеком. Это то, что помогает жить.
Семья сегодня, в современной России, обновляется.
Потихоньку, но обновляется.
От души желаю всем создать свою семью!
Обрести, найти и стать кому-то такой вот настоящей семьей.
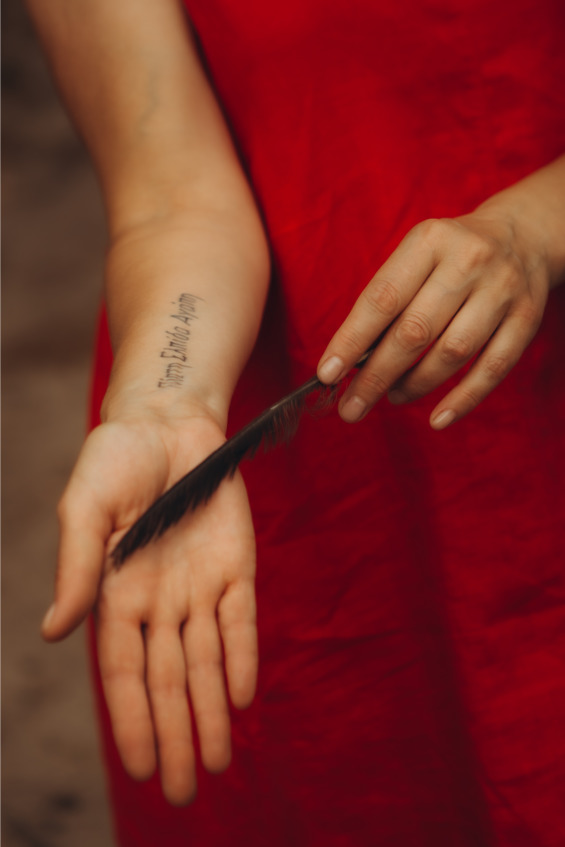
ЧАСТЬ 2. МЕСТО СИЛЫ
А еще мне хочется – до дрожи в коленях,
до кома в горле – того же, чем я был напичкан в детстве:
простоты и ясности мира.
Сергей Лукьяненко
– Это внутренний ребенок?
– Ну это больше, чем он.
– Это счастье?
– Это, скорее, про смысл.
– Это границы?
– Это переживается как свобода.
– Это освобождение?
– Это исцеление.
– Может, тогда это про любовь?
– Это про жизнь.
– Ну ты там кто?
– Я там – все. Я там живу и там мой дом.
Я тосковала по своей деревне детства. Я приезжала и искала там себя. Не находила, и душа болела, пока я не открыла это место глубоко внутри. Потом искала этому название, и вот оно пришло: метафора Михаила Пришвина – «неоскорбляемая часть души». Иногда надо просто подобрать слово, передающее весь смысл и свет.
Неоскорбляемая часть души…
Глубокий выдох.
Просто хорошо.
В суть.
Деревня моя деревянная, дальняя
Вам знаком деревенский запах? А деревенская тишина?
Так звучит гармония. Так выглядит гармония.
Деревня Репьевка стоит на горе. На задах огородов гуляет ветер, смешивая ароматы трав, цветов, земляники с жужжанием пчел, стрекотом кузнечиков и заливистыми петушиными приветствиями. Сидишь на склоне в душистой и мягкой траве и смотришь сверху на клуб, на дорогу, по которой изредка кто-то возвращается из магазина; слышно, как вдалеке бренчит колодезная цепь, редко лают собаки…
Ветер треплет волосы, запутывая их и приглашая играть. Ребенок с ветром заодно; с полем, пыльной дорогой, облаками. Ребенок заодно с этой жизнью. Между ними ничего не стоит. Ничего не мешает им быть заодно.
Я играла с самой жизнью, обнималась с ней ветром и солнцем, трелями птиц и безумными ароматами сирени.
Такая любовь может идти только от самой жизни – когда ты открыт ей, восприимчив, настроен на ее лад. Я помню, как хотелось петь, смеяться.
Наполненная радостью и откровениями жизни, я бежала вниз по горе и верила, что могу летать. Бежишь, но внутри летишь, паришь – и наполняешься этим глубоким чувством. Так проявляется витальность – жажда жизни.
Это очень похоже на май, когда природа свежа и только-только входит в свою силу. В этом есть надежда. Она ведет, приподнимает вера от земли. С надеждой и верой ты исполнен любовью к живому. Так распахнуты руки и душа.
Ребенок движется навстречу жизни. И столько в этом величия и Божественной простоты. Это формула гармонии. Это одна из тайн жизни. Она открыта, пока ты ребенок.
Не по этому ли чувству мы так тоскуем, становясь взрослыми? Не эту ли тоску пытаемся заглушить победами, достижениями, свершениями? Запутываемся, чтобы однажды снова вернуться к главному – объятиям с самой жизнью.
И песнь эта стоном зовется
Я выросла на народной песне, коллективном труде, народных праздниках.
Деревня, сенокос. С раннего утра двор оживает. Дед отбивает косу, бабушка собирает грабли, отваривает картошку, яйца на обед.
Лохматый Граф ходит с деловым видом и тоже собирается в дорогу.
Дедка запрягает лошадь, в телегу стелется его фуфайка. Усаживаемся и едем. Иногда с собой беру закадычную подружку. Едем, поем песни.
Проехать по деревне на телеге и кричать «Но! Ну давай!» – событие.
В детстве мы обладаем удивительным свойством простые вещи превращать в значимые события. Оттого жизнь кажется приключением, праздником или даже чудом.
В Сердобском районе Пензенской области удивительная природа. Величие и доступность этой красоты захватили мое детское сердце навсегда. Природа – вот мой дом, моя семья, мой дух. Впитываешь в себя этот воздух, небо, поле, реку Хопер, поляны земляники. В детстве я верила, что могу летать, просто не знаю как. Сейчас понимаю: впуская в себя эту целебную благодать, ты наполняешься изнутри, как воздушный шар, который поднимается ввысь.
Сенокос – дело серьезное. Благоуханный воздух лугов, солнце, мужики в высоких сапогах с косами, женщины в ситцевых платьях, косынки на голове, в руках грабли. Скошенная трава сразу разбивается, чтобы быстрее высохла и можно было копнить.
Мы, дети, устраивались в тенечке рядом с поляной душистой земляники. Все вместе, все при деле. Эта работа становилась праздником. Работали и пели. Отдыхали и шутили. Атмосфера любви и единства с самой жизнью. Оттого такая радость на душе.
Ехали обратно – снова пели. И песни эти – словно жизнь рассказанная – заслушаешься!
И до чего хорошо: вот так ехать и ехать, прижаться к деду и спросить:
– А сказку вечером расскажешь?
– Ты же большая уже! – ухмыляется дед.
– Ну, дедка, расскажи! – и жмусь еще ближе.
– Ну расскажу, – шепчет дед.
Это и есть детское счастье.
Мудрость народная
Одна из моих бабушек деревенских умела давать удивительно точные и меткие метафоры некоторым персонажам.
Вот, например, сидим летом у дома на завалинке, подходит и здоровается один местный житель, мужчина лет сорока. Полчаса рассказывает, как в деревне все неправильно устроено, как председатель не так руководит, доярки не так доят. А вот он точно знает, как все делать, только его не слушает никто. Стоит, заливает. Смотришь на него, слушаешь и думаешь: «Вот если сейчас свечение еще над головой его образуется – ну нимб такой своеобразный – не удивлюсь. Уж так все преподносит гладко да уверенно – видно, знает много». Ну поговорил, раскланялся и пошел себе дальше.
Спрашиваю бабушку: «А кто это, бабуль?»
Она так посмотрела ему вслед внимательно, повернулась ко мне и говорит: «Да хер с горы. Ходит весь день, мелет всем обо всем».
Помолчали… и пошли мы огородом заниматься.
И вроде бы всего два слова, а сразу образ нарисовался. Как-то сразу все понятно стало. Нет вопросов.
«Хер с горы» (по-деревенски, по-простому) – человек, не обладающий профессиональными компетенциями, но дающий экспертную оценку всему происходящему.
Отпустить меня не хочет родина моя
Я закрываю глаза и вижу ее… Чувствую, помню. Каждый раз, возвращаясь, я хочу только одного: вернуться туда снова.
Говорят, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку, а я все пытаюсь повернуть эту реку вспять. Но она течет дальше: восходами, закатами, покосившимися домиками, заросшим прудом, иссякшим колодцем.
Уже нет дома моего деревенского детства, у бабушек и дедушек. Сад зарос крапивой, стоит сиротливо подвал. Навстречу с громким радостным лаем не бегут мои Булька и Граф. Никто не придет жаловаться на Рыжика – за то, что он таскает соседских цыплят. Не мычит протяжно наш теленок на лугу. Все тихо, одиноко и пусто.
И я все возвращаюсь и возвращаюсь туда, где навсегда осталось мое сердце, где живет моя душа. Туда, где я – это луг, пруд и сад. Я – колодец, дорога, пшеница и поле. Я возвращаюсь в это место и называю его родиной. Ведь родина – это род, это родное. Моя деревня. Моя Репьевка. Моя судьба.
И каждый раз, уезжая, я говорю ей тихонько: «Я люблю тебя, благодарю и никогда не оставлю! Ведь ты и есть я. Одна судьба на двоих: ты и я».
Единство духа
Есть места, куда непременно хочется вернуться, чтобы наполняться их атмосферой вновь и вновь. Такие места именуют местами силы.
Я очень ждала, когда снова отправлюсь туда. Чувство плеча можно прочувствовать только со своими. Свои по духу и близкие по сути люди, мы пошли в поход по реке Сердобе, что в Пензенской области. Маршрут – удивительный: на пакрафтах сплавиться к усадьбе князя Куракина, потом Александровская церковь и Казанская Алексиево-Сергиевская пустынь, Сазанский пещерный монастырь. Пройти по этому маршруту – значит прикоснуться к истории нашей губернии и прочувствовать атмосферу духа человека.
Александр Куракин был первым губернским предводителем Санкт-Петербургского дворянства, в начале XIX века даже управлял Коллегией иностранных дел. Кутила, известный своей слабостью к нарядам и драгоценностям, за что его справедливо прозвали князем бриллиантовым. Слыл эпикурейцем, был замечен в симпатии к масонам.
А вот путь другого человека. Старец, иерей Андрей Грузинцев – один из основателей пещерного монастыря, мещанин. По сохранившимся свидетельствам очевидцев, обладал также даром прозорливости – словом лечил людей.
Два человека – два пути. У каждого свои испытания, искушения и поиск себя. Оба собирали драгоценности: один – материальные, другой – духовные.
Каждому свое.
И когда прикасаешься к пути другого, задумываешься: «А как живу я? Как про меня скажут, что будут думать?» Попробуйте прочувствовать, поискать этот ответ внутри. Представьте: вашу жизнь кто-то подсветил и видит, как вы шли свою дорогу жизни. Попробуйте найти слова, чтобы описать этот путь. Знаете, так ощущение себя становится четким и ясным: где туда идешь, а где – мимо.
Люблю такие моменты откровения – осознавание себя как некой частички жизни и жизней.
Я как-то очень глубоко прочувствовала: места твоей силы – это места, где ты ощущаешь себя частью большой души. Потому что в этот момент ты сам – душа.
Осознанная душа – это и есть духовность. Твоя наполненность и определяет жизнь. Так жизнь становится путем. Осмысленная жизнь – и есть путь. Идущие этот путь в первый раз – это и есть мы. Этого достаточно, чтобы быть собой. Этого достаточно, чтобы смочь быть вместе. Этого достаточно, чтобы по-настоящему быть.
Я улыбалась душой на реке и плакала душой в монастыре. Наверное, так бывает, когда прикасаешься к истине. Переживание истины жизни впечатляет и наполняет.
Утром следующего дня я пила кофе с просвиркой (просфорой) из Сазанья, вспоминала наше мини-путешествие, и так было тепло на душе. «Просфора» в переводе с греческого означает «приношение». По сути, это хлебец из пшеничной муки, дрожжей, святой воды и соли. Она символизирует соединение человеческой и Божественной сущности в Иисусе Христе.
Возвращение домой
Именно так переводится «ностальгия». В былые времена ностальгию считали чуть ли не психическим заболеванием. Видимо, это было то время, когда вообще за любые знания можно было и на костер случайно угодить.
Я люблю свою ностальгию. Она теплая, тихая, нежная. С ароматом скошенного сена, тысячелистника и леса. Моя ностальгия – это поля, дубравы, сады. Это бабушки в платочках и ситцевых платьях. Это дедушки на тракторах, комбайнах. Они пахнут соляркой и бензином, все в пыли.
Ностальгия – это возвращение домой, на родину, к роду. Это компас, что указывает путь к себе. Ностальгия – это то, что не даст тебе сбиться с пути.
Это то, что мы называем душой.
Ностальгия полезна. Бывает, она немного про слезы, тоску. Ну так она же живая, она – про жизнь.
Ностальгия указывает, где ты настоящий. А где ты настоящий – там и истина.
Однажды я это усвоила и приняла: где истина – там любовь; где любовь – там смысл самой жизни.
Как в точку сказано: «Ты – есть то, что ты любишь».
Добавлю: «Любишь и помнишь».
Вчера пришла мысль: я приезжаю в деревни, чтобы посмотреть на бабушек в платочках. Я приезжаю, чтобы помнить.
Тоска по детству
Снится: приехала я в деревню, иду знакомыми тропами на пруд.
Он остался прежним. На нем люди, моя бабушка. Она следит за малышом, который плещется у берега.
Зову ее: «Бабаня, я пришла! Обрадуйся мне как раньше, скажи: „Наконец-то ты приехала!“». Бабушка, лишь мельком взглянув на меня, снова тепло смотрит на ребенка у пруда. Я как-то понимаю: она находится уже в другой истории. В истории, куда я заглянула глазами прошлого. Молчу, смотрю, осознаю.
Слезы предательски выдают тоску по детству.
Весна. Вдруг налетает снежный ураган. Через считанные минуты стих и – исчез. Как будто и не было его вовсе. А весна осталась: яркое солнце, ручьи и птичьи трели. И память о самом дорогом. И любимая песня одной из бабушек: «На окошке два цветочка: голубой да синенький. Никто любви нашей не знает, только я да миленький».
Так, путешествуя по жизни, мы набираемся душевного опыта, которым потом становимся сами. Мы являем эту атмосферу в мир и наполняем его собой. Мы – есть чувства.
Отражение души
Заброшенные дома… В детстве они казались нам волшебными.
В деревне, где я гостила на каникулах, залезть в такой дом было обязательным пунктом летнего отдыха – путешествием, которое, правда, часто заканчивалось происшествиями.
Там вызывали пиковую даму, а потом с воплем «Бегите!» улепетывали со всех ног, чтобы та не утащила к себе в Зазеркалье. В старых одиноких домах можно было даже столкнуться с привидением. Замереть и до-о-олго так стоять, боясь пошевелиться.
Я любила подолгу рассматривать найденные там вещи и пытаться представить, как выглядели их обладатель и жизнь, которая когда-то звучала и ощущалась в этом доме. Я помню, как сильно хотела понять, ну как это так: вот была же здесь жизнь, кто-то кого-то любил, ждал, переживал, а сейчас этот дом стоит один, словно ничего такого никогда и не было?.. Теперь для нас, ребятишек, это всего лишь старый заброшенный дом, но ведь раньше для кого-то он составлял целую жизнь! Мне было тогда лет восемь-девять. Я выросла, но до сих пор останавливаюсь у заброшенного дома, вглядываюсь в него, вслушиваюсь…
Мне всегда была интересна душа, ее тайны и путь. И дом – это отражение чьей-то души. Стою, смотрю и думаю: «Вот дом… Он совершенно пустой, здесь никого нет…» А душа моя шепчет: «Ну как нет? Ты же видишь здесь душу! Только невидимым зрением, глазами души. Сострадаешь ей, узнаешь, наполняешься чувствами». Странными, противоречивыми чувствами… Какая-то вселенская грусть и одновременно свет, внутренний.
Если бы меня спросили, как выглядит душа, я бы ответила: «Она словно планета, летящая с бешеной скоростью в бесконечном холодном космосе. Но она согревает себя изнутри, потому излучает свет. И ничего, кроме этого света, у нее по-настоящему и нет. Этот свет для нее – ее все. И чтобы он был, она любит и ищет своих».
Так случаются земные истории. Так дома становятся живыми.
Так душа гостит на Земле.
Стоит только представить, что когда-то придется прощаться с теми, кого ты любил, согревал – и вот стоит этот дом… В нем нет никого, а душа все равно видна.
Мы расстаемся с людьми, но навсегда останемся связаны с ними душой.
Такая большая общая душа. Я ее так хорошо чувствую…
Ностальгия
Приготовила сегодня душистую уху и вспоминаю, как в детстве родители, когда приезжали в деревню, готовили уху. Традиция была такая. Мужчины шли на пруд и бреднем ловили рыбу. Потом прямо в саду варили уху, споря, сколько водки туда добавлять для остроты и вкуса. Там же, в саду, натягивали брезентовую палатку, и любители в ней ночевали.
А еще в жару ночевали на сеновале. Это особое, незабываемое впечатление, а аромат сена – что-то неописуемое. Лежишь ночью, прислушиваешься к звукам, шорохам… Если не могла заснуть, я тихонько вылезала на крышу и смотрела на небо, усыпанное звездами. Ни разу, правда, не удалось загадать желание на падающую звезду – слишком стремительно они летят вниз.
А еще хорошо помню радугу в полях. Я всегда ей так радовалась! В детстве казалось, что она меня слышит и все понимает. Хотя я и сейчас так думаю…
Сегодня – радуга и уха из сома. И воспоминания. И ностальгия.
Ностальгия по детству.
Ощущение мира
В детстве, когда я гостила в деревне, моим любимым занятием было вот что. Я одна уходила за деревню – туда, где начинался луг, раскидывала широко руки, закрывала глаза и… долго шла по высокой ласковой траве, представляя, что все это – мое. Это чувство свободы наполняло меня счастьем, и иногда казалось, что еще чуть-чуть, и я могу взлететь. Цветы пижмы, полынь, ромашки, васильки, клевер, цикорий, иногда одиноко стоящие яблони, поляны полевых ягод, душистых и вкусных – я никогда не чувствовала себя в детстве одинокой. Я ощущала свободу, и это давало крепкую связь с природой. Я была своя, ребенок природы. Я это хорошо помню каждой клеточкой своей души.




