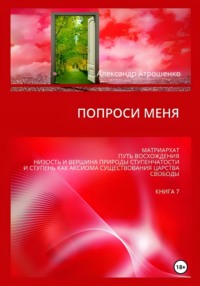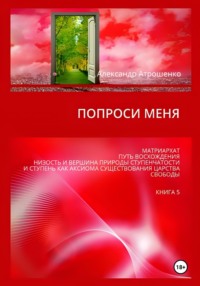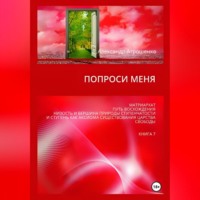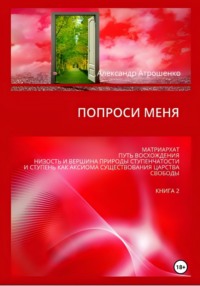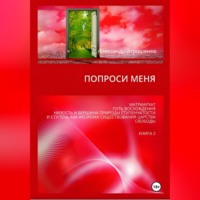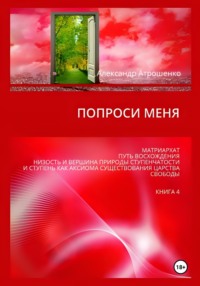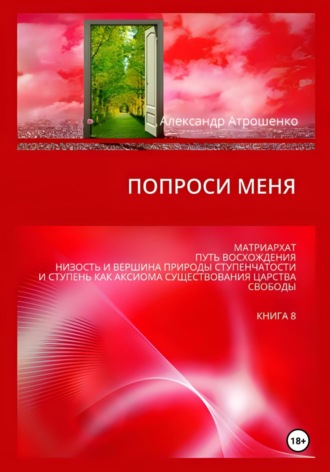
Полная версия
Попроси меня. Т. VIII
Корнилов ведет Вас сюда, чтобы направить Ваши, ружья против народа, против революции, против завоеванной народом свободы.
Он, Корнилов, хочет пролить братскую кровь. Он Корнилов, хочет низвергнуть революционное правительство. Он, Корнилов, задумал арестовать любимаго вождя армии Керенскаго. Он, Корнилов, хочет черной изменой захватить власть в свои руки, чтобы погубить революцию, чтобы отнять от народа и волю и землю.
Страшитесь братья, поднять междоусобную борьбу в эти черные дни. Не поддавайтесь обольщениям Корнилова коварнаго изменника и родины и свободы. Он взял Вас с фронта, он поднял знамя братоубийственной войны, не побоится он открыть и фронт германским армиям. Он хочет захватить Петроград – сердце революции, погубить свободу, отдать власть врагам народа, а потом расправится и с Вами…»199
ВЦИК создал чрезвычайный орган – Комитет народной борьбы с контрреволюцией, то есть с военной диктатурой Корнилова. Однако действенность Комитета могла быть реальной лишь при участии в его работе большевиков, за которыми шли наиболее радикально настроенные рабочие и солдаты. Воспользовавшись нуждами ВЦИКа большевики, в резолюции заседания ЦК, потребовали 30 августа «повсюду провести кампанию митингов с вынесением резолюций, с требованием освобождения арестованных в связи с событиями 3-5 июля и возвращением на свои посты преследуемых вождей рабочего класса – Ленина, Зиновьева и др.»200 В директивной телеграмме большевистского ЦК местным партийным организациям предписывалось: «Во имя отражения контрреволюции работаем в техническом и информационном сотрудничестве с Советом при полной самостоятельности политической линии»201.
Не дойдя до Петрограда, корниловские войска, в которые были засланы агитаторы, фактически стали недееспособными. 31 августа, осознав безвыходность положения, генерал Крымов покончил собой. 1 сентября в Ставке генерал М.Н. Алексеев по приказу Керенского арестовал Корнилова.
За участие в корниловском мятеже атаман, генерал А.М. Каледин был уволен в отставку. Однако как свидетельствует, вновь прибывший в Россию в августе 1917 г., Д. Рид, выбранный Кругом, «он наотрез отказался покинуть свой пост и засел в Новочеркасске, окруженный тремя огромными казачьими армиями, составлял заговоры и грозил выступлением. Сила его была так велика, что правительству пришлось смотреть на его неподчинение сквозь пальцы. Мало того, оно было вынуждено формально признать Совет союза казачьих войск и объявить вновь образованную казачью секцию Советов незаконной1… На Дону образовалось нечто вроде казачьей республики. Кубань объявила себя независимым казачьим государством. В Ростове-на-Дону и в Екатеринославе вооруженные казаки разогнали Советы, а в Харькове разгромили помещение профессионального союза горняков2»202.
Несмотря на то, что Временное правительство отстаивало революционные завоевания, несмотря на все данные его гражданские свободы, общий настрой масс по отношению к нему переходил от изначального мартовского возбужденно-радостного во все более консервативно-недоверчивый. Стараниями большевиков он уже воспринимается не только как приемник, но уже был представителем старого режима, неумелого, неправильного, похожего на царский метод управления государством. История с Корниловским выступлением еще больше пошатнуло его авторитет. В народе даже ходили толки о негативной возможности восстановления монархии. Чтобы поднять свою репутацию 1 сентября правительство образовало «Директорию» – коллегию из пяти министров Временного правительства во главе с премьер-министром А.Ф. Керенским.
Директория составила постановление о форме манифеста, опубликованного 3 сентября 1917 г.:
«Мятеж Генерала Корнилова подавлен. Но велика смута, внесенная им в ряды армии и страны. И снова велика опасность, угрожающая судьбе родины и ее свободе.
Считая нужным положить предел внешней неопределенности государственного строя, памятуя единодушное и восторженное признание республиканской идеи, которое сказалось на Московском Государственном Совещании, Временное Правительство объявляет, что государственный порядок, которым управляется Российское государство, есть порядок республиканский и провозглашает Российскую Республику»203.
Однако все эти римо-французские шаги на популярность Временного правительства, в демонстрации, когда была «провозглашена Республика, чтобы показать, что революция пришла надолго»204, в мировоззрении масс людей мало что меняло, оно упало до уровня представителя старого режима.
Авторитет большевиков в народе резко возрос. По свидетельству Ф.Ф. Раскольникова, «слово "большевик", которое после июльских дней стало ругательством, теперь превратилось в синоним честного революционера, единственного надежного друга рабочих и крестьян»205 – мистическую, духовно пьяную страну, шатало из крайности в крайность. Процент голосовавших за большевиков на выборах в сентябре в Думы ряда городов была намного выше, чем за других представителей партий. В сентябре месяце обстановка в стране становилась все более хаотичной. Цены росли со скоростью гиперинфляции (втрое повысились в период с июля по октябрь), нехватка товаров первой необходимости, неразбериха в управлении. Правительством были пущены в оборот новые денежные знаки, достоинством 20 и 40 рублей («керенки»), но инфляция обесценивала любые заработанные деньги. Появились признаки приближающегося голода, росла безработица. Попытки правительства ввести монополию на хлеб, твердые цены на важнейшие продукты, нормировать снабжение (за счет карточек) не давали желаемого результата. В то же время с марта по октябрь 2 млн солдат не желая воевать, деморализованные большевиками, дезертировали из армии. Апогей дезертирства был достигнут в августе – несколько тысяч за один день. Солдаты бежали к себе домой, в села, чтобы не пропустить, никому не доверяя, дележку земли бывших помещиков. Другие дезертиры собрались в банды, грабили магазины и терроризировали население.
Д. Рид описывает события этих дней в книге «10 дней, которые потрясли мир»:
«Старая Россия быстро разваливалась. На Украине и в Финляндии, в Польше и в Белоруссии усиливалось все более открытое националистическое движение. Местные органы власти, руководимые имущими классами, стремились к автономии и отказывались подчиняться распоряжениям из Петрограда. В Гельсингфорсе финляндский сейм отказался брать у Временного правительства деньги, объявил Финляндию автономной и потребовал вывода русских войск. Буржуазная рада в Киеве до такой степени раздвинула границы Украины, что они включили в себя богатейшие земледельческие области Южной России, вплоть до самого Урала, и приступила к формированию национальной армии. Глава рады Винниченко поговаривал о сепаратном мире с Германией, и Временное правительство ничего не могло поделать с ним. Сибирь и Кавказ требовали для себя отдельных учредительных собраний. Во всех этих областях уже начиналась ожесточенная борьба между властями и Советами рабочих и солдатских депутатов.
Хаос увеличивался со дня на день. Сотни и тысячи солдат дезертировали с фронта и стали двигаться по стране огромными, беспорядочными волнами. В Тамбовской и Тверской губерниях крестьяне, уставшие ждать земли, доведенные до отчаяния репрессивными мерами правительства, жгли усадьбы и убивали помещиков. Громадные стачки и локауты сотрясали Москву, Одессу и Донецкий угольный бассейн. Транспорт был парализован, армия голодала, крупные городские центры остались без хлеба….
Правительство, раздираемое борьбой демократическими и реакционными партиями, ничего не могло сделать. Когда оно все-таки оказывалось вынужденным что-то предпринять, его действия неизменно отвечали интересам имущих классов»206.
Казалось, власть бездействовала, показывая свою несостоятельность и недееспособность. Вследствие недовольства масс, с новой силой развернулось рабочее движение. Число забастовок перевалило за миллион. Экономические требования рабочих перерастали в политические. Все это играло на руку большевикам, которые не упускали возможности обещать быстрый мир, землю – крестьянам, фабрики – рабочим.
В 1920 г. в Париже А.Ф. Керенский сказал следователю А.Н. Соколову (ведущей дело об убийстве царской семьи), по поводу большевиков и их связей с немцами следующее: «Роль Ленина, как человека, связанного в июле и октябре 1917 года с немцами, их планами и деньгами не подлежит никакому сомнению. Но я должен также признать, что он не агент их в "вульгарном" смысле – он имеет свои цели, отрицая в то же время всякое значение морали в вопросе о средствах, ведущих его к этой цели». Большевистские руководители всеми способами раскачивали ситуацию в стране, «работали одновременно и на фронте и в тылу, координируя свои действия. Обратите внимание на фронте наступление (Тарнополь), в тылу – восстание. Я сам тогда был на фронте, был в этом наступлении. Вот что тогда было обнаружено. В Вильне немецкий штаб издавал тогда для наших солдат большевистские газеты на русском языке и распространял их по фронту. Во время наступления, приблизительно, 2-4 июля в газете "Товарищ", изданной в Вильне немцами и вышедшей, приблизительно, в конце июня, сообщалось, как уже случившиеся, факты о выступлении большевиков в Петрограде (первое выступление Ленина), которые случилось позднее. Так немцы в согласии с большевиками и через них воевали с Россией»207.
Думское межпартийное сотрудничество разваливалось на глазах, все больше превращалось в открытое противостояние двух политических лагерей – умеренного (кадеты, правые эсеры, меньшевики) и ультрарадикального (большевики, левые эсеры, анархисты).
14-22 сентября в Петрограде проходило второе Всероссийское демократическое совещание, которое должно было подвести «новые опоры» под шатающуюся власть Временного правительства, удержать революцию в рамках либеральной демократии. На совещании эсеры располагали 532 голосами, меньшевики – 172, большевики – 136, народные социалисты* – 55 и беспартийные – 17. Центральным оказался вопрос характера государственной власти. Чтобы удержать страну от угрозы гражданской смуты, большинство членов выступило за коалицию. По предложению меньшевика И. Церетели 20 сентября был сформирован Всероссийский демократический совет (Предпарламент), перед которым, до созыва Учредительного собрания, должно было нести ответственность Временное правительство. (Государственная дума формально просуществует до 6 октября 1917 г., когда после 5-летней деятельности, будет распущена Временным правительством). В Предпарламент вошло 555 членов – 135 эсеров, 92 меньшевика, 30 народных социалистов*, 75 кадетов, 58 большевиков.
На создание Временного Совета правительство отреагировало негативно, резко ограничив его права и функции. Подчеркивая совещательный характер деятельности Временного Совета, пределы его ведения устанавливались как «обсуждение законодательных предположений, по коим Временное правительство признает необходимость иметь заключение Совета», то есть Совет должен нести чисто совещательные функции, «а равно подготовительная работа законодательных вопросов, возникавших по собственной инициативе Совета»208.
25 сентября А.Ф. Керенский сформировал третье (последнее) коалиционное Временное правительство. Как и ожидалось, большинство в нем принадлежало социалистическим* партиям, но которые теперь, по словам В.М. Чернова, избегали «судить А.Ф. Керенскаго крупными величинами. Ея лидеры и ближайшие "лидеро-способные" остаются "в резерве". Посылают деятелей третьего и четвертого разряда», усиливая тем «все слабыя стороны коалиции, с ея пестротой, несогласованностью, взаимоотчужденностью, без ея сильных сторон»209. Лидеры же кадетов заняли позицию «обиженных» критиков, упрекая Керенского в «непостоянстве», пребывании «в плену у своих бездарных друзей, у своего прошлого»210 (В.Д. Набоков).
Интересный штрих новой власти (если так можно сказать) демонстрирует факт присутствия у нее наглядного символа свастики, которая была изображена на некоторых денежных купюрах Временного правительства, – в России меняется только внешнее, внутреннее не меняется со времен откровенного поклонения богу Ому.
Оценив, в это время, положение вещей, Ленин понял, что момент для переворота подходящий, в глазах народа власть упала на низшую отметку и в то же время власть связана нуждами войны, из конспиративного места в Выборге стал критиковать осторожных членов партии, намеренных решать вопрос о власти вместе с Советами на съезде, прекрасно понимая, что съезд Советов во главе с «обуржуазившимся» ЦИКом никогда не поддержит его взгляды. В директивных письмах, направленных Лениным в середине сентября 1917 г. ЦК, Петроградскому и Московскому комитетам РСПДРП(б) он писал: «Получив большинство в обоих столичных Советах Рабочих и Солдатских Депутатов, большевики могут и должны взять государственную власть в свои руки. / Могут, ибо активное большинство революционных элементов народа обеих столиц достаточно, чтобы увлечь массы, победить сопротивление противника, разбить его, завоевать власть и удержать ее»211. В эти сентябрьские дни Ленин пишет свою программу привидения общества к т. н. «золотому веку» в работе «Грядущая катастрофа и как с ней бороться»: «социализм теперь смотрит на нас через все окна современного капитализма, социализм вырисовывается непосредственно, практически, из каждой крупной меры, составляющей шаг вперед на базе этого новейшего капитализма… Всеобщая трудовая повинность… это еще не социализм, но это уже не капитализм. Это – громадный шаг к социализму…»212
15 сентября ЦК партии большевиков отверг ленинскую идею вооруженного восстания. Л. Каменев и Н. Зиновьев, высказывая сомнения в степени популярности партии в народе, возлагали надежды на Демократическое совещание, создание блока из меньшевиков, эсеров и большевиков для проведения коренных реформ.
Тем временем изменился состав президиума Исполкома Петроградского совета в пользу большевиков. Пост его председателя, 25 сентября, занял Троцкий, который сразу повернул Петросовет на путь конфронтации с коалиционным Временным правительством и ВЦИК Советов. Троцкий придерживается такой точки зрения, что власть можно взять не посредством рискованного вооруженного восстания, а через II Всероссийский съезд Советов. Он предположил, что к его созыву, 20 сентября, новое Временное правительство снова обанкротится и те, кто поддерживал эсеров и меньшевиков от них отойдут и поддержат лозунг «Вся власть Советам!» Так должно было создаваться впечатление легитимной формы перехода власти Советам со сформированием в ней пробольшевистского правительства. Это направление выглядело менее рискованным, чем ленинское вооруженное восстание с возможной последующей народной смутой. (Эти факты показывают на глубокое непонимание членов ЦК, и Троцкого в том числе, на смысл стремления Ленина к вооруженному восстанию). А самое главное большую роль здесь должен был сыграть Троцкий (стачки и т. п.), как председатель Петросовета, и, соответственно, бакалавр первого революционера достался бы ему, с последующим отсюда всего вытекающего.
Абсолютно другими глазами на все смотрел Ленин. Занятие Троцким поста председателя Петросовета явилось для вождя большевиков козырной картой. Революция теперь становилась делом времени, ближайшего времени. Не желая упускать такой ценный момент, Ленин спешит в Россию, в Петроград, но перед этим пишет своим товарищам письма, настраивая их на боевой дух: «История не простит нам, если мы не возьмем власти теперь. / Нет аппарата? Аппарат есть: Советы и демократические организации…»213
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Керенский А.Ф. Потерянная Россия. Сост., вступ. ст., примеч. Т.Ф. Прокопова. Москва, ПРОЗАиК, 2014, стр. 244.
2
Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР 1950-е – 1980-е. В 3 т. Т. 1. Книга 1. До 1966 года. Под общ. ред. В.В. Игрунова. Состав. М.Ш. Барбакадзе. Москва, Междунар. инстит. гуман.-полит. исслед., 2005, стр. 306.
3
Пасманик Д.С. Революционные годы в Крыму. (Приложение: Письмо И.И. Петрункевича о русской интеллигенции). Paris : Société anonyme imprimerie de Navarre, 1926, стр. 37-38.
«Что социализм означает не только конфискацию земли, но и полное уничтожение всякой частной собственности, что социализм, основанный на борьбе классов, очень далек от гуманности, а должен обязательно привести к жестокой, кровопролитной гражданской войн – всего этого наши мягкотелые социалисты из буржуев никак не хотели уразуметь» (стр. 38).
Требуется пояснение. Здесь автор со всей очевидностью отражает мышление большинства людей того (и настоящего) времени в совмещении понятий социализма и коммунизма, когда в действительности они отторгают друг друга. Это коммунизм подразумевает уничтожение частной собственности, социализм же не против любой формы владения, лишь бы это не нарушало принципы милосердия и творчества.
4
Церетели И.Г. Кризис власти. Воспоминания лидера меньшевиков, депутата II Государственной думы. 1917-1918. Москва, Центрполиграф, 2007, стр. 67.
5
Милюков П.Н. Воспоминания. Москва, Политическая литература, 1991, стр. 458.
6
Набоков В.Д. Временное правительство. Москва, Мир, 1923, стр. 55.
7
Кржижановский Г.М. Сочинения. Том III. Социалистическое строительство. Москва, Политиздат, 1968, стр. 48.
Примечательно продолжение: «А когда я его впервые встретил молодым 23-летним человеком, это был еще неотграненный и недостаточно обделанный, но уже вполне отчетливо обрисовывающийся, тот тип человека-монолита, которому суждено было в дальнейшем перед всем миром выявить необычайную силу этой своей внутренней мощной целостности» (С. 48-49; межзнаковый интервал оригинального текста). Как говориться, никто за язык не тянул, представляя Ленина в образе монолитной целостности, иначе говоря, твердолобым истуканом.
8
Няня – Сарбатова Варвара Григорьевна, почти 20 лет прожила в семье Ульяновых и скончалась в возрасте 70 лет.
9
Ульянова А.И. Детские и школьные годы Ильича. Москва, Детгиз, 1935, стр. 6.
10
Там же, стр. 6.
11
Там же, стр. 8.
12
Там же, стр. 8.
13
Там же, стр. 9.
14
Там же, стр. 9.
15
Там же, стр. 10.
16
Ульянова-Елизарова А.И. О В.И. Ленине и семье Ульяновых : Воспоминания, очерки, письма, статьи. Предисл. А.М. Совокина. Москва, Политиздат, 1988, стр. 32.
17
Ульянова А.И. Детские и школьные годы Ильича. Москва, Детгиз, 1935, стр. 18-20.
18
Веретенников Н.И. Володя Ульянов : Воспоминания о детских и юношеских годах В.И. Ленина в Кукушкине. Москва, Госиздат Детской Литературы, 1955, стр. 16.
19
Красная новь. 1938. № 5. Май. Москва. Детство и отрочество В.И. Ленина. (Воспоминания). Детские годы Владимира Ильича. Дм. Ульянов. С. 143.
20
Там же, стр. 145.
21
Он страдал головными болями. В духовном аспекте это могло быть последствием «единства противоположностей» – быть христианином, его отрицая. По материнской линии к калмыко-буддийской традиции. А в православия достаточно лишь числиться христианином.
22
Ульянова М.И. М.И. Ульянова о Ленине. Москва, Политическая лит., 1969, стр. 13.
23
Чернышевский Н.Г. Что делать? Ленинград, Наука, 1975, стр. 1 – 306, 2 – 307, 3 – 310, 4 – 310, 5 – 233.
24
Валентинов Н.В. Встречи с Лениным. Coptyright 1953 by Chekhov Publishing House of the East European Fund, Inc. New York, Chalidze, 1981. С. 102-103.
25
Там же, стр. 107.
26
Крылов И.А. Басни. Подготовил А.П. Могилянский. Москва – Ленинград, Акад. наук СССР, 1956, стр. 99.
27
РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 4. Д. 4. Л. 1–1 об. Подлинник.
28
Валентинов Н.В. Встречи с Лениным. Coptyright 1953 by Chekhov Publishing House of the East European Fund, Inc. New York, Chalidze, 1981. С. 108.
29
Валентинов Н.В. Малознакомый Ленин. СПб, «Мансарда», «Смарт», 1991, стр. 10.
30
Крупская Н.К. Воспоминания о Ленине. Части I и II. Москва, Партиздат, 1933, стр. 1 – 29, 2 – 35.
31
Там же, стр. 31.
32
Воспоминания о В.И. Ленине. В 5 т. Издание 2. Том 1. Воспоминания родных. Редкол.: Г.Н. Голикова и др. Москва, Политиздат, 1979, стр. 598.
33
Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 6. Январь – август 1902. Издание 5. Москва, Политиздат, 1963, стр. 73.
34
Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 33. Государство и революция. Издание 5. Москва, Политиздат, 1969, стр. 34.
35
Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 12. Октябрь 1905 – апрель 1906. Издание 5. Москва, Политиздат, 1968, стр. 143.
36
Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 6. Январь – август 1902. Издание 5. Москва, Политиздат, 1963, стр. 119.
37
Там же, стр. 119-120.
38
Там же, стр. 141.
39
Второй Съезд РСДРП. Июль-август 1903 года. Протоколы. Москва, Политиздат, 1959, стр. 421.
40
Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 41. Май-ноябрь 1920. Издание 5. Москва, Политиздат, 1981, стр. 6.
41
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Издание 2. Т. 13. Москва, Госполитиздат, 1959, стр. 7.
Другими словами, Маркс говорит – не человек творец своего мира, но мир производит человека исходя из собственных возможностей приспособления. Еще более просто – не человек красит место, но место красит человека.
42
Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 6. Январь – август 1902. Издание 5. Москва, Политиздат, 1963, стр. 30.
«История всех стран свидетельствует, что исключительно своими собственными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание тред-юнионистское, т. е. убеждение в необходимости объединяться в союзы, вести борьбу с хозяевами, добиваться от правительства издания тех или иных необходимых для рабочих законов и т. п. Учение же социализма выросло из тех философских, исторических, экономических теорий, которые разрабатывались образованными представителями имущих классов, интеллигенцией» (С. 30).
43
Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 9. Июль 1904 – март 1905. Издание 5. Москва, Политиздат, 1967, стр. 236.
44
Троцкий Л.Д. Наши политические задачи. (Тактические и организационные вопросы). Женева, тип. Партии, 1904, стр. 54.
45
Л.О. Бланки, 1805-1881, французский коммунист-утопист, атеист, участник революции 1810 и 1849 гг. В 30-х гг. руководил тайными республиканскими обществами. Был посажен в тюрьму, заочно избран членом Парижской коммуны 1871 г., успех социальной* революции видел в заговоре организаций революционеров.
«Высшие классы только и ждут момента, чтобы поднять белое знамя. В среднем классе большинство, состоящее из людей, у которых нет другой отчизны, кроме прилавка или кассы, и которые с легким сердцем сделаются русскими, пруссаками, англичанами для того, чтобы заработать на два гроша больше на куске полотна или получить на четверть процента больше прибыли, – это большинство наверняка встанет под белое знамя; одно лишь упоминание о войне или народном суверенитете заставляет его дрожать. Меньшинство этого класса, состоящее из интеллигенции и небольшого числа буржуа, которые любят трехцветное знамя, символ независимости и свободы Франции, примет участие в борьбе за суверенитет народа» (Бланки Л.О. Избранные произведения. Под ред. В.П. Волгина. Москва, Акад. наук СССР, 1952, стр. 100).