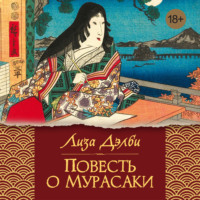Полная версия
Повесть о Мурасаки
Пока я наблюдала за воскресшей струей дыма, взошло солнце и наступило утро. Вокруг нас в тесных повозках зашевелились и начали потягиваться люди; эти звуки отвлекли мое внимание, и столб дыма заколебался. Перепугавшись, я вновь направила всю силу воли на дым. «Останься!» – мысленно приказала я ему. Раз костер курится, значит, матушка еще не покинула этот мир. Врата Западного рая распахнулись, и, может быть, сам будда Амида уже наклонился, чтобы вознести ее душу к своему великолепному лотосовому трону – но она еще здесь! От напряжения я ощутила головокружение, а потом страх. Из горла так и рвался крик: «Это выше моих сил! Я больше не могу удерживать тебя!» Мне захотелось, чтобы дым рассеялся прямо сейчас, но сам, не по моей воле.
И дым рассеялся. Матушка перестала быть моей матерью, она превратилась в нечто иное. Я тихонько выдохнула и на несколько минут сосредоточилась на том, как воздух входит мне в легкие и выходит оттуда.
Болотистая равнина, где совершалось сожжение тел, представляла собой сырое, чадное, неизбывно печальное место. Огонь в погребальных кострах поддерживали некие чумазые лохматые существа в рваных обносках. Они лишь отчасти походили на людей. Помню, я удивилась, обнаружив, что у них есть семьи. Вокруг, пугливые, точно лисята, рыскали их дети, и мне показалось, что за крытой тростником хижиной мелькнула какая‑то женщина. Мужчины, во всяком случае, умели говорить на нашем языке: я заметила, как один из наших чиновников дал служителю указания и вручил какой‑то сверток. Но разобрать, о чем они говорят друг с другом, я не могла. На обратном пути в город отец подтвердил, что они и впрямь люди, но отверженные. «Эти изгои зарабатывают на жизнь, возясь с мертвецами, – сказал он. – Кто‑то ведь должен сооружать огромные погребальные костры, которые освобождают души усопших».
Быть преданным огню после смерти – это привилегия. Простолюдинов просто сбрасывают в болота, где те разлагаются, спотыкаясь и падая на своем кармическом пути. Меня поразило существование подобного образа жизни, низводящего человека до уровня животного, и потому я не была изумлена, когда услышала, что именно эти создания дубят шкуры, выделывая из них кожи.
Отец настаивал, чтобы я сочинила стихотворение в память о матери, но, к моему стыду, у меня ничего не получилось. Переживания не порождали в голове никаких образов. Брата извинял слишком малый для стихосложения возраст, а старшая сестра считалась недалекой. В результате ни один из детей не оправдал надежд отца.
Впрочем, я решила завести дневник, ибо поняла, что могу оказывать воздействие на окружающие явления – пусть даже всего лишь на струю дыма. Но даже это заслуживало внимания. Я будто вмиг очнулась от тревожного сна, обретя способность концентрировать волю и некоторым образом влиять на окружающий мир. Казалось необычайно важным сохранить ощущение собственной силы, секрет которой таился в словах.

Весной следующего года мы переехали из бабушкиного дома в официальную отцовскую резиденцию близ западного берега реки Камо. Отец начал обучать моего брата Нобунори китайской классической словесности. Нобу исполнилось десять лет, но отец уже думал о грядущей церемонии совершеннолетия. Мысль о том, что брат пострижет волосы и наденет мужские шаровары, смешила меня, но отец проявил благоразумие, рассудив, что его отпрыску потребуется несколько лет на освоение текстов, необходимых для обряда. Брат был недурен собой, но, к глубокой досаде отца, малосообразителен.
Нобу ежеутренне заставляли корпеть над китайским. Я обнаружила, что без усилий заучиваю наизусть все уроки брата, просто слушая монотонную долбежку, доносившуюся из его комнаты. Стоило мне разок взглянуть на текст, как китайские иероглифы сами собой отпечатывались в голове, и я, сев за письменный стол, безо всякого труда воспроизводила их на бумаге. А поскольку грамота давалась мне легко, Нобунори стал меня раздражать. Он был не в состоянии не то что понять, а хотя бы запомнить правила, которым его учили. Однажды я нашла брата в саду: он бубнил себе под нос урок, одновременно ища под листьями ириса жуков-оленей. Каждый раз, когда Нобу запинался, я скрежетала зубами. И наконец, не выдержав, вслух отчеканила трудный отрывок. Нобу поднял на меня глаза, и его чумазую физиономию исказила пренеприятная гримаса.
– Так нечестно! – вспылил он. – Я пожалуюсь отцу.
– Таково уж мое везение, – вздохнул отец. – Как жаль, что моя дочь не родилась мальчиком. Похоже, именно она унаследовала семейные дарования. – Но, заметив, что я слышала его реплику, быстро добавил: – Вопреки расхожему мнению, девочка, родившаяся в ученой семье, – вовсе не беда…
И отец возложил задачу обучения Нобунори китайскому языку на меня. Благодаря этому я получила основательное образование по части классической словесности.

В начале пятого месяца в преддверии празднества Поднесения аира мы с Нобу отправились собиратьаямэ[7]. Домой мы с братом вернулись с пучком пахучих листьев для приготовления ароматических шариков и несколькими корневищами для состязания, которое отец устраивал для своих ученых друзей. Он осмотрел длинные бледно-желтые корневища с розоватыми лиственными розетками и густой порослью тонких корней. Мы с Нобу очень радовались, когда наткнулись на корневище длиной почти в шесть ладоней. Отец одобрил нашу находку: длинные корневища предвещают долгую жизнь. В моем детстве аир уже стали выращивать на продажу и в преддверии пятого месяца привозили его в город.
– Прежде бывало куда занятнее, – посетовал отец. – Что толку сравнивать, чьи корневища длиннее, когда стоит лишь выйти на улицу, чтобы тут же купить аир. Впрочем, у лоточников можно отыскать невероятно длинные экземпляры, какие нам самим на болотах ни разу не попадались. Посмотрим, что принесут другие.
Отца, происходившего из ученой семьи, воспитывали в строгости, требуя, чтобы основную часть времени он отдавал занятиям. Раз в год, перед самым началом затяжных дождей, вся семья выезжала в сельскую местность на сбор корневищ аира для состязания, проводившегося в столице. У нашей семьи имелось немного земли, и возделывавшие поля крестьяне отвели под аямэ участок на берегу ручья. Младшим детям разрешалось бродить по скользкому руслу, вытаскивая корневища из ила. Ребятишки возбужденно обшаривали дно в поисках лучших экземпляров, и тот, кто находил самый длинный, получал награду. Дети относили свою добычу в крестьянский дом, который по случаю визита хозяина, явившегося из столицы с особой целью, был убран цветами. Крестьяне смывали с корневищ ил и раскладывали их на досках.
Поэтические состязания были забавой придворных и ученых, а вот конкурсы на самую красивую картину, самую сладкоголосую певчую птицу, самый красивыйбонкэй[8]или самое длинное корневище аямэ нравились всем. Очевидно, для отца, который проводил детство среди книг, это была редкая возможность развлечься. Когда он рассказывал нам о соревновании, смакуя приятные воспоминания, нежно лелеемые на протяжении многих лет, глаза у него сияли от удовольствия.
В тот раз мы впервые делали из благоуханных листьев ароматические шарики без матушки. На карнизах дома мы развесили свежий аир, чтобы он уберег нас от нездоровых летних испарений.

К осени тайфуны один за другим пронеслись по земле свирепыми бурями. В восьмом месяце нам пришлось срочно покинуть наш дом, поскольку Камо вышла из берегов. Вся восточная, низменная часть Мияко[9] была затоплена. Отец позволил нам вернуться, лишь когда слуги выгребли из дома весь ил и речной мусор, однако сам возвратился еще до того, как вода ушла, чтобы попытаться спасти хоть что‑то из собрания драгоценных китайских книг. Стоя под яркими солнечными лучами в нашем жалком заиленном саду, я заметила у подножия каменного столба какую‑то грязную кучку. Я давно боялась спросить у слуг, не попадалась ли им после наводнения какая‑нибудь из наших кошек. Крепко зажмурившись, я сказала себе, что это всего лишь клубок речных водорослей, но когда вновь открыла глаза, то вместо травы увидела спутанную шерстку и оскал крошечных белых зубов. Пока я таращилась на трупик, из-за дома вышел садовник с еще одной кошкой, которая ожесточенно пыталась вырваться. Она неистово выла и царапалась, но мужчина как будто ничего не замечал. Он подхватил животное одной рукой и крепко прижимал к себе.
– Взгляни-ка, юная госпожа, – обратился садовник ко мне, растягивая толстые губы в широкой ухмылке, – кого я нашел на гранатовом дереве!
Пленница выкрутилась из-под его грязной смуглой руки, спрыгнула на слякотную землю и бросилась ко мне. Выяснилось, что это не кошка, а кот. Издали два наших белых китайских кота были неотличимы друг от друга. Я взяла питомца на руки, дивясь, как ему удалось остаться белоснежным, и указала садовнику на несчастное тельце у подножия столба:
– Вон там…
Помню, как стояла, ошарашенная горем и радостью, столь несовместными друг с другом.
Тифуру

Уже к первой годовщине смерти матери я научилась управляться с домашним хозяйством. Мы по-прежнему через день навещали бабушку, но в том, что касалось руководства прислугой и повседневных забот, отец полагался теперь на меня. Моей старшей сестре Такако это, разумеется, было не под силу: по умственному развитию она оставалась ребенком. Нобунори, при удачном стечении обстоятельств, впоследствии можно было пристроить при дворе, но пока что братец требовал неусыпного надзора. Мне было семнадцать, и хотя окружающие, без сомнения, задавались вопросом, когда же дочь Тамэтоки наконец выйдет замуж, я выбросила мысль о свадьбе из головы. Не то чтобы я не любила мужчин, просто уже несла на себе груз домашних обязанностей, и сердечные дела меня не занимали.
Начало осени, как обычно, выдалось жарким. Я убрала подальше белое летнее нижнее платье и носила сине-зеленую тонкую сорочку, но желанной прохлады не ощущала и едва могла заставить себя шевелиться. Ночами я принимала в саду лунные ванны, а днем спала дома, в полутемных внутренних покоях. Отец предупредил меня, что с лунным светом поглощается слишком многоинь (по его словам, эта сущность порождает меланхолию), но мне было все равно. Тогда он напомнил, что моя мать страдала от приступов уныния, однако от запретов воздержался, и я продолжала сидеть в саду по ночам. Я втайне подозревала, что отец считал, будто в моей натуре преобладает мужское начало ян и дополнительные дозы лунной субстанции помогут мне стать женственнее.
Поскольку седьмой месяц называют месяцем стихосложения, я решила сделать перерыв в освоении китайского языка и выучить наизусть весь «Кокинвакасю»[10], чтобы удивить бабушку. Она вечно корила меня за неподобающее для дамы пристрастие к китайской словесности и мягко, но настойчиво пыталась пробудить во мне интерес к вака[11]. И вот, погрузившись в сборник нашей родной классической поэзии, я с удивлением обнаружила: чем больше чужих вака я изучаю, тем легче мне сочинять собственные. Вскоре пятистишия начали естественным образом, почти безо всяких умственных усилий, складываться у меня в голове. Отныне каждое событие, каждое природное явление, каждое душевное переживание приводили к рождению вака. Иногда я даже записывала их.
Той знойной ранней осенью в столицу вернулась семья Тифуру и прожила у нас пять дней. Тифуру была годом старше меня. Детьми мы вместе играли, пока ее отцу не дали должность в провинции. Было странно встретиться спустя столько лет, но, может быть, именно поэтому мы очень быстро сблизились. Я запомнила подругу толстушкой, шустрой и шумной в противоположность мне, застенчивой тихоне. У нее были густые, как лошадиная грива, волосы, и в сырую погоду короткие жесткие пряди, обрамлявшие лицо, щетинисто топорщились. Теперь Тифуру превратилась в стройную красавицу, но и в этой восемнадцатилетней девушке я до сих пор могла разглядеть черты той маленькой непоседы, которая когда‑то водилась со мной и, будучи старше всего на год, была непререкаемой заправилой в любой игре.
У Тифуру во рту был лишний зуб. Он торчал из-под верхней губы, перекрывая резец. Когда она улыбнулась, я промолвила:
– Луна показалась из-за облаков.
Это была наша старая детская шутка. Я тотчас испугалась, что Тифуру рассердится, но та рассмеялась и закрыла лицо широким рукавом.
– Матушка говорит, что я всегда должна прятать рот. По крайней мере, сейчас луну затянули облака, – добавила она, имея в виду изысканное чернение на зубах. Я вдруг осознала, что у меня самой зубы безупречно белы.
Тифуру опустила рукав и принялась пристально разглядывать меня, будто ища во мне черты той семилетней малышки, которая беспрекословно подчинялась ей, восьмилетней, даже когда мы лежали под одеялом, которым вместе укрывались ночью. Мы придумали друг другу прозвища. Я звала ее Обородзукиё, Туманная Луна, а она меня – Кара-но-ко, потому что уже тогда меня тянуло ко всему китайскому. Прошло десять лет с тех пор, как мы играли в «представление ко двору», словно нам обеим всерьез улыбалась подобная возможность.
Когда видишься с кем‑то ежедневно, изменения, которым его подвергает время, совершенно неуловимы. Кажется, что человек не меняется или же вы меняетесь вместе, потому ничего и не замечаете. Возможно, именно по этой причине так трудно влюбиться в того, с кем с рождения живешь по соседству. Когда же встречаешь совершенно незнакомого человека, в нем все ново и вас не объединяют общие воспоминания. Приходится тратить уйму времени, устанавливая связи и обзаводясь сходным восприятием или опытом, однако это требует огромных усилий. Я обнаружила, что гораздо интереснее искать в этой необычайно красивой молодой женщине, которая приехала к нам погостить, мимолетные черты девочки, которую я когда‑то знала.
Тифуру жила со мной в одной комнате. Когда мы припудривали лица белой китайской глиной, я отмахивалась от ее прядей, и внезапно меня пронзило яркое детское воспоминание о подруге. Был тихий весенний день, шли затяжные дожди, мы сидели на ароматных новых циновках в матушкиной комнате, расчесывая друг другу волосы, смоченные рисовой водой, и меня охватило острое ощущение красоты, уловленной невидимой сетью, которая в это мгновение связала нас воедино.
Впоследствии на протяжении многих лет, припудривая лицо китайской пудрой, я всякий раз мимолетно вспоминала тот миг. Удивительно думать, что подобные ассоциации возникают у любого живого существа, поскольку каждое мгновение на пути, предначертанном кармой, неизбежно вырастает из предыдущего. Возможно, это касается и неживых предметов, ибо, сдается мне, даже у камня есть прошлое, однако у живых такие связи проявляются ярче, поскольку время производит в нас значительные перемены. Что за сила пробудила во мне изысканно-печальное ощущение красоты, которое я столь остро почувствовала в тот день? Я решила, что это, вероятно, работа памяти. Вот почему мы никогда не сочтем красивым что‑либо совершенно новое для нас.
Лежа рядом с Тифуру в утренней прохладе, я смогла поведать ей о своем позоре. Отец упомянул при своих друзьях, что я знаю наизусть китайскую классику, которую полагается учить моему брату. Отец говорил не без гордости, поскольку не видел ничего дурного в образованной женщине, однако ему следовало бы понимать, что похваляться тут нечем. Многие люди находили странным, если не смешным мое стремление к знаниям, а я была столь наивна, что обижалась. Моя подруга Сакико, которая служила при дворе и была превосходно осведомлена обо всем и вся, сообщила мне, будто слышала, как сыновья Ёсинари потешались над «девицей, знающей китайский язык».
– Значит, твоя репутация погублена, – вздохнула Тифуру, погладив мой локоть тыльной стороной ладони. – Теперь ты никогда не найдешь хорошего мужа. – Она встряхнула свою мятую, чуть влажную нательную рубашку и накрыла ею нас обеих, после чего добавила: – Если бы изучение китайского могло избавить от замужества, я бы тоже им занялась. К сожалению, это не поможет. – И Тифуру горько усмехнулась.
Я решила, что она подтрунивает надо мной, однако ошиблась. Тифуру плохо знала китайские иероглифы, но никогда не глумилась над чтением. Ее мать до замужества несколько лет состояла младшей придворной дамой при принцессе крови. Она считала проведенное при дворе время зенитом своей жизни и, когда у нее родилась дочь, думала лишь о том, как дать Тифуру образование, чтобы та смогла пойти по ее стопам. Когда родители Тифуру познакомились, ее отец был честолюбивым писарем. Он оказался на редкость способным начальником, и на протяжении карьеры его не раз отправляли из Мияко в ту или иную неблагополучную провинцию. При этом императорский двор отнюдь не спешил принимать на службу девушек, выросших в провинциях.
Скоро я поняла, что у меня, как у дочери ученого, тоже немного шансов очутиться при дворе. В детстве мать и бабушка забивали мне голову повествованиями о придворном быте, и мои представления о жизни императоров совершенно не соответствовали действительности: они устарели по меньшей мере на поколение. В любом случае все рассказы моих родственниц по большей части являлись небылицами, ибо ни одна из них при дворе никогда не служила. Их истории основывались преимущественно на слухах.
Какими трогательно невинными были я и Тифуру, лелея в сердцах тайное желание служить при дворе! На протяжении следующих нескольких дней мы с ней предавались сочинению историй о придворной жизни, которые на поверку мало чем отличались от наших детских фантазий, только теперь в них действовал пылкий герой, который вступал в любовные сношения с каждой встречной дамой.
Мы по очереди изображали принца или даму. Ни у одной из нас не было опыта общения с мужчинами, но мы призывали на помощь воображение и пользовались сведениями, полученными от подруг.
Я была в отчаянии, когда Тифуру настало время уезжать. Мы обменялись веерами. Я подарила ей свой, цвета голубой воды, с черными лаковыми пластинами, украшенный китайскими стихотворными строками, а она мне свой – бледно-розовый, из вишни, старинный и довольно ценный. А потом ее кочевое семейство снова пустилось в путь, словно мчалось наперегонки с луной.
Оставшись одна в своей комнате, я сочинила это стихотворение, которое затем переписала и назавтра с посыльным отправила Тифуру:
Новая встреча.И впрямь я тебя повстречалаИль показалось?Ты вмиг скрылась за облаками —Лик полуночной луны.За этот короткий промежуток времени я узнала, что такое любовь, и она преобразила меня. Но в тот самый миг, как я обрела подругу, Тифуру уехала.

В конце осени Тифуру с семьей навестила нас в последний раз. Сезон завершался, и все изменилось. Погожие солнечные дни уступили место холодам. Клены и сумахи запылали ежегодным парчовым багрянцем, модницы соперничали с деревьями яркостью своих многослойных нарядов. В траве пели цикады. Семья Тифуру опять уезжала, направляясь в далекую южную провинцию Цукуси, где отец моей подруги получил новую должность. Все произошло весьма неожиданно, и назначение не было почетным, но он едва ли мог отказаться. Правитель провинции умер, оставив дела в беспорядке, и отцу Тифуру поручили как можно скорее все наладить. Цукуси нельзя было назвать обетованным краем: людей туда ссылали.
Перед визитом гостей отец отвел меня в сторонку, чтобы поведать о печальных обстоятельствах их отъезда, но даже после этого я оказалась не готова к горестному виду Тифуру. Лицо ее скрывала широкополая дорожная шляпаитимэгаса[12]; подруга сняла ее, только когда мы остались одни. Веки у нее припухли, точно она долго плакала и лишь недавно перестала.
– Должно быть, я наказана за грех, который совершила в прошлой жизни, – пролепетала Тифуру, теребя вуаль на снятой шляпе.
Когда я предложила расчесать Тифуру волосы, она потянулась назад, чтобы развязать шнурок, стягивавший длинный хвост, скрытый под верхним платьем. Шнурок запутался и никак не развязывался, Тифуру безжалостно дернула его, и на глазах у нее опять выступили слезы. Она воскликнула:
– Ох, проклятый шнурок! Почему все идет не так, как надо?
Я схватила ее дрожащую руку и прижала к своей щеке. Тифуру приникла ко мне и разрыдалась.
– Мне все известно, – проговорила я. – Отец рассказал. Но это временно…
Я попыталась успокоить Тифуру при помощи доводов, которые привел отец. Он знал, что меня будет расстраивать мысль о подруге, пропадающей на грубом, варварском западе. Пока я расчесывала длинные спутанные волосы Тифуру, она молчала.
– Я не поеду в Цукуси, – наконец хрипло пробормотала девушка.
– О чем ты? – спросила я, внезапно похолодев.
– По дороге туда мне предстоит выйти замуж, – с горечью ответила она. – Мой отец счел, что, если я несколько лет буду прозябать в Цукуси, это напрочь лишит меня видов на будущее. Маловероятно, что там найдется муж для меня, поэтому я останусь в Бидзэне.
– В Бидзэне? – ошарашенно переспросила я. По правде говоря, я ощутила облегчение. Когда Тифуру сказала, что не поедет в Цукуси, я испугалась, что она задумала нечто страшное.
– Тамошний правитель недавно овдовел и подыскивает себе новую жену из столицы. Отец решил, что это лучший выход из положения.
Вечерний воздух был свеж, по небу неслись облака, то и дело заслоняя луну. Яркий лунный свет затмевал звезды, в саду неумолчно трещали и звенели насекомые. Мы сидели на террасе, тесно прильнув друг к другу, и тихо беседовали. Когда мы умолкали, тишину заполняли насекомые, и, прислушавшись к ним, мы различили четыре разных голоса: сверчка-колокольчикасудзумуси, соснового сверчка мацумуси, жука-усача и кузнечика киригирису. Мой брат весь месяц собирал образцы этих и многих других насекомых, мастерил для них бамбуковые клетки и кормил огурцами и арбузными корками. Наблюдая за его подопечными, я узнала, какие звуки издают разные букашки. Некоторые пели только днем, другие – лишь по ночам.
Мы стали рассуждать о предстоящем замужестве Тифуру, и мне стало ясно, что она единственный на свете человек, которому я могу по-настоящему открыть свое сердце.
– По крайней мере, когда закончится срок службы правителя, ты опять вернешься в Мияко, – отважилась заметить я.
Но тогда она уже будет замужней женщиной, а каков окажется мой удел, я не могла и предположить. Судьба Тифуру внезапно бросила густую тень на мое грядущее положение. Глупо, в самом деле, воображать, что все останется как прежде.
Мы обе были в одинаковых белых рубахах, заправленных в темно-рыжие шаровары из шелковой саржи. Тифуру куталась в темно-красную накидку со светлым бирюзово-зеленым подбоем, а я – в бежевую с блекло-розовым подбоем. Моя накидка была старой, ярко-розовая ткань подбоя давно выцвела и приобрела линялый оттенок. Мы попытались представить друг друга замужними дамами. Нам придется остричь волосы на висках и носить не рыжие, а ярко-красные шаровары. Вместо того чтобы донашивать разномастные вещи своих матерей, мы обзаведемся собственным гардеробом из тщательно подобранных нарядов. И мы поклялись друг другу всегда обращать внимание на модные цветовые сочетания, даже если придется влачить жалкое существование в провинции.
Когда Тифуру гостила у нас в прошлый раз, она чернила зубы дурнопахнущим раствором железа, и мне страстно захотелось иметь такой же. Когда Тифуру уехала, я по ее рецепту смешала железные опилки не с уксусом, как делают некоторые, а с саке и, применяя этот состав каждые три дня, добилась того, что зубы приобрели тот же изысканный темный оттенок, что и у подруги.
Весело смеясь, мы сочинили историю о том, как придуманный нами герой посещает дом правителя провинции и соблазняет его красивую молодую жену. А когда опомнились, луна уже висела над западными холмами. Мы тихонько пробрались в дом и легли; ночные насекомые к этому времени умолкли. Я сонно подумала: чувствуют ли эти существа, как скоротечна жизнь? В их жалобном стрекотании мне слышалось прощание с осенью, с затянутой облаками луной, с Тифуру… После отъезда подруги я написала это стихотворение:
Смолкают сверчки,Что пели в саду у ограды.Осенней разлукиИм избежать не удастся.И как же, должно быть, грустят…Спустя месяц после того, как семья Тифуру отбыла в западные провинции, мой отец собрал всех детей у себя в кабинете, чтобы объявить о том, что в жизни нашей семьи грядут перемены. Мой брат был озадачен, я же сразу обо всем догадалась. Невестой отца стала женщина двадцати с чем‑то лет. Ее отец и дед служили провинциальными чиновниками; отец невесты, любитель китайской поэзии, был счастлив породниться с нашим семейством. Было довольно забавно наблюдать, как мой бедный родитель борется с желанием сообщить нам новость. За несколько дней до того я заметила, что он достал свой старый гребень в лаковом футляре, и сообразила, в чем дело: этим гребнем он пользовался, когда жил в доме моей матери. После матушкиной смерти ее семья вернула отцу гребень, и тот убрал футляр с глаз долой, запрятав в ящик шкафчика, стоявшего в углу кабинета. Я задавалась вопросом, не запрятал ли он подальше и свои воспоминания о покойной жене.