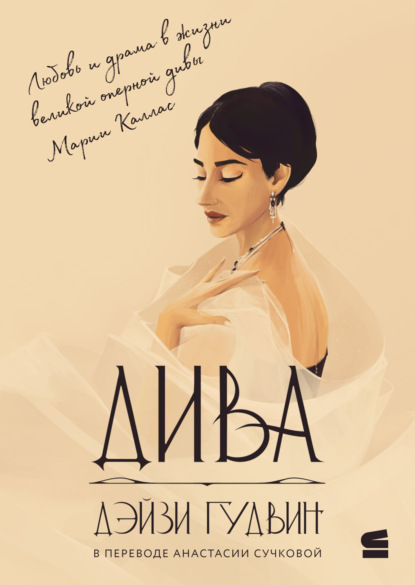Полная версия
Любовь, что медленно становится тобой
– Нам надо поговорить…
Я ничего не ответил и решил уйти от нее в тот же день, забрав хранившиеся у нее вещи и удостоверившись, что оставил кухню и ванную безупречно чистыми. Я ушел не просто так – я положил записку на видное место, на столик в прихожей, написав ей, что нам не надо ни о чем говорить, и приложил конверт с банкнотами, чтобы возместить расходы, связанные с моим присутствием, не забыв и просто поблагодарить ее. Когда я пришел в ресторан на смену, патрон понял по чемодану, да и по моей кислой мине, что со мной не все ладно. Действительно, впервые я от кого-то ушел. Внезапное удовольствие от сыгранной сцены, которую я мог бы видеть во французском кино, быстро сменилось чувством вины, ведь я дал увлечь себя в унылое болото и оказался в тупике. Причинить боль ближнему – я знал, что это значит в семейном кругу, но здесь совсем другое: я обидел человека, которого толком не знал и которого наверняка больше никогда не увижу. Я порвал отношения походя, даже не проникшись ближним и его болью, в которую, в общем-то, не верил. Я не был готов к этой смеси равнодушия и нервного чувства вины, от которой потускнел мой цвет лица, встревожив патрона.
Он предложил приютить меня на несколько дней. Этот человек из тех опасных китайцев, которых никто не замечает, но от которых ничто не ускользнет. Увидев, как он сидит перед телевизором или, полуголый, играет в маджонг с дружками над рестораном, вы сочли бы его животным. Он все видит, все чует. У него есть чувствительные антенны, позволяющие ему справляться со всевозможными ситуациями и нейтрализовать противников. Его антенны двух видов: первые он выпускает, почуяв намечающуюся проблему в ресторане, конфликт с клиентом или с поставщиком, – тогда он широко улыбается, всячески старается разрядить атмосферу, заводит речь о приготовленном им вкусном обеде или отпускает грубую шутку. Другие антенны задействованы, когда ничто не привлекает особого внимания, они функционируют день и ночь, незаметные, но ориентированные на триста шестьдесят градусов. Смотреть, не видя; слушать, не слыша; действовать, бездействуя, – он понимает, что происходит в зале ресторана, в четверть секунды, лишь скользнув за стойку бара. Он не оканчивал университетов, но каждый день в шесть часов утра переписывает стихи династии Тан, те, что учил, когда ему было семь лет. Это писательское и поэтическое чутье дает ему скрытое чувство превосходства над клиентами, которые зачастую спешат, шумят и кажутся ему некультурными. Этот человек любит Париж, его грязные улицы и гордые памятники, Франция стала его второй родиной в 1960 году, и он представляется французом, потрясая удостоверением личности как доказательством и трофеем, но при этом разражается громовым хохотом, полным чесночной горечи и ностальгии, хохотом, который дает нам – но только нам – понять, что значит быть китайцем.
Моя бывшая преподавательница французского – вдобавок, по ее словам, знаток йоги – своего не упустит. Однажды утром, спозаранку, она звонит мне и говорит, что ничего не понимает и что мы не можем расстаться, по крайней мере, «вот так»… Она назначает мне свидание на улице Бюси, в кафе, куда я привык заходить до или после уроков. Я соглашаюсь без уговоров, но и без малейшего желания ее видеть, заранее смирившись с предстоящим мне тупиком и унылым густым молчанием, которое повиснет между нами. Она несколько дней не мыла голову, но я делаю вид, будто не замечаю этой детали, не предвещающей ничего хорошего. По китайской привычке, требующей от сильного всегда смотреть на того, кто слабее, «снизу», я говорю ей, мол, мне очень жаль, что я ушел, и я рад ее видеть. Она напрягает шею с уверенностью всегда правого, гладит мою руку, и эта нежность, от которой я пьянел еще недавно, вдруг вызывает у меня тошноту. Прошло три недели с момента моего ухода, у нее было время составить список претензий ко мне. Сумма упреков – вполне конкретных, но предъявленных вперемешку, – омрачила все ее воспоминания, в том числе и те, что не касаются нас. Она возненавидела время, проведенное не только со мной, но и без меня, она не может больше выносить всего, что напоминает ей о «нас», в частности свою работу и Париж. Я говорю ей, что мне очень жаль, энергично сжимаю ее руку в своей, она отмахивается коротким жестом, от поспешности которого мне становится не по себе. Ожидая ее, я заказал две кружки пива и предлагаю ей пригубить этот рыжий и чувственный напиток, который она, кажется, любила раньше… Тут она набрасывается на мою историю и на мою страну, она ее знать не знает, но подозревает в худшем, «достаточно взглянуть на мое лицо». Впервые она упоминает об этом; в свой черед она обидела меня. В ответ я молча кладу ладонь на щеку, чтобы прикрыть ее, но не только, – еще, наверно, чтобы попросить прощения, ибо моя щека в этой истории ни при чем, Китай тоже, да и вообще никто ни при чем. Я понимаю Флору, которая мечется между нехваткой любви, мужества и своими мелкими, такими предсказуемыми претензиями. Скоро она покинет Париж, проклиная меня. Я же ее не забуду. Как забыть тех, кто так нуждался в вас?
«Вода приносит благо всей тьме вещей и ни с чем не борется. Собирается в местах, которых люди избегают, Вот почему она близка Пути»[22]
Париж, 12 октября 1992 года.
В этот выходной день в середине осени мне не удается ничего. Понедельник, ресторан закрыт. В Пекине все отмечают праздник Луны, без меня. Я в Париже уже почти два года. Это «ничего» не следует путать с даосской «пустотой», которая пропитала меня с детства и помогла преодолеть испытания после несчастья. В Париже «ничего» – это, скорее, какое-то липкое небытие, возвращающее меня к некоему «я», унылому и лишенному интереса. Это голая механика, словно короткий поводок, натягивающийся все сильнее, стоит только отойти, это тиран-хозяин, загоняющий меня в мою конуру, туда, где со всех сторон грозный голос повторяет: мне, мол, «должно быть стыдно, что я уехал».
Я узнаю этот феномен физического чувства вины и борюсь с ним, но без ожесточенности, возвращая моему телу балласт, необходимый ему, чтобы вновь обрести силу, в которой отказывает ему душа. Ходить, прогуливаться, отвлекаться на что-то от себя, скользить по поверхности вещей и ощущений, ничем себя не ограничивая, ходить до изнеможения, до неотвязной жажды, до забвения своей боли и в конечном счете – до прощения себя.
Через четыре с половиной часа терапевтической прогулки я заметил, что кружу по кварталу Сен-Жермен. Мое тело сигналит, требуя сделать остановку, а душа, сумев приглушить мой гордый разум, нехотя дает на это согласие. Сейчас я выбрал Париж, и точка; я вернусь на родину, когда почувствую в этом внутреннюю потребность. Это наверняка произойдет, но никто не знает когда. Не зря меня учила мать: все, что мы выбираем, готовится загодя, с ночи времен и утра первого дня. И вот я вхожу в «Красное кафе», где когда-то поджидал Флору с меню ее обид. У меня нет с собой книги, на моем столике быстрее, чем я этого ожидал, появился чайник и жуткий серый пакетик, пахнущий пылью, который мне придется погрузить в чересчур горячую воду. Я обжигаю рот о толстостенную, фальшиво белую чашку, к которой никто на свете не захотел бы прикоснуться губами, и думаю, что, решительно, в этой стране никто ничего не понимает в самом важном напитке, утонченном, духовном. Ладно, проехали…
На часах, наверное, около пяти, когда входит она. Описать ее я неспособен.
Я сижу на банкетке из бордового кожзаменителя. Она садится совсем рядом. Народу полным-полно. У стойки толпа, все столики, даже самые уединенные, заняты, только уголок с банкеткой, где примостился я, обеспечивает немного покоя. Задним числом я восстановлю разыгравшуюся передо мной сцену, но лишь потом, в той ослепляющей вечности, что разлучила нас.
Она вошла решительным шагом, но как будто не уверенная в том, что ее ждет. Скользнула взглядом по большим настенным часам над стойкой – очевидно, кого-то ищет. Хмельная волна опережает ее и направляется в мою сторону – колечками, как сигаретный дым. Я и представить не мог, что явление столь яркого света может предваряться таким тяжелым ароматом. Она меня не видит. Она не видит ничего, кроме своего нетерпения и часов, затягивающих ее ожидание.
Официант, который только что обслужил меня, подходит к ней, но выражение его лица и манеры изменились. Он ее знает, ему хочется пошутить, доставить ей удовольствие, он делает все, чтобы завязать с ней разговор и продлить общение. С широкой, чуть глуповатой улыбкой он приносит большую чашку кофе со сливками и говорит:
– Не волнуйтесь, придут ваши подружки, никуда не денутся. А пока попробуйте кусочек сливового торта.
Я вижу ее в профиль. Моя поза не позволяет ни малейшего движения назад. Двусмысленная гримаска, которой она благодарит официанта, отметилась на моей коже печатью несказанного желания, но также и доказательством восхитительной культуры, в которой игра между мужчиной и женщиной затевается по воле случая и при помощи намеков. Этот официант и эта молодая женщина забавляются, играя каждый со своей ролью, своим полом и своим положением, допуская едва заметное нарушение границ, позволяя себе приблизиться друг к другу на минутку и тотчас разойтись, потому что это приятно, легко и, в сущности, безопасно.
Это заигрывание на краешке стола, в разговоре «мимоходом» между людьми, которые, возможно, больше никогда не увидятся, кажется мне невозможным в моей стране, где любовные отношения ограничены жесткими рамками, а браки заключаются по договоренности. Нет, здесь что-то иное.
Официант возвращается к ней и заодно кладет на мой столик счет.
– Ну как вам торт?
– Съедобно, – улыбаясь, отвечает она.
И он отходит, фыркнув:
– Ох, эти женщины, ничем им не угодить!
А она подхватывает хрустальным голосом, громко, чтобы он ее услышал:
– Это точно, ничем!
Как раз в эту минуту входят две женщины, садятся напротив нее – и меня, я ведь сижу рядом. Они не целуются – кажется, будто расстались совсем недавно. И я делаю выбор – упиваться видом этой сцены. От их разговора исходят такие заразительные волны общения, а между тем они существуют только для себя, как будто не замечая ничего вокруг и перемежая свои слова молодым и дружным смехом. Моя муза с длинной шеей и пронзительным взглядом проводит рукой по волосам, словно задумавшись, и я замечаю у нее на пальце серебряное обручальное кольцо. Ее подруги выложили на стол по странному предмету, что-то вроде деревянных прищепок, не знаю зачем, но они смеются еще громче. И тут она поворачивается ко мне:
– Извините за шум, мне очень жаль, правда.
Не дожидаясь от меня ответа, она придвигается к своим подругам, перегнувшись через стол над сливовым тортом, и рассказывает им такую историю:
– Вчера я сама себя заперла в ванной, вот смеху-то было. Задвижка – она находится над замком, и я ее никогда не трогаю – скользнула под мокрыми пальцами, я заперла ее нечаянно, не спрашивайте как. И сдвинуть не могла. Я села на краешек ванны и выждала три минуты, а потом попыталась снова, применив всю силу правой руки, которую перед этим хорошенько вытерла, но все без толку. Я представила, как просижу много часов в этой ванной. В комнате зазвонил телефон, и я поймала себя на том, что кричу: «Я заперта, не могу подойти!» Я задумалась, как еще можно взломать дверь, стучать, орать, чтобы услышали соседи, и тут у меня мелькнула мысль, что это плохое кино, – не может быть, чтобы я так попалась. Тогда я решила еще раз попробовать справиться с задвижкой, но на этот раз не трогала ее, а только смотрела – со спокойствием хирурга и сноровкой мастера. Потом, надавив левым плечом на дверь, чтобы чуть-чуть ее сдвинуть, я почувствовала другой рукой, что собачка, которая до сих пор не поддавалась, сейчас откроется. И вдруг я оказалась по другую сторону двери, меня как будто выбросило в комнату, я распахнула окно и расплакалась, до смешного разволновавшись от этой победы, которой я так гордилась… поди знай почему…
И одна из подруг заключает, обмакнув палец в торт:
– Хорошо бы проанализировать эту историю с твоими психотерапевтами!
Мне хочется, чтобы это продолжалось, я не могу угадать, сколько им лет, – это мне всегда трудно дается с французами. Я либо прибавляю им возраста, либо, наоборот, омолаживаю их на десяток лет. На самом деле мне глубоко плевать на их дату рождения, но так я по-китайски располагаю их по отношению к себе в семейных связях и могу приравнять к старшим или младшим сестрам. Эти женщины для меня определенно старшие, потому что две из них, те, чьи лица я вижу, начинают говорить о детях, которых им через полчаса надо забрать, – правда, я не понял откуда.
Чтобы был повод остаться подольше, я заказываю кофе со сливками, как она, – она, к которой я не смею обратиться и которую встречу теперь лишь в моих вечных сожалениях где-то на небосводе.
Они встают одновременно, как три скрипичных смычка в идеальном трио. Ни одна из них не удостаивает меня взглядом. Ни слова на прощание, ни кивка, они возвращаются каждая на свой островок – видно, живут где-то рядом. Кто же они? И я, не понимая, что творится в моей голове, я, знающий лишь одну иерархию между людьми – ту, что передается культом предков, – решаю, что они принадлежат к горнему миру. Я остаюсь один, чувствуя себя глупым, как маленький мальчик в присутствии фей.
Из кафе я выхожу новой поступью. Как хорошо, что это существует, как чудесно, что это оказалось таким легким, таким физическим и действительно таким элитарным. Это именно то, за чем я приехал во Францию, – и называется оно свобода.
Тем не менее встает вопрос, который я облекаю в странное предзнаменование: почему она обратилась ко мне? Почувствовала ли трепет между нашими двумя энергиями, предвестье острого счастья? Конечно, нет. Это просто воспитанный человек, привыкший извиняться за несдержанность своих подруг. Почему она обратилась ко мне? Ее слова, разумеется, были банальны, невинны, она не ждала никакого ответа с моей стороны, едва на меня взглянула, и все же? Я знаю, что Париж – город любви, но также и случая, и что такие мимолетные встречи происходят каждый день, на любом перекрестке, на террасе, в такси или в сквере. Но верю я и в то, что жизнь состоит из потерянных знаков, порой вновь обретенных чудесным образом, из спаянных сердец, соединяющихся благодаря цепям, которые мы носим, сами того не ведая, на шее, на ногах, на предшествующих жизнях. Что делать, что думать?
Назавтра я не решаюсь зайти в кафе. Что-то не пускает меня, и я сам себя нахожу непоследовательным. Составляя список дел на день, я измышляю всевозможные предлоги, чтобы пойти на попятный, но я не готов. Я никогда не смогу приблизиться к месту встречи, оно стало для меня запретным храмом. Я был бы рад, клянусь, показать себя чуть более дерзким и легкомысленным; в конце концов, почему бы не попытаться увидеть ее снова? Соблазниться мимолетным присутствием случайной прохожей – не к этой ли игре я стремился, живя в Париже? Но то, что произошло в «Красном кафе», – другое дело. В конце концов я урезонил себя, решив, что, если такая женщина, как та, которую я видел, существует на свете, то этого достаточно, и это главное, а всякую надежду на «завоевание» оставил.
Я не зайду в кафе, не в этот раз. Тем не менее я сохранил в потайном уголке сердца и тела веру в то, что увижу ее вновь. Я сам не сознаю, что мой взгляд блуждает по соседним улицам, непривычно долго задерживается на встречных женщинах. На иных я даже оглядываюсь в смятении от возможного сходства. Это напряжение всего существа заставляет меня опасаться за здоровье, я плохо сплю и просыпаюсь с легким головокружением, относя его на счет моего тревожного сердца. И даже если я снова встречу ее в квартале, что будет тогда? Я не хочу ломать свою судьбу, подвергая себя несказанным разочарованиям, пагубным для моего внутреннего равновесия. Да, я из тех, для кого разочарование – хоть в человеке, хоть в ресторанном блюде или в бизнесе с Шушу – представляет собой худшее из унижений. И эта гордость, на деле служащая проводником моему малодушию, выдает складно выстроенную речь: я повторяю себе – не успокоения ради, а потому, что этот факт из числа очевидных истин, помогающих мне высоко держать голову, – что, если мне суждено снова ее увидеть, я увижу ее в надлежащий момент, и это будет не случайность, но юань фэнь. Конечно, разговор между нами не состоялся, и интереса я в ней не вызвал, эти факторы вряд ли благоприятны, но кто знает? Никто. Никогда.
Так что ни к чему ломиться в историю, как ломятся в дверь, – если эта встреча предопределена небесами, она застигнет меня врасплох, но не удивит, как снег весной, как песня соловья. Это и есть смысл пути.
Вина перед моей страной
Прошло несколько недель, я не вел им счета, чувствуя, как закрадывается усталость в рутину, определяющую мое расписание, и город внезапно показался мне неподвижным. Еще более отчетливо, чем разница во времени, которая не облегчает моих разговоров с матерью и дядей, проступает расстояние в другом виде, тяготя меня необходимостью вернуться. Когда я брожу по улицам, воспоминание о роскошной женщине, сидевшей рядом со мной, всплывает в моем мозгу, и я не могу точно сказать, радует меня это или печалит. Сцена в «Красном кафе», которую я, сам не знаю почему, истолковал как несостоявшееся свидание, не только пробудила мой инстинкт «Волопаса-мечтателя», разлученного со своей принцессой, но и усилила боль, связанную с невозможностью. «Ах, если бы я был другим!»
В Париже я днем и ночью один, работа не позволяет мне отлучаться, моя жизнь никого не интересует; те, кого я встречаю, не ищут новой встречи со мной, да и я не рвусь продолжать знакомство. Мои китайские кузены, называющие меня «фантазером», по-прежнему не понимают, зачем я приехал во Францию. Я ни на что не годен, считают они. Но ничего не говорят.
Мне, впрочем, нравится это ощущение, будто я живу, спрятавшись, в лоне мира, где чувствую себя под незримой защитой, ведь французы не только не платят за лекарства, но и, кажется, от природы облечены правами, оправдывающими их искусство жить, равно как и склонность к протесту. Париж с его неспешностью и скоростями позволяет мне уютно жить в подспудном ритме, тогда как в китайской столице растет напряжение, и Шушу звонит мне через день. Терзаемый угрызениями совести, я думаю о том, сколько денег тратит мой любимый дядя на эти банальные разговоры по телефону о его текущих проектах и о том, что он ел вчера в ресторане. Так он по-своему готовит мое возвращение. Окруженный его заботой, я привык к свежим новостям: он рассказывает мне о матери и ее здоровье, тем самым обостряя во мне постоянное чувство вины, и без того всегда готовое захлестнуть меня. Он берет меня измором – мне хорошо знакома эта стратегия, я и сам вместе с ним не раз прибегал к ней в работе с чиновниками квартала, и я знаю, что долго сопротивляться не смогу. Дяде достаточно проявить терпение, не прилагая никаких иных усилий, просто присутствовать в моей жизни и оставаться по-родственному внимательным. Однажды утром, во вторник, повесив трубку после разговора с Шушу, который поведал мне о своих подвигах с новыми партнерами, я понял, что пришло время уезжать. На другой день я сообщил патрону, что уеду в следующую пятницу, прекрасно сознавая, что ставлю его в трудное положение. Но китайская община привыкла к быстрым переменам, которые иностранцы находят чересчур резкими и грубыми.
Проявив понимание, патрон сказал мне:
– Ни о чем не беспокойся, мы отвезем тебя в аэропорт.
Потом он молча принес две бутылки красного вина и сунул их в мою сумку вместе с альбомом с фотографиями для его старшей сестры, оставшейся в Кантоне, а еще положил много конвертов, набитых банкнотами, которые я должен был раздать членам клана.
А вот семьям из Седьмого округа новость совсем не понравилась. Матери моих учеников заявляют высокомерным тоном, который я уловил с самого начала, мол, я не выполняю своих обязательств…
Они не понимают, почему я предупредил их в последний момент, и упирают на то, что понадобится время, чтобы найти мне замену.
Некоторые из них даже признаются, что разочарованы: я мог бы понять, что они считают меня «почти другом». Я не верю ни единому слову из этих неискренних жалоб и не обращаю на них внимания.
Последний звонок Шушу был предельно ясен: если я не вернусь в Пекин по прошествии двух лет, я фактически провинюсь перед моей страной, я стану «предателем», поддавшимся заразной болезни эгоизма, свирепствующей в индивидуалистических странах. Я быстро согласился с этими доводами, не в состоянии оправдать столь долгий срок, два года, – да и, собственно, зачем? Ночь после дядиного телефонного монолога невыносима, мне трудно дышать, меня осаждают жуткие видения, в которых мать плюет мне в лицо, а потом плачет, утирая меня, и напоминает с избыточной нежностью, что я – китаец. Что значит эта любовь, мне хорошо известно. Два года, с точки зрения моей семьи, – это слишком беспечное отношение к грузу ответственности, который должен был бы лечь на мои плечи, не вздумай я бежать в страну «греховных» желаний. Остаться или уехать? Париж позволил мне примириться с определенным образом самого себя. Я стал увереннее, я не так безразличен к собственным желаниям, но что еще? Мне повезло, у меня есть виза политического беженца, но Франция ничего от меня не ждет и никак не пытается меня удержать. И потом… в памяти постоянно всплывает сцена в «Красном кафе», которую я про себя назвал типично французской романтической обманкой. Шушу, пожалуй, в чем-то прав, когда твердит по телефону о рисках слишком тесного общения с «чужестранцами». Так что возвращение на родину для меня не выбор; во всяком случае, он не продиктован собственной волей, которую так высоко ценят западные люди, – скорее, это чисто китайская смесь долга и чувства вины все решает за меня.
Когда я вхожу в аэропорт Шарль де Голль с обратным билетом на родину, у меня такое чувство, что я покидаю Францию, но не Париж. Я вижу себя в нем. Когда-нибудь, через несколько лет, я вернусь и куплю квартиру рядом с одним из красивых парков, где так люблю гулять, насвистывая. Я видел, более того, я пережил в этом городе то, что изменило мой взгляд на Китай и на самого себя.
Едва сев в самолет, я уже чувствую себя на родине, и мой китайский дух вновь берет верх над моей плотью. Я знаю, что отдамся душой и телом семье и работе – что, в сущности, одно и то же. Однако сомнение все же одолевает меня, когда я погружаюсь в дремоту: буду ли я снова способен на такие подвиги? В Париже я приобрел дурные привычки. Каждый за себя, у каждого своя жизнь – этот принцип подходил моей натуре и, что бы там ни говорил дядя, никак не мешал выражению чудесной солидарности, но он не имеет ничего общего с построенными на зависимости и корысти связями большой китайской семьи. В Пекине мне придется с первого же часа использовать мои таланты эквилибриста и стратега, играть роль, навязанную образом этакого интернационального племянника, «только что приехавшего из Франции», чтобы расширить сеть наших друзей.
В Париже я научился выстраивать эфемерные узы с «незнакомцами» на террасах кафе и в очередях в кино или, скажем, с булочницей, с которой я привык здороваться. В Пекине же я буду встречаться с людьми, составляющими бесконечное переплетение связей, всегда ориентированных на взаимные интересы и им подчиненных. Круг общения моего дяди укрепляет наши позиции застройщиков, мамин же, не менее полезный, – расширяет семью за счет соседей по кварталу, всегда готовых помочь; и я вынужден признать очевидное: я возвращаюсь к корням, здесь каждый станет моим кузеном, братом, дядей, сестрой, в зависимости от представившегося случая и их потенциала на будущий успех. Я знаю, до какой степени придется следить за собой, что́ можно сказать тому, чего не сказать этому, чтобы никого не задеть, как далеко мне придется зайти, чтобы держать лицо перед нашими инвесторами и партнерами, не говоря уже об усталых, но таких лакомых чиновниках, – куда от них денешься, это ключевые фигуры. Так что я возвращаюсь с двумя чемоданами, полными бутылок, часов, рубашек, сигарет, но еще и сомнений, которые рассеются со скоростью наших проектов.
Шушу встречает меня в аэропорту – он приехал на новеньком черном «ауди» с шофером, которому на вид лет двенадцать. Никакой особой радости дядя не выказывает. Мой приезд означает возвращение в привычную колею, пришло время расстаться с затянувшейся жизнью зеленого юнца, которую я вел у этих «чертей-иностранцев». Мы не едем к моей матери, да так оно и лучше для меня, будет время подготовиться. Приезжаем в квартал Саньлитунь, к строящемуся зданию, которое, судя по всему, будет башней странного вида; сотни рабочих, в зависимости от времени дня и близости прораба, усердно трудятся или спят. Дядя говорит мне просто: «Здесь» – и ведет к импровизированному офису, расположенному рядом со стройкой в синем бараке из листового железа. Там я знакомлюсь с мужчиной и женщиной лет тридцати, которых он представляет мне как наших компаньонов.