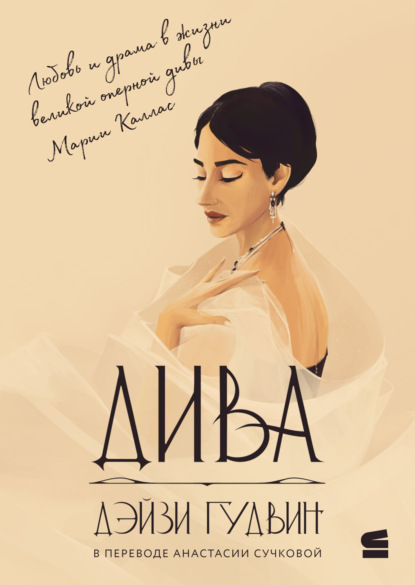Полная версия
Любовь, что медленно становится тобой
Потом шоу закончилось, и все разошлись по домам, отпуская разнообразные комментарии о происшедшем.
Возможным становилось все, абсолютно все. При условии, что под сомнение не будет ставиться народный порыв, что полиция еще сможет делать свою работу, а конфликт поколений не будет слишком глубоким. Предпринимать, пробовать, строить.
Нередко рестораны или предприятия закрывались так же быстро, как и открывались, потому что двадцатилетние юнцы, не учившиеся в школе, вообразили, что смогут ими управлять. Визитные карточки и титулы директора, президента, вице-директора, генерального секретаря множились, словно мухи на свежем мясе. Мы жили в смерче, взвихрившемся подспудно.
Эти потрясения тревожили маму. Да и как могло быть иначе? С каждым днем она все глубже погружалась в печаль, подточенную стыдом, и молча проклинала эти перемены, которые дяде, а стало быть, и мне, казались, однако, полными обещаний. Когда я приходил вечером домой и заставал ее ушедшей в свои мысли, склонившей голову над починкой штанов или стряпающей вместе с дедом лапшу к ужину, мне хотелось сказать ей: «Мама, я никогда тебя не оставлю, я всегда буду с тобой и постараюсь, чтобы тебе ничего не угрожало, ты не покинешь свой хутун, я сам его обустрою, чтобы тебе в нем жилось лучше, а вечером я помогу тебе сесть, не слишком крепко сжимая твои руки, сам опущу твои ноги в тазик с горячей водой и добавлю туда свежего имбиря».
Я бы дорого заплатил за эти несколько слов, которые мне так никогда и не удалось ей сказать, я хотел бы купить себе речь, как другие покупают одежду, чтобы принарядиться и выйти в люди вечером. Я приписывал иным фразам чудесную власть завязывать, разрушать и менять отношения, но сам привык молчать и метался, как обезьяна в клетке, голося про себя. Никто меня не слышал, и я думал тогда о моей глухонемой бабушке, которую мне не довелось увидеть, – я лишь чисто случайно узнал ее историю… Ее заточение, следствие случившегося с ней еще в детстве рокового несчастья, переместилось в мое тело, вкралось в мой облик, и люди, встречая меня, думали, что я либо глух, либо держу дистанцию, близкую к надменности. А между тем это было лишь унылое одиночество, внутри которого я ждал, не торопя события, возможности выйти наружу. Рядом с суетливым весельчаком, каким был мой дядя, я выглядел еще более странно. Думаю, я производил впечатление аристократа, равнодушного к мирским делам, но тем более опасного, когда надо было торговаться.
В этом вскипании, свойственном стране, которая поднимала голову, высвобождая жизненную энергию, ту, что оттачивается боевыми искусствами, все было, стало быть, за то, чтобы я оставался в Пекине и продолжал помогать Шушу в его многочисленных предприятиях. Вместе с дядей, учитывая эти почти чудодейственные для нас обстоятельства, мы должны были быстро преуспеть, послужив нашей семье и нашей родине. Это было нам на роду написано.
К тому же у матери появились признаки усталости, осложнился ее диабет, и все это тревожило нас с дядей.
Какой же процесс запустился тогда в моей душе, что я отринул мой долг сына, племянника и патриота? Трудно объяснить, но я попробую описать это в двух словах. Я нашел в себе силы уехать, потому что испугался.
Я, конечно, мог бы сказать себе, что должен бежать, чтобы научиться находить слова, которых мне недоставало, потому что другая культура допускает другие интонации и даже другие мысли; я мог бы также сказать, что мне необходимо было сбросить свою раковину ребенка-мученика, вылупиться из нее, как бог Пань-гу[18] вылупился из яйца. Но это все надуманные доводы, постфактум оправдывающие мой отъезд, которого никто, даже я сам, до конца не понял. Честно говоря, я действительно думаю, что испугался и по этой, должен признать, довольно постыдной причине решил покинуть свою страну. Но с какой стати пугаться мира, внезапно открывающегося перед вами? Мира, в котором вам вдруг становится не так больно, не так холодно, не так серо жить? Я бежал от удовольствия, от положительных эмоций, слагающую и умножающую силу которых я постигал по мере работы с Шушу. Это удовольствие действовать, возбуждающее тебя с зари и удерживающее на ногах до поздней ночи, разливающееся в мозгу, стоит только подумать о планах, об удачах, о выгоде, обо всем, что прибывает и еще прибудет, наверняка! И я начал побаиваться воздействия моей повышенной активности на мое внутреннее равновесие, я начал побаиваться головокружения от успехов, которое само себя порождает и оправдывает, ведь надо же вносить вклад, самому становиться живой силой на благо общества. Я испугался действия, которое опьяняет, когда растет наша власть над временем и нам приходится чокаться за наши успехи. Я испугался действия, которое заставляет всем жертвовать и все забывать, потому что его стимулирует ощущение жизни.
Вот я и уехал, гонимый инстинктом, как животное, чувствующее близость западни, которую никто ему не готовил, но которая все же есть. Я нашел в себе мужество не слышать упреков всей моей семьи, хулы соседей и, главное, избегать взгляда дяди, который многому меня научил. Я должен был сопротивляться нашей собственной активности, потому что она, вопреки видимости и всякой логике, подтачивала меня.
Париж, 12 ноября 1990 года.
Я знал несколько слов по-французски, в голове у меня остались картинки с видами Парижа, которые мать держала перед моими глазами в больнице вместо конфет в утешение. Я слышал, что Франция изъявляет готовность принимать юных студентов и молодых артистов, объявляющих себя политическими беженцами, и предоставляет им особые условия. Вот и я решил стать единицей этого контингента. Франция звала меня – это было, в сущности, необъяснимо.
Провожая меня в аэропорт, Шушу взял с меня клятву вернуться через год. Мать вообще не поняла, почему я ее покидаю, но ни словом меня не упрекнула и сунула мне в карман кое-какие деньги. Я улетел уверенным и с легким сердцем, у меня было достаточно средств, чтобы прожить в Париже пару месяцев. Я знал, что дядины кузены встретят меня по приезде, и готов был вылупиться из своей раковины, ничего не пытаясь спрогнозировать. Францию выбираешь ребенком.
В понедельник, 12 ноября 1990 года, самолет авиакомпании «Эйр Чайна» приземлился на час раньше, и я, без особого нетерпения, ждал дядиного кузена, который должен был приютить меня. Я понимал, что из-за моего асимметричного лица узнать меня будет нетрудно, но нам пришлось бесконечно долго искоса переглядываться, прежде чем мы решились подойти друг к другу. Затем последовало слово – его было достаточно, чтобы мой дядя взял у меня чемодан, выказывая гостеприимство, прошел на три метра вперед меня, как будто был моим личным шофером, и направился на подземную парковку, где нас ждал еще один дядя, который сел за руль. Меня пригласили расположиться на заднем сиденье и выпить из маленького красного термоса, специально приготовленного к моему приезду, – в нем оказался безвкусный чай, похожий на пустой кипяток, только хуже. От сидений, обитых шершавой тканью, пахло чесноком с оттенком лимонной мяты, который нравится мне больше. Из багажника доносились запахи свежего мяса и сушеной рыбы. Никто ничего не говорил, без остановки звучали китайские песни, и мои спутники довольно весело подпевали. Шел дождь, все казалось серым, обреченным на неизменно мерный ритм. Я не спрашивал, куда меня везут. Первый и последний вопрос задала мне пожилая женщина, когда мы приехали в Тринадцатый округ[19]: «Ты кушал?» А другая тетушка приготовила мне огромную миску пельменей с овощами, которые я счел своим долгом съесть. Я не знал, чем занимались в Париже дядины кузены, но вид у всех был деловитый, телефон в квартире звонил непрерывно, и парижский дядя сказал мне, что я могу снимать трубку, когда их нет дома, потому что звонят только китайцы.
В тот же вечер, около шести, я вышел на улицу и отправился в квартал Сен-Мишель – я был наслышан о нем как о квартале студентов; там я остановился, завороженный фотографиями – на них крупным планом были сняты мужчина и женщина, хищно впившиеся друг другу в губы. Я пристроился за группой студентов, которые покупали билеты у завитой блондинки с необъятными формами, втиснутой в плексигласовое окошко. Она каждый раз вздыхала, повторяя: «На какой фильм?» Прослушав это несколько раз, я с известным удовлетворением убедился, что понимаю ее. У меня было с собой немного денег, и я взял место в третьем ряду, в темном чреве кинотеатра, где пахло леденцами и по́том. Через десять минут начался показ фильма под названием «Энни Холл»12[20]с французскими субтитрами. У меня был с собой блокнот, в который я еще в самолете начал записывать самые нужные выражения, и теперь я добавлял туда слова из титров, но они менялись слишком быстро, и темнота была препятствием. Так что я не стал противиться подхватившему меня неописуемому ритму, в котором происходили небывалые для меня события. Я, привыкший к романтическим историям любви с хорошим концом и к поучительным фильмам о моей стране, впервые в жизни как будто очутился в дымном баре, потягивая коктейли из упреков и нежности, любви и секса и чувствуя, как с каждым глотком ударяет в голову хмель. Я следовал за этими персонажами, явившимися с другой планеты, как следуют за плохим парнем в тайной надежде подсмотреть, а может быть, и поучаствовать в том, что с ним случится. Они стали моими друзьями – возможно, единственными? Чокаясь бокалами с вином, они говорили о сексе, словно речь шла о тарелке спагетти, и, флиртуя с женой соседа по столу, взывали к Богу, сетуя на абсурдность своего существования.
Возможно ли так разговаривать друг с другом? Эти мужчины и женщины выглядели, конечно, замороченными самими собой и своими комплексами, но в этом была и некая двойственность, и эта душевная сумятица влекла меня.
Я вышел из кино радостным и смущенным, это была жизнь, какой я ее себе никогда не представлял, но, наверное, предчувствовал в каком-то прежнем рождении, потому что меня тянуло к ней, к этой жизни инфантильных взрослых, и я все бы отдал, чтобы слиться с ними. В Китае удовольствие общения, конечно, тоже было – в рамках семейных и профессиональных отношений, – однако иные темы, касавшиеся вопросов секса или каких-нибудь идей, держались в секрете. И высшая роскошь была явлена мне – не столько умственное или чувственное наслаждение само по себе, сколько радость разделить их за столом с друзьями. Эта роскошь проживала и проживалась в Париже. Будет ли мне дозволено вкусить ее?
С 12 ноября 1990 года я завел привычку ходить в кино каждый вечер и так учился говорить по-французски. Предпочтение я, разумеется, отдавал «французским классикам», которых показывали в маленьких грязных зальчиках, – мне было страшновато даже заходить в них. Через неделю мой блокнотик закончился – вместо того чтобы, как школьник, записывать новые слова, я купил тетрадь потолще и вносил туда целые фразы и выражения, а позже описывал сцены, покорявшие мое сердце. Два с половиной месяца пролетели быстро, я выучил наизусть многие диалоги из «Великой иллюзии», «Большой прогулки» и «Безумного Пьеро».
Когда позволяло время, после кино я, насвистывая, гулял в парках и скверах. Благодаря картинам, которыми я был полон под завязку, и склонности подпитывать мое внутреннее кино, все, что я видел, становилось предметом для рассказа: старик на скамейке, склонившийся над транзистором, обнявшиеся за деревом мужчина и девушка, танцы грязных голубей, женщина, читающая газету, в которой крупным шрифтом сообщалось о трагедии – маленькая девочка найдена мертвой у порога больницы. Эти сцены превращались в кадры воображаемых фильмов и, смешиваясь с моими тогдашними мыслями, создавали ощущение, что неведомая сила несет меня на всех парах к тому неизвестному, что всегда манило меня. Потом, после семи часов вечера, душа и тело связывались в узел, меня настигала тоска по родине и образ матери. Ноги несли меня на берег Сены, на остров Сите, к оконечности сквера Пылкого Любовника[21]. Это был мой вечерний ритуал: вода в даосской мысли – «высшее благо», полезная всему и ни с чем не соперничающая, она подобна пути. Мне, китайцу, вода нужна была, как другим – кружка пива перед телевизором.
Два месяца я повышал свой уровень французского, а когда кончились деньги, мне представился случай поработать в китайско-японском ресторане родственников моих дядей. А потом уроки китайского в даосском центре Седьмого округа позволили мне зарабатывать на жизнь.
Счастье обходится дорого
Сказать, что я полюбил Париж, твердый и узкий, как бедра женщины-недомерка, а потом вдруг просторный и щедрый, – ничего не сказать. В этом городе, не зная его, чувствуешь себя другом, а потом, узнав его немного, оказываешься чужаком и понимаешь, что останешься им навсегда.
В Париже я впервые переспал с женщиной. Мне был двадцать один год. Большие города для того и нужны. В них можно оставаться незамеченным, и без риска ввязываться в сомнительные и даже противозаконные ситуации – здесь в порядке вещей.
В первые два месяца по приезде я никуда не ходил – только в кино и на мой ежевечерний водный ритуал на оконечности сквера Пылкого Любовника. Работал я в ресторане кузена моего отца, китайца с Юга, который платил хорошо и регулярно. Я приходил на работу по вечерам четыре раза в неделю, так что время стало моим лучшим союзником. В один из таких вечеров, когда я бродил, свободный и в мечтательном настроении, по набережной у метро «Ар-э-Метье», мне улыбнулась девушка. Чего она хочет от меня? Я, кажется, ей понравился и очень быстро уловил смысл этой непривычной мне тяги. Эта брюнетка с короткими, слишком короткими, на мой вкус, волосами, матовой кожей и красивыми губками, подкрашенными оранжевой помадой, спросила меня, который час, с напором, слегка встревожившим меня. Увидев, что на мне нет часов, она поинтересовалась, могу ли я выпить с ней кофе. Я пошел за ней так, будто мы уже знакомы. Она смотрит на меня, продолжая улыбаться, смекнув своим рептильным мозгом, что перед ней легкая и практически готовая добыча. Ее взгляд легко скользит по моему лицу. Мы похожи на двух друзей, случайно встретившихся у входа в метро. Пройдя мимо кафе на углу бульвара, где мы должны были бы познакомиться – а я хотел ее туда пригласить, – она идет дальше, резко останавливается у чистенького многоэтажного дома и неторопливо произносит:
– Я живу на третьем.
Я ответил с до сих пор удивляющим меня здравым смыслом, что у меня нет при себе денег. Она указала на банкомат прямо напротив дома, только улицу перейти. К счастью, у меня с собой была кредитная карточка моего патрона, он послал меня за овощами и свежим имбирем и, главное, за желтой шелковой скатертью для банкета. Я извлекаю из автомата немало купюр, но, когда снова оказываюсь внизу, у домофона, девушки и след простыл. Через две минуты дверь открывается – кто-то выходит из подъезда, – а я уже нервничаю и чувствую себя посмешищем. Слышу женский голос с третьего этажа, она говорит что-то про лифт, но я не понимаю. Поднимаясь по лестнице, думаю, что это шанс, и так оно и есть. Дверь слева приоткрыта. Профессиональная искусительница ждет мечтательного китайца. Ее комната, служащая и гостиной, и столовой, и местом для иных «совместных дел», показалась мне шумной, и это успокоило меня. Я не вынес бы тишины. Машины, автобусы и скутеры как будто были со мной в этом усилии. «Давай, – говорил мне Париж, – ты мужчина, не думай ни о чем, твое желание благородно, забудь свое лицо, оно растворится в удовольствии и в поту».
Чуть поколебавшись, я уже беру ее сзади, но девушка умело направляет меня, движения у нее точные и ласковые, она явно знает, как обращаться с начинающими. Прижавшись лицом к ее шее, я прячусь. Перед нами зеркало, я прошу переставить его, что она и делает, протянув руку. Несколько мгновений – и я плаваю в теплой воде, чувствуя себя свободным и легким. Она улыбается, как старшая сестра, играет свою роль тонко, и мне кажется, что ей приятны мои жесты. Какой сильный запах в этой комнате, где буфет красного дерева с широкими ножками, обтянутыми прозрачной защитной пленкой, соседствует с огромным, новеньким, обитым велюром диваном. Духи молодой женщины тяжелые, слишком тяжелые для меня. Я думаю, что решусь сказать ей об этом в следующий раз. Она улыбается мне и объявляет:
– Вот ты и мужчина.
Потом спрашивает, почему я молчу.
– Я не говорю по-французски.
Я бы покривил душой, если бы воздержался от такого оправдания. Она встает и закрывает окно. Зловонная тишина воцаряется в комнате, я больше ничего не слышу. Она подает мне стакан воды, отвечает на телефонный звонок, махнув рукой на ванную. Пора уходить. Но когда я стою под душем, понимая, что мне следует поторопиться, происходит нечто странное, то, что задерживает меня. Совсем новое ощущение заструилось по моему телу. Самые простые жесты – взять мыло, ополоснуть волосы, вытереть шею полотенцем – обрели неожиданную гибкость. Я живу в моих мышцах и членах с грацией и точностью танцора. Я чувствую себя мужчиной – это ново, глупо, но это правда. Возникший у меня перед глазами образ дяди растушевывает незнакомые эмоции. Дядя смотрит на меня, улыбаясь, с удовлетворенным, почти гордым видом. Я спускаюсь по лестнице вприпрыжку и на первом этаже, остановившись, чтобы погладить перила, изгибу которых следую, чувствую силу своих пальцев, сжавших лакированное дерево. Вновь оказавшись на улице у банкомата, я сказал себе, что это все-таки дорогое удовольствие и надо как можно скорее возместить дяде потраченные деньги, увеличив таксу за уроки.
Я наконец-то познал секс, встречу ли я любовь? Я чувствовал, что одно готовит к другому, но запретил себе связывать их напрямую или делать поспешные выводы.
Надо вам сказать, что у меня есть два секрета, которые, в зависимости от времени дня или ночи, либо воодушевляют меня, либо тяготят. Первый секрет, грозный и царственный, наполняет меня гордостью, ибо удаляет от своры, хотя мне случается завидовать тем, кто лает, полагая, что я заблуждаюсь.
Я верю в любовь.
Я верю в любовь, которая снисходит с небес и со-единяет нас, чтобы мы нашли друг друга, когда нас отвлекают всевозможные дела, помогающие о ней не думать. Я верю в любовь, как иные верят в Бога – не потому, что хотят этого, а потому, что просто знают, что Он есть, вот и все. Это не имеет ничего общего с мышлением. Я ношу в себе эту любовь, как ребенка, который опережает меня и ждет рождения, он обязательно появится на свет, вырастет и потом, быть может, уйдет во тьму. Никто в моей семье не посвятил меня в эту тайну, я один ее великий жрец и ученик, алхимик и участник. Я не изображаю чувства – скорее, усиленно сопротивляюсь возбуждению и ловко защищаюсь от физического контакта. К тому же, когда дядя говорил мне о женщинах и о том, как важно их познать, – хотя сам он не был женат, – то всегда заканчивал свою речь, повышая голос, почти конфуцианской сентенцией: «Мы представим тебе ту, что станет матерью твоих детей, и ты должен будешь ее уважать». А потом добавлял с утробным смешком: «Особенно если у нее будет много денег!»
После несчастья я делю с моим дедом второй секрет. Но это не самое главное. Куда важнее та история, которую он любил мне рассказывать, когда чистил сушеные орехи во дворе или когда садился в изножье моей кровати, если мне не спалось.
Это история о Ткачихе и Волопасе, древняя народная сказка моей страны.
Мой дед был талантливым рассказчиком, и я представлял себя этим юным Волопасом, который ушел жить в горы с единственным спутником – буйволом. И какое же счастье для этого юноши вдруг встретить семерых красавиц, спустившихся с небес, и среди них ту самую принцессу, которую ему суждено полюбить и на которой буйвол советует ему жениться.
«Всегда надо внимать советам буйволов, – подчеркивал дед и неожиданно спрашивал: – Мне продолжать? Ты не устал?» Я отвечал, настойчиво сжимая его руку.
И он рассказывал дальше, опуская многие подробности, которые только бы запутали меня. Я хотел знать лишь одно, и Йейе (что значит «дед со стороны отца», но на самом деле он был отцом моей матери) это понимал.
«Ну вот, и Волопас женился на принцессе и попросил ее остаться с ним. Он знал, что она пришла из иного мира, но верил, что любовь снимает все запреты и делает невозможное возможным. Наивный, он и не догадывался, что сама небесная владычица воспротивится этому союзу по той единственной причине, что ее дочь принадлежит небесному царству и в силу своего происхождения должна жить на небесах. И таким же чудесным образом, как однажды она явилась юноше, принцесса возвратилась к своей небесной матери».
К счастью, история не заканчивалась этой разлукой, но я всегда медлил, представляя себе, как принцесса, одна, в море облаков, смотрит вниз, на землю, в поисках своего милого крестьянина, который тоже непрестанно выискивает в небесах знак. Дед в этот момент делал паузу, вставал и подходил к окну, будто бы искал луну в небе, а потом начинал говорить тихо-тихо: «Эти двое, каждый в своем мире, всегда смогут соединиться. Ибо любовь больше желания, и ничто не устоит перед тягой тех, кому судьба предопределила встречу».
Я не все понимал… Но для деда эта история была вполне правдивой. Достаточно посмотреть на звезды. Он заканчивал так: «Представь себе, что, невзирая на запреты, Волопас и его принцесса еще назначают друг другу свидания, но об этом никто не должен знать, это секрет. Они встречаются в седьмой день седьмого месяца на небесном своде, на искусно сшитых перьях ангелов, служащих им мостиком». И тогда я, подпрыгнув от возбуждения, бежал к стоявшему у окна деду; он смотрел в небо, а я – в свое будущее.
Азиатское молчание
Летними вечерами 1991 года благодаря моей работе официанта я знакомился с женщинами. Азиатское молчание не нравится западным мужчинам, они задаются вопросом: что же кроется за нашей сдержанностью? Мы женственны.
И вот однажды вечером, когда в зале было особенно жарко, одна из посетительниц нашего ресторана, дама лет пятидесяти, без конца вытиравшая лоб салфеткой, сухо попросила меня принести вентилятор. Работавший со мной официант-француз бросил на меня задумчивый взгляд, сопровождаемый вздохом, словно говоря: «Не обращай внимания». Но я воспитан по-другому, я приучен всегда и во что бы то ни стало искать решение, чтобы выручить тех, кто оказался в затруднительном положении. Видя, как клиентка ерзает на стуле, я понял, что ей действительно тяжко, и, еще не зная, чем смогу помочь, дал ей понять полуулыбкой, что сделаю все возможное, чтобы удовлетворить ее просьбу. Я поднялся на второй этаж, в маленькую квартирку над рестораном, где от выкрашенных в черный цвет балок шел невыносимый жар – на улице было плюс тридцать пять, – там мой патрон смотрел телевизор и пил теплое пиво. Я сказал, что позаимствую у него вентилятор на двадцать минут. Он был спокоен, никак не отреагировал, так что я смог спуститься с решением в руках к вящему удивлению клиентки, которая, оценив мою неожиданную расторопность и услужливость, предложила мне присесть «на секундочку» за столик к ней и ее подругам. Я этого не сделал. Тем не менее завязался разговор, и вот они спрашивают меня, чем я занимаюсь в Париже, помимо работы в ресторане. Я отвечаю, что приехал учить французский язык и знакомиться с французской культурой. И жду следующего вопроса.
– Политический беженец?
– Да, если угодно.
Та, чье желание я чудесным образом удовлетворил с помощью вентилятора, задерживает взгляд на моем лице, не выказывая брезгливости, – наоборот. Женщина кивает на свою соседку справа:
– Она преподает ФКИ, вам это может быть интересно.
Я не знаю, что это значит, и ухожу принести две рюмки саке на соседний столик.
А послезавтра, как по волшебству, я встречаюсь с преподавательницей ФКИ (французский как иностранный), и она предлагает мне «помочь», давая уроки в те часы, в которые позволит ее расписание. Трех месяцев хватило, чтобы я заговорил на правильном французском и поселился в ее квартире.
Моя преподавательница французского некрасива, но на ощупь прилипчиво мягка. Я наслаждаюсь ею утром и вечером, и мне кажется, будто я погружаю руки и все прочее в кремовый торт. Эта мягкость пьянит меня, я засыпаю и вижу во сне мои секреты. Она гоняет меня по спряжениям, поглаживая мой живот, боится тронуть мое лицо, разве только когда мы целуемся, но это случается нечасто. Так я методично учу французскую грамматику, продолжая работать по вечерам и давать уроки. Мои дни текут незаметно в стенах чистенькой квартирки в Восемнадцатом округе.
Я не понимаю Флору, она живет как будто счастливо. Она родилась в маленьком городке на севере Франции, и ей повезло жить в Париже, где она ни в чем не нуждается. Но Флора недовольна, жалуется на все на свете, в том числе на собственные жалобы, о которых не может перестать говорить. Она регулярно ездит в отпуск с подругами, проводит ночи со мной и пребывает в добром здравии, но страдает злокачественным ожиданием, которое губит все, что попадается ей на глаза. Парадоксальным образом Флора лишила себя всякой энергии желания и малейшего любопытства к миру. Она много говорит, но мало двигается, никогда не смотрит в небо, ненавидит дождь. Она не видит ни красоты столицы, ни комфорта своей тихой квартиры, где мы занимаемся, чем нам вздумается, в том числе любовью, – для меня это немыслимо. Раз в день, следуя беспощадному ритуалу, она ругается по телефону с матерью, вешает трубку, прошипев «черт», и яростно бьет кулаком по подушке, толком не зная, кому предназначен этот жест. Ее мозг работает порой замедленно, а ее воля мумифицируется в прострации перед парой-тройкой профессиональных проектов, вечно отметая идею гипотетической должности за границей или гранта на техническое образование. Ей есть чем подпитать свою скуку, как она это делает со своим котом из страха, что он ее покинет. Ее непомерная мягкость выражает ее смятение: она знает, что я ее не люблю. Однажды утром, в семь часов, она села на кровать, не поцеловав мне руку, и сказала: