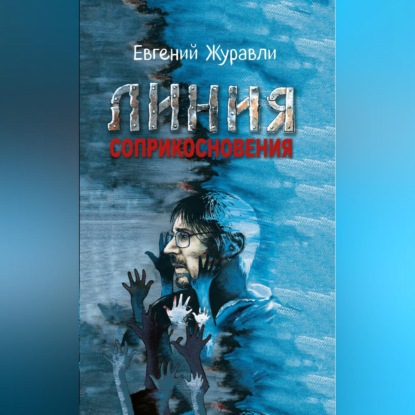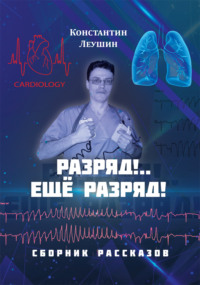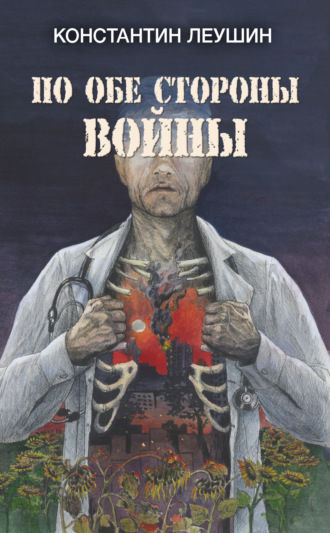
Полная версия
По обе стороны войны
Таким образом, вольно или невольно врачи и медсёстры мариупольской БСМП остались со своими пациентами и работали без отдыха: под общей, местной и анестезией с «крикаином» ампутировали раздробленные конечности и складывали уже никому не нужную детскую обувь в отдельный ящик. Историй болезни они не заводили и обезболивающие препараты не списывали, а сразу вкалывали в приёмнике всем поступавшим с минно-взрывными травмами. Нейрохирургии в городе не было, и при тяжёлых черепно-мозговых травмах медсестра приёмника делала укол морфина, и бедные люди тихо отходили в лучший мир.
В 2022-м в Мариуполе март выдался холодным – от –7 ночью до +5 днём. Никакого центрального и электрического отопления, понятно, не было. Хорошо ещё, что после COVIDa остались тайвеки – спецодежда хоть немного согревала. Хирурги оперировали в холодных операционных, в процессе остановки кровотечения грея руки в грудной полости у слабопульсируюшей аорты или в брюшной полости под печенью пациента. Пациентов с травматическими ампутациями конечностей после операций и перевязок тут же отправляли по «домам», и не было ни одного случая нагноения ран и реампутаций. А тех, у кого дома уже не было, на третьем этаже, в хирургическом отделении, лечили и оберегали два ангела-хранителя. То есть, выражаясь языком заведующего хирургическим отделением, «две мои медсестры, отмороженные на всю голову», которые даже во время бомбёжки не спускались в подвал.
До этих событий я кое-что читал из практики наших знаменитых врачей. Но никому из них – ни Вересаеву, ни Пирогову, ни даже святому Луке (Войно-Ясенецкому) – не приходилось делать кесарево сечение в таких условиях и под бомбёжкой, как довелось выполнять эту операцию зав. хирургией Михаилу Николаевичу и главному врачу БСМП Сергею Евгеньевичу, под анестезией начмеда Ирины Николаевны. Наверное, Лермонтову и Льву Толстому, в своё время побывавшим на Кавказе, даже представиться не могло, что спустя 150–200 лет русскую мать с ребёнком вызовутся сопровождать в роддом большой России два бойца-чеченца и на выезде из Мариуполя погибнут, закрыв их своими телами во время обстрела.
Видимо, Господь Бог уберёг больницу скорой помощи от скорбной участи большинства больниц Мариуполя. БСМП прошил насквозь только один крупный осколок. На пятом этаже, в отделении реанимации, остался след от его входа у кабинета старшей сестры и выхода через палату у поста дежурной медсестры. По счастливой случайности в момент прилёта медсестра вышла покурить, а вернувшись на грохот, увидела на стене у своего стола пробоину с баскетбольный мяч. Раненая девочка 12 лет, лежащая в палате, спросила, что это сейчас над ней пролетело и грохнуло об стену. По входу и выходу этого осколка можно было прикинуть его смертоносную траекторию, которая прошла всего на 10–20 см выше маленькой пациентки.
Ещё меня поразил рассказ зав. травматологией о разделе хирургического инструментария в одной из разрушенных клиник. Он и двое его врачей после бомбёжки четвёртой больницы, не сговариваясь, пришли искать среди развалин уцелевшие хирургические инструменты, чтобы завтра снова, но уже в другой больнице было чем оперировать. Делёж был по законам военного времени: кому что больше нужно для работы. Мой коллега стал счастливым обладателем неповреждённого ампутационного ножа, который после обработки и стерилизации вновь начал бесчисленные ампутации повреждённых человеческих рук-ног.
По словам наших коллег – мариупольских врачей, в марте в полуразрушенном Мариуполе, «когда кончались продукты, чтобы не подохнуть с голоду, мародёрили почти все». И не нам из своих тёплых квартир судить этих сидящих тогда в холодных сырых подвалах голодных людей.
Раненый, контуженый и простуженный на холодных мартовских ветрах Мариуполь, по всем витальным признакам, всё-таки остался жив, но – соответственно тяжести полученной сочетанной травмы – мягко сказать, не вполне здоров. В апреле для выживших, сидящих в холодных подвалах жителей города вешние ручьи зажурчали из разбитых батарей отопления. Воду из них можно было пить, добавив туда что-нибудь перебивающее ржавчину.
Заведующий реанимацией, рассказывая про то, как сам пережил эти два месяца, между прочим вставил:
– И тут – дзынь! – осколок о батарею. Повезло, что не в ногу. А вот одну женщину – мать двоих детей, просидевшую с нами два месяца, так вот осколком и убило. Прямо в голову. Залетел через подвальное окно. Обидно, прямо перед самым освобождением.
Сейчас начало июня, и мы видим, что наш город у моря постепенно согревается и отходит от всего пережитого. Вопреки оценкам тяжести состояния, принятым в реаниматологии, Мариуполь не так быстро, но всё же идёт на поправку.
В период нашей командировки он уже находился в удивительно ясном сознании, контакный и адекватный в лице всех выживших врачей и медсестёр. Интегральную мариупольскую кардиограмму в надписи «Мариуполь жив!» на стене БСМП поразительно точно изобразил неизвестный художник. Как врач-реаниматолог со специализацией по кардиохирургии я увидел, что за редкими электрическими импульсами, не приводящими к сердечным сокращениям, вдруг следует полноценный комплекс QRS с адекватным сердечным выбросом. Далее он переходит в неопределённый, но устойчивый сердечный ритм. И наша задача – поддержать этот ритм жизни и обеспечить достаточный транспорт кислорода по артериям.

По правде сказать, сейчас работы для медицины здесь немного, потому что от некогда полумиллионного города сейчас мало что осталось, и ещё меньше осталось тех, кто ждал нас в 2014-м и выжил при освобождении в 2022-м. Наша миссия была больше гуманитарная, потому что население города сократилось раз в пять. Тем не менее последствия двухмесячного стресса настигали выживших мирных жителей в виде инфарктов и инсультов. Так что работы было хоть и немного, но по профилю. На счастье, в БСМП сохранилась рентгеноперационная и остались местные врачи.
Кто-то до сих пор не может найти своих родственников. По рукам местных ходят списки погибших, похороненных в братских могилах. И в заходящемся плаче маленькой сгорбленной женщины – фельдшера скорой, которая держит в трясущихся руках помятый листок с этим списком-приговором, не разобрать слов: «Рыбонька моя! Пошёл защищать (или зачищать?) Мариуполь…» Нам уже неважно, и нет таких слов, чтобы её утешить, а привезённый российский реланиум действует не сразу. Убежать от этого горя некуда, потому что мы живём и работаем с ними в одной больнице.
Кроме оказания специализированной помощи по кардиологии, мы работаем с хирургами и травматологами. Операций немного, но хирургическая патология тоже характерна для военного времени: застарелые огнестрельные переломы, хронические остеомиелиты, а также грыжи, серомы[30] и гигромы[31], которые только сейчас начали беспокоить.
Собирая у своих пациентов перед операцией анамнез, опять собираешь людское горе: «…нашу машину расстреляли… убили, меня ранили… внучка тоже…» И так бесконечно, вместо многоточия вставляя: жену, сына, дочь, мать, отца, сестру, брата.
Один парень рассказал, что, когда он с семьёй пытался выехать из города, на одном из перекрёстков был украинский блокпост, откуда по их машине, без предупреждения, начали стрелять и убили мать. Кого-то из них ранили. Он, сидевший за рулём, остался цел и невредим. На следующий день как-то добрался до этого блокпоста и спросил у этих захiстникiв: «Вы зачем мою мать убили?» – «Извини, так получилось». Мол, «война, ничего личного». Но полистайте телеграм-канал Следственного комитета, в котором между сухих строк приговоров проступает инфернальный мрак, творившийся в Мариуполе весной 2022-го. По заголовкам статей можно судить о масштабах военных преступлений Киева: «Оглашён приговор военнослужащему ВСУ, виновному в убийстве восьми мирных жителей Мариуполя», «В ДНР осудили военнослужащего ВСУ, виновного в гибели 14 мирных жителей». И все погибшие – с украинскими паспортами, которые последние девять лет здесь же и проживали.
Известный мариупольский хирург на мой вопрос «Как вы относитесь к такому освобождению?» ответил мне за закрытой дверью ординаторской:
– Вы меня поймите. Я был самым счастливым отцом и дедом. У меня двое сыновей: старший хирург-эндоскопист, младший – инженер в международной фирме по производству кондиционеров. Оба женаты, у обоих дети – наши внуки. Я зарабатывал вполне прилично. – Он озвучил свой доход, сравнимый с моей зарплатой в Москве во время недавней пандемии. – Тратить особо было некуда, потому что всё уже и так у нас было: квартира, дача на Белосарайской косе, две машины. Старший, который хирург, зарабатывал ещё больше. Началась война, старший с семьёй успел выехать, но во Львовской области у него обострилась болезнь кишечника и открылось кровотечение. Его положили в больницу, но в переливании крови отказали, так как кровь нужна была раненым вэсэушникам. Мой старший сын умер от потери крови. Его похоронили там же, во Львовской области. Поехать к нему на могилу я не могу, потому что засветился с руководством ДНР и на Украине мне светит 15 лет. Младший – в Канаде. Приехать ни он ко мне, ни я к нему не можем. Жена моя вообще вся извелась, я её первое время боялся одну дома оставлять, со мной на работе сидела, плакала. Ребята, я понимаю, что при Украине года через два за русский язык здесь бы нас просто вешали. И в отдалённой перспективе, может, оно и правильно, что Россия сюда зашла, но постарайтесь и вы меня понять. Мне 60 лет, я тоже ещё пожить хочу как человек…
Голос его сбивается, и слёзы стоят в глазах. Я чувствую, что где-то перешёл грань, прячу глаза и стараюсь перевести разговор на другую тему. Вообще куда-нибудь побыстрей уйти, как раз уже пора в операционную. Говорю как будто оправдываюсь:
– Ясно… извините… больного уже, наверное, подали. Я буду начинать наркоз, а вы подходите…
– Да, да… – Он закрывает лицо руками.
Я выхожу из ординаторской и плотно закрываю за собой дверь. В таких случаях человека лучше оставить наедине с самим собой. Ну зачем же я его так раздербанил? Ведь мы уедем, другие такие же приедут, а они останутся здесь одни со своим горем, забрать которое никто из нас не сможет, даже если захочет.
Местные врачи и сёстры бывших восьми мариупольских больниц сейчас, далеко не в полном составе, принимают больных в 3-й поликлинике и работают в одной, чудом уцелевшей, больнице скорой помощи и в пострадавшей при обстреле областной больнице интенсивного лечения. Несмотря на то что некоторых из них я узнаю по украинским роликам из осаждённого Мариуполя, честное слово, есть желание им помочь, хотя бы по работе.
Почти все пациенты во время предоперационных осмотров задают нам вопрос «А вы будете со мной на операции?», за которым следуют действия, каждому анестезиологу хорошо известные, но здесь, на наш взгляд, просто неуместные. Я привычный, но моего молодого коллегу явно шокируют родственники этих пациентов, поджидающие его за дверью операционной. Видимо, Украина отсюда ещё не совсем ушла, а Россия сюда не совсем пришла, но на стандарты российского медстрахования всё равно придётся переключаться. А пока приходится отбиваться от благодарных пациентов: «Вы с ума сошли? Ничего не надо, мы к вам не за этим приехали». В конце концов я сдаюсь: «Если у вас свой дом или дача, то принесите каких-нибудь ягодок, мы не откажемся». Все довольны, особенно одна врач-педиатр.
Мы – два анестезиолога, командированные из столицы нашей Родины, помимо проведения анестезий при плановых операциях, забираем у наших мариупольских коллег по нескольку дежурств в реанимации. Пусть немного отойдут после непрерывного двухмесячного дежурства с медсортировкой раненых по принципам военно-полевой хирургии и круглосуточной операционной активностью в подвалах.
Мариупольские врачи в свою очередь понемногу начинают нам доверять и больше говорить о том, как приходилось им работать во время штурма города. Одна доктор рассказывает, что работала в том роддоме, на который, как мне писал тогда брат с Украины, «рашисты сбросили авиабомбу». Пользуясь случаем, я хочу сложить пазлы, чтобы мозаика получилась в нашу пользу. Но сама эта доктор говорит: «…Перед тем как произошёл взрыв, почти всех рожениц с младенцами оттуда вывезли, осталось четыре. Самолёт точно не прилетал, но бабахнуло около кислородки (кислородная станция), никого не убило, но одной роженице осколками от выбитого стекла посекло живот так, что пришлось везти её в хирургию. Репортёры, на удивление, приехали быстрее “скорой” и давай снимать!»
У мариупольских реаниматологов, на моё счастье, оказывается очень хорошая память, и на следующий мой вопрос они реанимируют «рашистскiй обстрiл» из пригорода Мариуполя Виноградного в декабре 2014-го. Тогда погибло и было ранено около ста мирных жителей, и брат написал мне, что мы – русские – за это ответим.
– В тот день с утра “скорые” стояли наготове, и нам объявили, чтобы мы после дежурства с работы не уходили до особого распоряжения, – рассказал мне коллега, ставший другом.
– Совпадение? – спрашиваю его.
– Сам подумай, – отвечает он мне.
Конечно, мы, русские, за все эти «совпадения» вам ответим. На ваше счастье, мои свидомые украинцы, до мариупольского аэропорта мы в 2014-м не доехали. «Библиотеку»[32] там закрыли в 2016-м, и «книги»[33] нас не дождались. Но «читать» мы их вас заставим.
Во время наших дежурств в реанимации медсестрички и санитарочки, которые живут с детьми здесь же в свободных палатах, говорят нам, московским врачам:
– Мы столько пережили, стольких потеряли, дома и квартиры разрушены, машины сгорели. Если не будет веры, что все наладится, зачем тогда вообще жить?
По роду своей деятельности я – врач быстрого реагирования, когда минуты своевременного оказания неотложной медпомощи отыгрывают назад часы, проведённые потом больным в реанимации, а часы интенсивной терапии, выигранные в реанимации, отыгрывают назад время, проведённое больным на ИВЛ, и сутки госпитализации. Мы – анестезиологи-реаниматологи – люди разного темперамента, но идеальный анестезиолог-реаниматолог, по определению моей бывшей завкафедрой Днепропетровской медакадемии, – это сангвиник с холерическим уклоном. И это верно, потому что, например, в Москве или в Питере время от поступления больного с острым инфарктом в приёмное отделение сосудистого центра до рентгенхирургической операционной должно составлять не более 20 минут (!), в течение которых врач-интенсивист должен успеть подключить пациента к монитору, собрать краткий анамнез, подписать бумажки согласия на медпроцедуры и дать необходимые таблетки, препятствующие тромбообразованию. Всё это делается под «быстрей-быстрей, поехали!», для того чтобы уложиться в 60 минут временного промежутка door – ballon. То есть, в переводе с медицинского, время от поступления больного с затромбированной коронарной артерией до её открытия в рентгеноперационной и восстановления кровотока должно быть не более одного часа. Тогда есть шанс на восстановление миокарда без рубцов и пожизненной сердечной недостаточности. Каково же было моё удивление, когда при поступлении больного по скорой с обширными инфарктом местные коллеги-кардиологи особо не торопились и были удивлены, когда автор, он же исполнитель, сбегал в реанимацию за морфином и таблетками, после чего сам покатил больного в операционную. А какие варианты, если больной уже в кардиогенном шоке?
Все же видят, что он «загружается», на лбу выступили капли холодного пота, упало АД и по ЭКГ пошли пробежки ЖТ (желудочковой тахикардии)! Но, видимо, люди здесь и правда привыкли к своей боли, поэтому на страдания ближнего особо не реагируют. На этом и других примерах я понял, что не выигранное Россией «время экстренной помощи» Новороссии у них растянулось на долгих восемь лет ожидания. У многих мариупольцев за это время появились рубцы на сердце и признаки сердечной недостаточности.
Да, скорее всего, я холерик без всяких уклонов, но после таких дежурств, наверное, больше похож на меланхолика.
И ведь сердечная недостаточность – это то, что касается кардиологии. А мои коллеги-реаниматологи рассказывали мне о полиорганной недостаточности, то есть о том, что все органы ещё живого человека, привезённого из мариупольского СБУ летом 2014-го, были повреждены настолько, что без искусственной поддержки дыхания и кровообращения этот человек едва подавал признаки жизни.
– А УЗИ, КТ делали? – задал я вопрос, чтобы понять, о чём речь, но так сразу и не понял, потому что мой друг-коллега ответил, что:
– Там и без КТ[34] было понятно, что у него ЧМТ[35], а на УЗИ была видна сплошная гематома. Это был бывший эсбэушник, которого в чём-то они (СБУ) заподозрили и выбивали показания. Судя по тому что просили нас его немного потянуть в сознании, ничего они из него не выбили, но почки и печень человеку отбили. Чтобы они его больше не мучили, мы вводили ему морфин с реланиумом, а в дневниках писали, что «состояние тяжёлое, продуктивному вербальному контакту не доступен». Протянул у нас месяц, а потом умер, не приходя в сознание.
После таких дежурств неудивительно, что реаниматологи, независимо от своего темперамента, иногда похожи на алкоголиков.
Мы, московские врачи, вольно или невольно постоянно слышали разные истории от выживших в этом аду мариупольцев. Честно сказать, через месяц картинка в голове стала несколько другой по сравнению с той, что была в Москве, когда мы читали посты военкоров в своих соцсетях. Конечно, мне, родившемуся и выросшему на Донбассе, приятно, когда местные жители принимают за своего, наверное по сохранившемуся говору, и могут многое рассказать не на камеру и не для печати. Их горькая правда гражданской войны, начавшейся в 2014-м, не всегда бьётся с мейстримом освобождения ДНР.
После приёма немногочисленных пациентов в поликлинике и проведения операций в стационаре мы выходим посмотреть город, а вернее то, что от него осталось. Пройдя от БСМП по чудом сохранившемуся частному сектору, выходим на известный по репортажам Максима Фадеева проспект Металлургов. Разрушенные и обгоревшие многоэтажки, в некоторых домах отсутствуют лестничные пролёты от крыши до подъезда. «Сталинки» с закопчёнными колоннами и надписями на уровне первых этажей «Здесь люди!», «Дети!».
Впрочем, надписи эти не остановили азовцев и вэсэушный сброд, которые оборудовали здесь свои позиции, согласно найденным потом в карманах убитых натовским методичкам. К нашему приезду проспект уже расчищен от сгоревшей бронетехники, упавших проводов и тонн отстрелянных гильз от патронов разного калибра. Наши боевые терапевты и неврологи – любители военных экспонатов и радуются как дети, когда находят гильзы от крупнокалиберного пулемёта или от мелкокалиберной пушки БМП. Я им говорю: а теперь, уважаемые коллеги, представьте тех, в ком сейчас находятся пули и осколки от этих экспонатов. Так же как и мы, совсем недавно они, наверное, гуляли по проспектам и пили пиво в парках. У меня не то чтобы сильно развито воображение, просто год назад я был на Украине и сейчас, глядя на разрушенные кафешки, легко представил их посетителей и влюблённые парочки в парке.
Сейчас вновь пришло лето, и уже началась жара, характерная для южного города. Мы идём по дворам разрушенного Мариуполя, а из сгоревших домов и заваленных подвалов потягивает очень неприятным сладковатым запахом. Подходим к печально известному драмтеатру. Рядом с ним я замечаю импровизированный колодец. Жара донимает, и я хочу умыться холодной колодезной водой, но меня останавливает подошедший с пустыми баллонами мужик лет 40+:
– Ни в коем случае не пейте! Это техническая вода.
– Да я так, умыться…
Мне очень надо узнать, кто же всё-таки взорвал драмтеатр вместе с людьми, и я осторожно вступаю в диалог с неизвестным человеком. Но желаемого ответа, соответствующего моему миропониманию и выводам следственной комиссии ДНР, я не получаю.
– Я точно не скажу, мы в это время сидели в подвале, только взрыв слышали.
Он тоже достаточно осторожен, за последние восемь лет жизнь научила. Но самому тоже интересно, откуда мы такие здесь взялись.
Начинаем знакомиться. К моему коллеге – «боевому» неврологу вопросов нет, а меня он как-то недоверчиво переспрашивает:
– А вы тоже из Москвы?
– Вообще-то я местный, родом из Красного Лимана, но уже двадцать лет как в России, а последние десять живу в Москве.
Его ответ я принимаю как комплимент:
– А… тогда понятно. А то я слышу – по говору вроде как наш.
И он продолжает дальше уже более раскованно:
– Честно сказать, нам досталось ото всех. Первыми были азовцы, которые ещё до начала штурма разъезжали по городу и шмаляли куда хотели. Они же первые начали грабить, а потом поджигать магазины. Оставляя свои позиции, за бутылку дешёвой водки нанимали местных алкашей, чтобы те поджигали оставленные «зaxiстниками» многоэтажки. Не выпускали людей из города и стреляли по машинам. Потом зашли «дэнээры», некоторые из них начали мародерить, открывая двери уцелевших квартир выстрелом в замок. Мы спрашивали: «Что ж вы делаете? Мы же тоже голосовали на референдуме 11 мая 2014-го!» А эти бомжеватого вида люди в касках времён Великой Отечественной отвечали, зажав «мосинки»[36] в мозолистых руках, мол: «Вы потом все эти восемь лет здесь жили – не тужили, а к тому же ещё и фашистов кормили, пока те нас бомбили в Донецке!»
Увы, это неумолимо повторяющиеся случаи в ходе очередной гражданской войны в России. Но сидевшие по подвалам мирные часто не могли видеть и не всегда потом узнавали, как те же самые дэнээровцы из батальонов «Восток» или «Сомали» перед этим спешили освободить их из горящих домов.
Все помнят шутку того времени: «”Аллах Акбар!” – “Ну слава Богу, русские пришли!”» И это была правда: мариупольцы встречали бородачей «Ахмата» как избавление. Эти не обидят женщину с ребёнком и старику окажут уважение, у них так принято. А в случае чего закроют бронированными телами от своих же украинских захiстников или их любiх друзiв, понаехавших сюда «со всего цивилизованного мира». Но в то же время некоторые представители Северного Кавказа, видимо, решили вернуться домой из этого похода, как и положено воину, на коне, добытом в бою. У горских народов так принято, нравится нам это или нет. Наверное, поэтому автопарк мариупольских врачей сократился не только от пожаров и обстрелов.
Я, уже вошедший в доверие, немного отведя этого товарища в сторону, задал в итоге очень провокационный вопрос:
– Ну а наши (российские военные) себя нормально вели?
– Да вы что! – отвечает он громко. – Ваши – это совсем другое дело! Во-первых, нас не обижали. Вообще, все они были вежливые и видно, что вполне образованные люди. При встрече сразу отдавали свои сухпайки, раздавали воду и спрашивали, чем ещё помочь.
Мы знаем, что Мариуполь освобождала Севастопольская бригада морской пехоты. Те, кто по репортажам корреспондента RT Андрея Филатова следил за ходом освобождения Мариуполя, вместе с автором могут подтвердить, что образ русского офицера был воплощён в 24-летнем лейтенанте с позывным «Струна». Дай Бог здоровья этому парню – Герою России!
И ещё этот человек, как и другие мариупольцы, тоже задавался вопросом: «Почему Россия не зашла сюда в августе 2014-го, когда из Мариуполя вышли ВСУ и осталось всего два отряда нациков? Мы же вас так ждали!..»
Мы заходим в разрушенный драмтеатр. Сознательно не буду описывать обстановку, потому что в глубине души мне хотелось оттуда побыстрее уйти. Наверное, энергетика разрушения и души людей, нашедших здесь свою погибель, гнали меня обратно. По сохранившимся оборванным афишам на одной стене в комнате, бывшей, вероятно гримерной, мы поняли, что на май в драмтеатре было анонсировано какое-то действо под названием Liber-Танго. Ну понятное дело, танго – это танец страсти. Но на разорванных пыльных плакатах были изображеноы два деда: один в фуражке с красной звездой и кителе с орденскими планами, а другой в бандеровской мазепинке. Да и х…р бы с ним, с последним, но они в страстном танце сцепили свои руки и щеками прижались друг к другу. Тьфу, б…ь, пи. оры старые! (Простите, дорогие читатели.)
– Это что же у них (украинцев) в головах должно было происходить при просмотре этой мерзости? – спрашивал меня боевой профессор, отец четверых детей.
– Всё, хватит, дорогой Алексей Александрович, отметились и довольно. Пойдёмте отсюда! – отвечаю ему, и наконец мы выходим на свежий воздух.
В следующие выходы в город, когда мы встречали на улицах некоторых его жителей, лично у меня возникал какой-то когнитивный диссонанс между тем, как они выглядели и что при этом нам рассказывали. Во дворе школы № (не помню, не суть) стояла сгоревшая украинская БМП и валялось много стреляных гильз. Мы ходили вокруг и рассматривали намалёванные на стенах трезубцы и ещё не стёртые надписи, оставленные обороняющимися здесь захiстниками, когда к нам подошла «дама с собачкой». То есть прилично одетая женщина средних лет, которая выгуливала вокруг этой школы свою маленькую собачку. Мы поздоровались. Наверное, нам везло, потому что, кого бы мы тогда ни встречали на немноголюдных улицах и во дворах Мариуполя, отношение к нам, россиянам, было (сразу же заметно!) хорошее. Причём ещё до того, как успевали сказать, что мы врачи из Москвы.