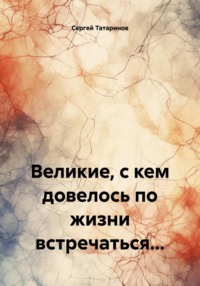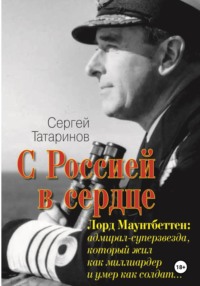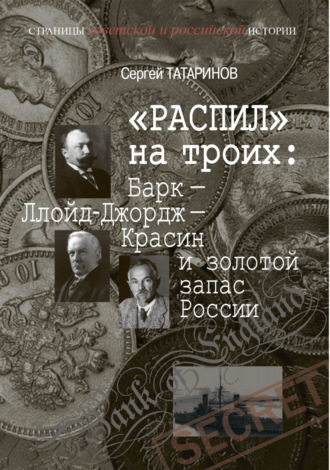
Полная версия
«Распил» на троих: Барк – Ллойд-Джордж – Красин и золотой запас России
О скорой встрече министров финансов союзных держав в Париже хорошо были осведомлены и деловые круги, у которых тоже накопилось немало нерешенных проблем. «Предполагаемый визит Ллойд-Джорджа, – заметил в своем дневнике британский посол во Франции лорд Берти еще 10 января 1915 г., – ожидается в финансовом мире с интересом»[318]. Многие из представителей французской элиты, в частности Эдмонд де Ротшильд, поддерживали близкий контакт с Ллойд-Джорджем. И пусть этот отпрыск влиятельного клана не особо лично вникал в банковские дела, но отлично ориентировался в вопросах политических и сохранял тесные связи с другими представителями рода, ворочавшими большими деньгами.
Необходимо отметить, что никакой заранее согласованной повестки дня не существовало. Ни российское Министерство финансов, ни послы Великобритании и Франции не располагали какими-либо сведениями о вопросах, обсуждение которых предполагалось на встрече. Да и сам Барк, судя по всему, только и знал, что в Париже встретит Ллойд-Джорджа и Рибо[319].
Вообще-то поражает, с каким легкомыслием подходили в Петрограде к организации столь ответственных международных встреч, особенно когда они касались столь актуальных для России вопросов финансирования военных закупок и ведения войны в целом. На тот момент уже было совершенно очевидно, что государственный бюджет трещит по швам, а валютные ресурсы, как для воюющей страны, явно недостаточны.
Военный историк Ю. Н. Данилов[320], занимавший в начальный период должность генерал-квартирмейстера Генерального штаба, т. е. на тот момент фактически руководитель военной разведки России, считает большой ошибкой Министерства финансов, что не имелось «заблаговременных финансовых соглашений с заграницей на случай войны»: «Между тем финансовой солидарности союзных государств несомненно надлежало придать столь же большое значение, как и единству в ведении боевых операций»[321]. Конечно, можно сказать, что задним умом все крепки. Однако очевидно, что, в отличие от многих российских министров финансов, начиная с Е. Ф. Канкрина, создавшего специальный военный капитал, и до С. Ю. Витте, постоянно подчеркивавшего, что главной задачей министра финансов являлась подготовка резерва в денежном обращении к войне, Барк, даже с учетом малого времени пребывания на своем посту до начала боевых действий, отнесся к этой важной задаче более легкомысленно.
Как любил впоследствии повторять Барк, перед отъездом в январе 1915 г. в Париж он не получил в Петрограде никаких инструкций. Ничего, помимо недоумения, не может вызвать его утверждение, что «Совет министров предоставил мне полную свободу действий при ведении переговоров, не связав меня никакими указаниями и даже не высказав никакого определенного пожелания»[322]. Все якобы ограничилось краткой беседой с председателем Совета министров И. Л. Горемыкиным. Барк также явно не горел желанием ограничивать свою свободу маневра и фиксировать хотя бы отправные точки позиции России накануне предстоящих переговоров, которые, как он предвидел заранее, потребуют от него значительных уступок. Именно по этой причине он решил не просить о созыве Комитета финансов, но все же решил подстраховаться и зайти перед отъездом к Витте, который формально являлся его председателем. Возможно, Барку было необходимо сверить свои ощущения понимания того, чего ожидают от него на самом верху, с тем, что думает об этом Сергей Юльевич. Барк и Витте прекрасно знали друг друга, поскольку познакомились буквально с первых дней работы Сергея Юльевича в Министерстве финансов, куда оба пришли в 1892 г. Правда, Петр Львович в качестве младшего помощника столоначальника, а Сергей Юльевич… ну, в общем, понятно, какая их разделяла пропасть в служебном положении. Но попасть в Особенную канцелярию по кредитной части – наиболее привилегированное подразделение финансового ведомства – юноше без опыта работы было очень непросто. Так что, очевидно, за юного Петю нашлось кому похлопотать. И этот кто-то пользовался таким влиянием, что уже через три (!) месяца Барка командировали в Берлин, Лондон и Амстердам. Хотя решение об этом было принято еще до прихода Витте в министерство, Сергей Юльевич тоже не обижал Петра Львовича, регулярно отправляя его в 1893–1898 гг. за казенный счет за границу «набираться ума». И вновь юный Барк подолгу стажировался в крупнейших кредитных организациях западноевропейских столиц, включая Рейхсбанк – центральный банк Германии. Правда, к вышеуказанным финансовым центрам добавился еще и Париж. Вскоре Витте настолько проникся доверием к молодому чиновнику, что в 28 лет назначил Барка управлять Иностранным отделом – святая святых Государственного банка с момента его основания. Это подразделение со времен первого управляющего Государственным банком А. Л. Штиглица всегда находилось под особым личным контролем первых лиц министерства и главного банка страны. Так что Барку и Витте, который частенько в узком кругу любил величать Петра Львовича, особенно после того, как тот занял министерское кресло, «моим сотрудником», было о чем поговорить «по душам».
А может быть, Барку просто требовался сам факт встречи в качестве задела на будущее, когда на беседу с Витте можно будет сослаться как на весомый аргумент в ответ на потенциально возможную критику итогов переговоров в Париже. Ведь, подчеркивает Коковцов, «несмотря на то что он был в явной немилости… влияние Витте было значительным. Он был всегда прекрасно осведомлен обо всем, что говорилось наверху, думал только об этом, учитывал каждый доходивший оттуда слух и с поразительным искусством пользовался им»[323].
Как вспоминает Барк, Витте чрезвычайно разволновался, предельно эмоционально заявив, что «лондонский денежный рынок никогда не был склонен к помещению русских займов». Если же и удастся договориться о кредите, то «на очень тяжелых условиях, как можно судить по первому открытому нам военному кредиту, когда английское правительство настояло на высылке в Лондон части золота из фонда Государственного банка»[324]. Так что в чем в чем а в знании психологии и, скажем так, манер наших западных партнеров Сергею Юльевичу никак не откажешь. Ведь явно неспроста на той памятной Барку встрече накануне его отъезда в Париж Витте особо отметил, что «поездка грозит» министру финансов «очень большими неприятностями».
Надо прямо сказать, что личность С. Ю. Витте в значительной степени демонизировалась в европейских столицах. С первого дня войны в нем видели если не серого кардинала, стоявшего за троном и каким-то чудодейственным образом воздействовавшего на формирование политики России, то, по крайней мере, человека, способного одномоментно изменить характер направления вектора внешнеполитического курса страны. И в Лондоне, и в Париже Витте подозревали в тайных симпатиях к Берлину, панически опасались его «тлетворного» влияния на царя. Лидерам союзников почему-то казалось, что одного слова когда-то всемогущего чиновника будет достаточно, чтобы русская армия не только прекратила воевать с немцами и австрийцами, но и повернула штыки против французов и англичан. Особенно усердствовал в создании такого мнения в Лондоне Бьюкенен, который любые критические высказывания Витте в адрес англичан за нежелание считаться с интересами России иначе как «нападками» не называл[325]. Возможно, только президент Франции стоял несколько в стороне от дружного хора разного рода обличителей и обвинителей, все же признавая, что хотя С. Ю. Витте и «защищает немцев и скептически относится к рассказам о зверствах, совершенных немецкими армиями; однако, при всем своем германофильстве, он верит в победу держав Тройственного согласия»[326]. Вероятно, подобное отношение к нему со стороны Лондона и Парижа не было секретом и для самого Витте[327].
Следует признать, что отношения Николая II и С. Ю. Витте к концу жизни последнего обострились до предела. Сам Витте не скрывал этого и весьма подробно описывает в своих мемуарах их разногласия с царем, постоянно сравнивая поступки сына с деятельностью отца, причем итог явно в пользу Александра III, которого Сергей Юльевич именует «моим» императором. Николай II отвечал ему взаимностью, не стесняясь высказываться о нем негативно даже в беседах с иностранными дипломатами. Говоря о смерти Витте, император якобы заявил главе представительства Франции: «Надеюсь, мой дорогой посол, что вы не были слишком опечалены его исчезновением?»[328] Безусловно, подобное поведение царя не способствовало поддержанию международного авторитета России: разве мог позволить себе монарх так говорить об одном из виднейших деятелей своей страны, тем более в беседе с иностранным дипломатом?
Союзники подошли к вопросу куда более серьезно. Не в пример российским ведомствам, они приложили немало усилий для изучения своего будущего партнера по переговорам со стороны России, его характера и волевых качеств, способности отстаивать интересы своей страны, для выявления его слабостей и уязвимых черт личности. Вот что доносил в МИД Франции в январе 1915 г. посол М. Палеолог: «Барк – любезный человек простого и прямого характера. С точки зрения наших интересов я могу лишь хвалить его. В деловых кругах ему недостает авторитета. Знающие люди уверяют меня, что он не обладает пониманием крупных финансовых проблем и что его рассудительный, но ограниченный ум позволяет ему лишь руководить делами министерства. Я знаю, что он не без опасений согласился исполнить важную миссию, которая ему поручена. В самом деле, он опасается мериться силами с такими известными политическими деятелями, как наш министр финансов… Однако он вполне склонен воспринять его советы, он лишь просит, чтобы им руководили»[329].
Вполне допускаю, что опытный бюрократ попытался так, пусть и несколько завуалированно, польстить Рибо, но все же здесь возникает несколько вопросов, которые, вполне вероятно, появились бы и у любого российского контрразведчика, прочитай он тогда, в январе 1915 г., подобную характеристику на министра финансов своей страны в перехваченной и расшифрованной телеграмме посольства пусть союзной, но все же иностранной державы. Во-первых, что значит «с точки зрения наших интересов»? И, во-вторых, почему иностранный дипломат может «лишь хвалить» Барка? Ну и совсем уж подозрительно утверждение посла, что «он [т. е. Барк] вполне склонен воспринять его [т. е. французского министра финансов] советы». И как понимать, что «он [опять-таки Барк] лишь просит, чтобы им [т. е. Барком] руководили»? Какие советы, и главное – кто руководил?
Но, наверное, этот документ русские спецслужбы тогда не перехватили, или, чему есть многочисленные подтверждения, чины разведки просто предпочли не связываться со столь влиятельным министром, да и к кому пойдет с подобными сомнениями какой-то там штабс-капитан или в лучшем случае подполковник? Его дело писарей ловить или подвыпивших прапорщиков, разбалтывающих в порыве влюбленности и легкого алкогольного опьянения «военные тайны» полковым барышням.
И все же хитроумный Барк не был бы самим собой, если ли бы и здесь не слукавил. Так, несмотря на все утверждения о полном отсутствии отработанной повестки дня для встречи в Париже, впоследствии он сам указывал во всеподданнейшем докладе по итогам конференции, что в программе, сообщенной ему предварительно Ллойд-Джорджем через британского посла в Петрограде, содержались два пункта, представляющие для России особый интерес. Это «3) о способах производства расчетов по заказам военного снаряжения как в нейтральных странах и, в частности, в Соединенных Штатах Америки, так и в Англии и 4) об охранении золотых запасов России, Франции и Великобритании». Интерес же России, пишет Барк в своем отчете, заключался главным образом в пунктах «б) изменение условий кредитования в Англии, в основу коего была положена высылка из России в Англию золота, в известном соответствии с размерами кредитов, открываемых императорскому правительству великобританским казначейством, и в) заключение контрактов с союзными правительствами на поставку из России хлеба, в видах восстановления нашего экспорта, прерванного войною, и улучшения курса нашего рубля за границею, сильно понизившегося за отсутствием вывоза товаров из России»[330]. И в этом весь Барк. У него одно высказывание противоречит другому, не говоря уже о мемуарах.
Вот, наверное, на этот самый «ограниченный ум» и рассчитывал Ллойд-Джордж, внося в программу предстоящих переговоров два вышеуказанных пункта, которые представляют для нас особый интерес.
Но здесь меня занимает один вопрос: насколько морально Барк еще до поездки в Париж был готов к капитуляции? Уж больно своевременно, скорее всего с подачи Барка, стал заранее готовить руководство страны к неизбежности вывоза новой партии золота посол А. П. Извольский. Уже его телеграмма министру С. Д. Сазонову от 20 января / 2 февраля 1915 г. о первом дне конференции содержала грустное признание того факта, что золото придется вывозить. «…Я категорически заявил, что мы не можем высылать золота; должны охранять наши золотые запасы. Очень трудно будет найти формулу такого единения наших интересов, – телеграфировал Извольский, – чтобы мы получили надлежащие кредиты за границей, не ослабляя наших золотых запасов»[331].
Барк добирался во Францию через Румынию, Болгарию и Сербию, а затем из греческих Салоник на крейсере «Аскольд»[332] до Тулона.
Франция на конференции была представлена Рибо, Вивиани и Октавом Гомбергом[333]; Великобритания – Ллойд-Джорджем, Монтегю[334] и Канлиффом; Россия – Барком, Федосьевым[335], Шателеном[336] и Рафаловичем[337].
Итак, мы расстались с Ллойд-Джорджем в тот момент, когда он протянул руку Красину, остановив полет своих воспоминаний о первом разговоре с Барком. Еще до начала первой официальной встречи, попирая все правила приличия и делового протокола, Ллойд-Джордж заглянул к Барку «на огонек» в гостиницу. Канцлер сразу взял, что называется, быка за рога и начал с главного (для себя):
– Меня особенно беспокоит вопрос обеспечения золотом выпускаемых Великобританией бумажных облигаций ввиду незначительного золотого запаса Банка Англии, который намного ниже, чем золотые фонды русского Государственного банка и Банка Франции, – с порога ошарашил он Петра Львовича. Тот на мгновение замешкался…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Георг V (George V; 1865–1936) – сын Эдуарда VII, на троне с 6 мая 1910 г. по день смерти.
2
Хендерсон Артур (Arthur Henderson; 1863–1935) – выходец из рабочей семьи, сын служанки, вынужденный с детства работать в связи с ранней смертью отца-текстильщика, стал активистом профсоюзного движения, а затем и депутатом парламента от лейбористов. Был известен в рабочей среде как «Дядюшка Артур». Во время Первой мировой войны лидер лейбористов, с декабря 1916 г. министр без портфеля в правительстве Ллойд-Джорджа. Выступал «за войну до победного конца», хотя и потерял старшего сына – капитана пехоты – на фронте. После Февральской революции 1917 г. приезжал в Россию, вел переговоры с Временным правительством и Петроградским советом. Министр внутренних дел в первом и иностранных дел во втором кабинетах Макдональда (1924, 1929–1931). Поддерживал политику развития отношений с СССР.
3
Rose K. King George V. London, 1983. P. 369.
4
Стамфордхем Артур Джон (Arthur John Bigge, 1stBaron Stamfordham, Lord Stamfordham; 1849–1931) – подполковник британской армии, личный секретарь и доверенное лицо короля Георга V вплоть до своей кончины. Являлся также личным секретарем королевы Виктории в течение последних лет ее правления. Приходится дедом Майклу Эдварду Адину (Michael Edward Adeane, Baron Adeane; 1910–1984), с 1953 по 1972 г. – личному секретарю королевы Елизаветы II. Молодым лейтенантом артиллерии будущий лорд Стамфордхем принимал участие в войне с зулусами в Южной Африке. Якобы был вызван лично к королеве Виктории с целью изложить ей обстоятельства гибели в той колониальной войне единственного сына Наполеона III – имперского принца Наполеона (1856–1879), считавшегося бонапартистами Наполеоном IV и состоявшего на британской военной службе в звании лейтенанта. Стамфордхем настолько приглянулся королеве, что она оставила его при дворе, где в итоге он дорос до личного секретаря монарха. После смерти Виктории стал работать с наследником, который и унаследовал престол после Эдуарда VII. Имел огромное влияние на Георга V. Сын Стамфордхема погиб в 1915 г. во Франции, будучи капитаном королевских стрелков.
5
Хранитель тайного кошелька и казначей короля (Keeper of the Privy Purse) несет ответственность за финансовое управление королевского дома, в первую очередь за получение частных доходов семьи от недвижимого имущества и из других источников. Имеет штатного заместителя. Хранитель тайного кошелька встречается с сувереном не реже одного раза в неделю. Должность существует с этим же названием и сегодня.
6
Понсонби Фредерик (Frederick Edward Grey Ponsonby, 1stBaron Sysonby; 1867–1935) – сын видного британского генерала, придворного и личного секретаря королевы Виктории, известный как Фриц (Fritz). По сложившейся в роду многовековой традиции начинал карьеру офицером армии, участвовал во второй англо-бурской и Первой мировой войнах. При этом с 1894 г. состоял на придворной службе: с 1897 г. помощник личного секретаря королевы Виктории, затем короля Эдварда VII (1901–1910), а после Георга V (1910–1914). Далее по 1935 г. занимал должность хранителя тайного кошелька и казначея короля, являясь с 1928 по 1935 г. комендантом и управляющим (губернатором) королевской резиденции Виндзор. Будучи выходцем из знаменитой и влиятельной в империи аристократической семьи и высокопоставленным придворным в третьем поколении, пользовался абсолютным доверием трех монархов. В течение 15 лет вел все личные финансовые дела Георга V. Оставил ряд трудов по военной истории, а также мемуары о службе при дворце «Воспоминания о трех царствованиях» («Recollections of Three Reigns»).
7
Макдональд Джеймс Рамси (James Ramsay MacDonald; 1866–1937) – первый премьер-министр Великобритании из лейбористов (22 января – 4 ноября 1924 г., 5 июня 1929 – 7 июня 1935 г.). Вновь занял кресло премьер-министра после выборов в мае 1929 г., по результатам которых лейбористы получили в парламенте 288 мест, опередив консерваторов и либералов.
8
Признание СССР со стороны Великобритании было настолько важно для советской стороны, что когда 3 мая 1924 г. германская полиция провела обыск в здании советского торгпредства в Берлине и арестовала несколько его сотрудников, то в Москве, а точнее в Политбюро, сочли это попыткой «оказать давление на лондонские переговоры для затруднения положения Макдональда и усиления позиций ведущих на него атак консерваторов». Однако из Лондона случившееся выглядело по-другому. Раковский, наоборот, считал, что эти события укрепили позиции Макдональда, поскольку «подорвали пропагандистский миф о наличии тайного союза между СССР и Германией, направленного против Англии и Франции». Красин же вообще полагал, что не стоит раздувать неприятный инцидент (Политбюро ЦК РКП[б] – ВКП[б] и Европа: Решения «особой папки», 1923–1939. М., 2001. С. 29–30).
9
История дипломатии: в 3 т. / под ред. В. П. Потемкина. М., 1941–1945. Т. 3: Дипломатия в новейшее время (1919–1939). С. 292.
10
Раковский Христиан Георгиевич (Крыстьо Георгиев Станчев; 1873–1941) – советский государственный и политический деятель болгарского происхождения. Участвовал в революционном движении на Балканах, во Франции, Германии, России, на Украине. С 23 июля 1923 (хотя назначен 5 июля 1923 г.) по октябрь 1925 г. полномочный представитель СССР в Великобритании, в 1925–1927 гг. посол СССР во Франции. В 1927 г. исключен из партии и сослан в Астрахань. Затем в 1934 г. покаялся, и его восстановили в партии. В 1937 г. арестован под предлогом участия во внутрипартийной борьбе. С началом Великой Отечественной войны расстрелян. В 1988 г. реабилитирован.
11
Чемберлен Джозеф Остин (Joseph Austen Chamberlain; 1863–1937) – министр иностранных дел Великобритании (3 ноября 1924 – 4 июня 1929 г.), ранее неоднократно занимал министерские посты, в том числе дважды был канцлером Казначейства (министром финансов). Занимал резко антисоветскую позицию, хотя в вопросах торговли выступал за нормализацию связей с Россией.
12
23 февраля 1927 г. министр иностранных дел Великобритании Чемберлен направил советскому правительству ноту, в которой обвинил СССР в ведении «антибританской пропаганды», а также потребовал прекратить военную поддержку гоминьдановского правительства в Китае. В ответ в СССР последовала мощная пропагандистская кампания, вошедшая в историю как «Наш ответ Чемберлену». Эта тема стала предметом многих анекдотов советского времени.
13
22 мая 1918 г. декретом СНК, подписанным Лениным и Чичериным, были упразднены звания послов, посланников и других дипломатических представителей и введены должности полномочных представителей РСФСР, то бишь полпредов.
14
Сокольников Григорий Яковлевич (Гирш Яковлевич Бриллиант; 1888–1939) – советский государственный деятель, талантливый администратор и экономист. В 1917 г. на правах товарища (заместителя) управляющего Государственным банком руководил национализацией банковской системы страны, автор проекта декрета по этому вопросу. Возглавлял советскую делегацию при подписании Брестского мира с Германией 3 марта 1918 г. Активный участник Гражданской войны, занимал должности вплоть до командующего фронтом. С 1921 г. в Народном комиссариате финансов, в 1922 г. фактически возглавил это ведомство, а с осени этого года народный комиссар (министр) финансов (до 1926 г.). Возглавлял Комиссию по делам о смешанных обществах при СТО (создана постановлением СТО от 15 февраля 1922 г.). В ее функции входило и рассмотрение дел об образовании кредитных учреждений. С 4 апреля 1922 г. учрежден Главный комитет по делам о концессиях и акционерных обществах при СТО. В 1922–1924 гг. Сокольников руководил проведением денежной реформы, введением в оборот золотой монеты – знаменитого конвертируемого «червонца». Сторонник жесткой кредитно-финансовой политики. В 1928–1929 гг. председатель Нефтесиндиката СССР. С ноября 1929 по сентябрь 1932 г. полномочный представитель СССР в Великобритании. С 1932 г. заместитель наркома НКИД. Затем на хозяйственной работе. В июле 1936 г. арестован по надуманному обвинению, приговорен к 10 годам тюрьмы. В 1939 г. по наущению администрации убит в местах заключения уголовником. В 1988 г. реабилитирован.
15
Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) и Европа. С. 182.
16
В своем совершенно секретном докладе народному комиссару по военным и морским делам СССР от 6 июня 1930 г. начальник Управления моторизации и механизации РККА И. Халепский по итогам переговоров в Великобритании докладывал, что англичане охотнее всего пошли на контакт и готовы допустить на свои заводы наших инженеров. У фирмы «Виккерс Армстронг» (Vickers Armstrong Ltd.) закуплены образцы 20 танкеток, 15 малых и 15 «мидиум» (так в документе, т. е. средних) танков. «Фирма обязалась продать нам чертежи: а) эскизные, б) сборочные, в) монтажные, г) инспекционно-производственные. Также фирма обязалась из всех купленных танков доставить нам сначала опытную партию по 3 шт. каждого типа, с которыми мы сами произведем испытание, после чего мы имеем право внести изменения в конструкцию по своему усмотрению… Фирма обязалась за особую плату дать все необходимые части по нашим спецификациям» (РГВА. Ф. 31811. Оп. 1. Д. 38. Л. 39–53). Это яркий пример того, на что были готовы идти британцы ради торговли с СССР в условиях кризиса. Советская военная делегация во главе с Иннокентием Андреевичем Халепским (1893–1938), дослужившимся перед репрессиями до звания командарма 2-го ранга (условно соответствует генерал-полковнику), прибыла в Англию 30 января 1930 г. Визит и переговоры получились очень плодотворными. На базе английских танков создавались собственные боевые машины. Звучит ужасающе, но Халепского обвинили в участии в военно-фашистском заговоре в РККА и расстреляли уже в день суда.
17
Барк Петр Львович (1869–1937) – выпускник Санкт-Петербургского университета. Начал службу в Министерстве финансов в Особенной канцелярии по кредитной части. С 1894 г. в Государственном банке, стажировался в Берлине в банкирском доме Мендельсона. С 1897 по 1905 г. в Петербургской конторе Государственного банка, директор конторы по отделу заграничных операций. С 1898 г. председатель Правления Ссудного банка Персии. С 1905 г. управляющий Петербургской конторой Государственного банка. В 1906 г. товарищ управляющего Государственным банком. В 1914–1917 гг. министр финансов России. Личность далеко не однозначная. Оставил обширные воспоминания.