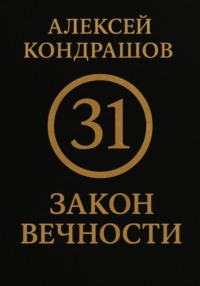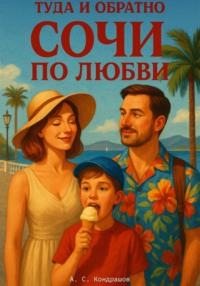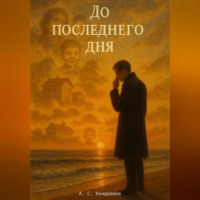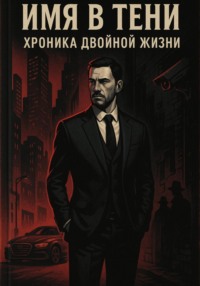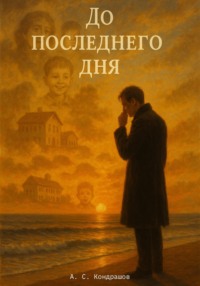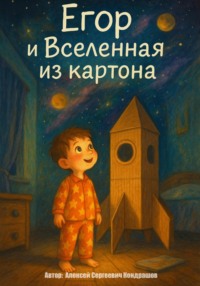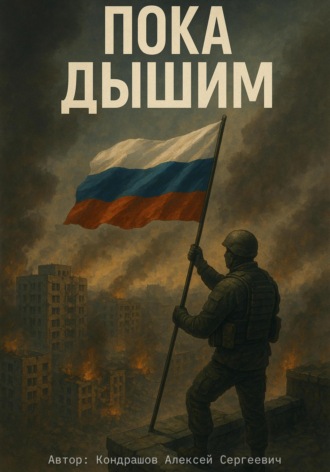
Полная версия
Пока дышим
Полковник молчал, но когда разговор коснулся телефонии и транспорта, вдруг резко заговорил:
– Силовики – с вами. Почти все. Но внутри – каша. Один вчера отказался снимать флаг. Говорит, "у меня мать в Тернополе, она умрёт, если узнает".
– И что вы сделали?
– Уволил. С приказом «по собственному».
Наступила тишина. За окном чайки. Внизу – люди в очереди в МФЦ. Одни – с улыбкой. Другие – как будто на похороны идут.
Тем временем, в школах началась двойная жизнь.
Учительница русского языка, Ирина Васильевна, зашла в класс с пачкой новых учебников. «Литература – 5 класс. РФ». На полке лежали ещё старые – «Мова і література – Україна».
– Сегодня будем читать Пушкина. Не потому что велено. Потому что это красиво, – сказала она вслух, но голос дрогнул. Она сама родилась в Хмельницком. Её брат – в ВСУ. А здесь, в Крыму, она – учитель, мать, жена. И больше – никто.
– А нас теперь в Россию приняли? – спросила девочка с первой парты.
– Да.
– Значит, я теперь не украинка?
Ирина не знала, что ответить. Она улыбнулась, но внутри всё сжалось. И только сказала:
– Ты – человек. А это важнее.
На станции в Джанкое, где раньше разгружали вагоны с украинским зерном, теперь стояли коробки с надписями: «Ростов», «Краснодар», «Анапа». Рабочие спорили между собой.
– Это правильно! – кричал один, грузный мужик с усами. – Нас обратно не возьмут. Мы уже мост начали. Всё – пошло.
– А ты уверен, что к нам не приедут обратно? – с ухмылкой бросил другой. – Вон, в Одессе уже говорят – «Крым наш, только временно отжат».
– Пусть говорят! А мы работать будем. Если не примут – сами примем.
Они молча продолжили таскать ящики. Но страх – остался в их руках. В том, как сжимали ручки тележек. В том, как не смотрели в глаза.
Поздним вечером в одной из деревень под Евпаторией, у костра собрались люди. Вино, закуска, гитара. Но не праздник. Поминки. Погиб местный парень – на блокпосту. Непонятно, кто стрелял. Может, диверсанты. Может – свои. Но умер. Тишина глотала слова.
– У него же мать… – тихо сказала женщина.
– А он говорил: «Крым – это не география. Это выбор». Вот и выбрал, – пробормотал сосед.
– Зря мы… всё это?
– Не зря. Но дорого. Очень дорого, – сказал старик с гитарой и начал играть «Журавли».
И в этот момент все вдруг замолчали. Ветер прошёл между кустами. Кто-то заплакал. Никто не осудил.
На юге, ближе к Феодосии, организовалась тайная группа – «Свободный Юг». Там собирались бывшие активисты, разочарованные в обоих мирах. У них были листовки, идеи, мечты – но не было земли под ногами. Один из них, Никита, писал в блокноте:
«Мы живём между двух истин. У одной – орлы на гербе, у другой – тризубец. Но ни одна не дала нам ответ, кто мы есть. Может, мы просто Крым? Без меток? Или быть без флага – значит, быть никем?..»
Но даже эти размышления – уже были свобода. Пусть и одинокая.
А в Москве, в высоком кабинете, министр обороны смотрел карту. Красные точки – блокпосты. Зелёные – административные здания. Синие – зоны риска. Он закрыл папку и сказал Президенту РФ:
– Крым держится. Люди растеряны, но костяк есть. Если мы не отпустим сейчас – он станет опорой. Для будущего.
– Он уже стал, – сказал Президент и посмотрел на экран, где транслировали парад в Севастополе.
И в этот момент миллионы на полуострове смотрели в небо – как над бухтой прошли самолёты.
И в каждом сердце был один вопрос:
«А дальше?»
Часть IV. «Кухня Валентины Николаевны».
Дождь стучал по подоконнику редкими ударами, будто кто-то осторожно пробовал пальцами старое стекло на прочность. В кухне пахло варёной картошкой, луковой зажаркой и крепким чаем. Стены были окрашены выцветшей зелёной краской, в углу стоял советский сервант с потемневшими бокалами и стопкой книг, перевязанных шпагатом. Валентина Николаевна сидела за столом, прижимая к груди вязаную шаль, и смотрела на паспорт, лежащий на клеёнке. Российский. Новый, с ещё хрустящей обложкой. Рядом, в сложенной стопке, лежал её украинский, с облезшими краями и старой фотографией, где она была совсем другой – моложе, с крепким взглядом и тонкими бровями. А теперь глаза у неё были уставшие, но не сломленные, как у тех, кто слишком многое пережил, чтобы бояться.
На плите шипел чайник, и в углу посапывала Машенька – внучка, забравшаяся на стул с ногами, с книжкой о космосе. Девочка ещё не понимала, что произошло с её страной. Её реальность – это буквы, мама в халате, горячая каша по утрам и фотография деда на стене. А у Валентины – реальность другая. В этой реальности рушились города, перекраивались границы, рушились идеалы, обещания, и приходилось выбирать. Каждый раз – выбирать, снова и снова. Сначала – когда рухнул Союз. Потом – когда пришлось говорить на украинском, чтобы устроиться учителем. Потом – когда отключали газ и пенсии приходилось ждать неделями. Потом – когда на площадях начали кричать о ненависти к России.
Сосед Александр Степанович постучал, не дожидаясь ответа, открыл дверь и вошёл, оставив на коврике мокрые следы от кирзовых сапог. В руках у него был мешок с картошкой и газета.
– Валь, ты чё одна сидишь в темноте? Электричество ж дали!
– Думаю, Саша, – тихо ответила она, – вот, получила паспорт сегодня.
– Ну и правильно. Давно пора. Тут всё уже своё – магазины, автобусы, врачи. А вон – мост построили. А ты всё колебалась…
– Это ты так говоришь. А мне, знаешь, будто в груди что-то хрустит. Я с этим тризубом жила всю жизнь. Я в школу украинскую детей вела. Я верила, что будет мир… А теперь всё – будто отрезали.
– Отрезали? Да нет, Валюха. Отрезали – это когда война. А это – просто возвращение. К своим.
Он снял фуражку, прошёл на кухню и налил себе чаю, не спрашивая. Валентина не возражала. Они знали друг друга с 1982-го, когда вместе сидели в родительском комитете. Их разговоры давно уже не требовали церемоний.
– Я вот думаю, – сказала она, подперев щеку, – всё это на самом деле не из-за границ. Не из-за языка. Всё – из-за страха. Люди боятся друг друга. И от этого становятся зверьми.
Машенька оторвалась от книги:
– Бабушка, а ты теперь русская?
Валентина повернулась, посмотрела девочке в глаза, долго и с грустью. Потом наклонилась, поцеловала в макушку и прошептала:
– Я теперь – чтобы ты спала спокойно.
Тишина зависла между стенами, пока на плите булькала кастрюля. Александр посмотрел в окно, где проезжала машина со стройматериалами. На боку был логотип известной строительной компании Севастополя.
– Ты знаешь, – сказал он негромко, – я вчера видел, как парень один плакал. Стоял у флагштока, на площади, с маленьким сыном. А потом просто упал на колени и шептал: «Спасибо, что не забыли». Это не политика, Валюха. Это боль, которой дали понять: её кто-то видит.
Она молчала. Смотрела на пепельницу, где ещё лежал одинокий окурок, и думала о муже. Он бы сейчас сказал: «Выбирай сердцем, а не телевизором». Он бы, наверное, всё равно остался при своём мнении. Но он уже не мог говорить.
– А знаешь, – пробормотала она, – когда я сдавала украинский паспорт, я перед этим долго держала его в руках. И не хотела рвать. Не хотела выбрасывать. Потому что это – не бумага. Это я там, на той фотографии. Это я, которая верила.
Александр кивнул.
– Так и я, Валюха. Мы все там были. Только теперь – здесь. И здесь нас, по крайней мере, слышат.
Валентина встала, подошла к плите, выключила чайник и подала Машеньке кусочек пирога.
– А мы сделаем, знаешь, что? Пирог в форме Крыма. Я научу тебя. Только с вишней – чтобы был с кислинкой. Как жизнь.
Машенька улыбнулась. Она не знала, что такое геополитика, границы, референдумы. Но она чувствовала запах вишни, тепло рук бабушки и уверенность в том, что завтра снова будет утро.
А Валентина в тот момент поняла – не важно, что написано на обложке паспорта. Важно, за кого ты переживаешь. За тех, кто живёт рядом. За тех, кто ещё не знает, как тяжело давались эти выборы. За тех, кто ещё будет жить в этой земле. А значит – за Россию. Потому что теперь это снова – их дом.
ГЛАВА 5. Первые выстрелы. Донбасс в огне.
Утро в Снежном пахло горелой пылью и горячим металлом. Воздух был натянутым, как тетива на старом луке. Гудели провода, где-то лаяла собака, и ворон срывался с крыши, как будто почувствовал неладное. Люди шли вдоль облупленных домов молча, с сжатыми губами, держась поближе к стенам. На стене школы №3 висел объявленный приказ: «Остановить продвижение украинской колонны. Все мужчины приглашаются на пункт сбора у стадиона». Ни подписи, ни печати – просто маркером на листе А4, приклеенный скотчем.
Артём, бывший шахтёр, сжёг этот лист взглядом, свернул за угол и ускорил шаг. Он шёл в сторону местного Дома культуры, где собирались мужчины – не солдаты, не офицеры, просто местные. Кто с охотничьим ружьём, кто с арматурой. У некоторых были «Сайги», у кого-то – автоматы, «переданные» из подвала бывшей части МВД. Здесь не было строя. Только взгляды. Суровые, пустые, по-детски злые.
– Здорова, Тёмыч, – кивнул его сосед, Гриша, уже с бронежилетом на груди.
– Ты чего, с «мосинкой» пришёл? – усмехнулся Артём.
– А что, дед воевал, и я буду. У меня другого нет. Да и не в железе дело, брат.
Внутри было шумно. Кто-то разбирал ящики с патронами, кто-то клеил кресты на каски из медицинского пластыря, кто-то просто сидел на подоконнике и смотрел в окно. Подвал напоминал сцену, где каждый играл свою роль, не по сценарию – а по совести.
Командир – мужчина в форме без знаков отличия – говорил негромко:
– Колонна с БТРами движется из Краматорска. У них порядка 70 человек. Мы должны остановить. Или хотя бы задержать. Иначе завтра утром у нас тут будет украинская комендатура и флаг с тризубом над администрацией.
– А если не получится? – раздался чей-то голос.
– Тогда они зайдут в ваши дома. К вашим женам. К вашим детям. Как в Славянске. Как в Мариуполе. Кто-то из вас будет лежать на улице, как собака, а кто-то – смотреть, как забирают ваших родных. Выбор за вами.
Тишина. Потом – шелест вставшего со стула Артёма. Он взял каску, нацепил на голову, будто шапку. И вышел первым. За ним – пятнадцать человек.
На блокпосту пахло бензином, маслом и страхом. Доски, покрышки, мешки с песком, куски труб, старые дорожные знаки – всё это было щитом. Символическим. Но упрямым. Артём стоял за мешками, держал автомат и думал не о бое. Он вспоминал мать. Как она поила его из кружки с надписью «Донецк – сердце шахтёра». Он вспоминал свадьбу – не пышную, но с настоящим салютом, и как пахли руки его отца – углём, смолой и любовью.
В наушнике прошипело:
– Видим колонну. БТР, два «Урала», пехота.
– Ждём сигнал, – ответил Артём.
Они не были профессионалами. Они были людьми, которые стали солдатами потому, что иначе – смерть. Не потому, что хотели убивать. А потому что их поставили перед выбором – исчезнуть или выжить.
Первый выстрел не был громким. Но за ним всё пошло, как по цепочке. Загудели моторы, хлопнуло где-то в стороне, в небе разорвался чёрный дым. Артём дал очередь, потом упал, перекатился, дал ещё одну. Кто-то закричал – не от боли, а от ярости. Словно за всё. За годы унижений. За презрение. За то, что их называли «сепарами» и «мразью». За то, что у них отнимали будущее, и они решили взять его обратно.
Бой длился двадцать семь минут. Когда всё затихло, и осталась только гарь, и тела, и кровь, и тяжёлое дыхание, Артём снял каску и просто сел на землю. Он не знал, сколько убили, сколько потеряли. Он знал только одно – они выстояли.
Подъехал старый «УАЗик». Из него вышел человек в кожанке, с повязкой. Командир.
– Молодцы, – сказал он. – Сегодня вы написали первую страницу своей свободы.
Артём не ответил. Он смотрел на дым, на выжженные травы у обочины, на пустую гильзу у своей ноги.
– А завтра? – тихо спросил он. – Мы будем такими же, как они? Или хуже?
Командир положил руку ему на плечо.
– Мы не выбираем – кем быть. Мы выбираем – за кого быть. И если ты сражаешься не за власть, не за звёзды на погонах, а за землю под ногами, за ребёнка дома, за правду – ты не станешь таким, как они. Даже если будешь стрелять.
На дороге валялась растоптанная кепка. Кто-то поднёс к ней зажигалку и поджёг. Она вспыхнула – как память о том, чего не вернуть.
Артём встал, посмотрел на солнце сквозь пыль и гарь, и пошёл обратно к блокпосту.
Где-то в глубине души он понял: теперь пути назад нет.
Когда Артём вернулся к блокпосту, его встретил мальчишка – лет десяти. Маленький, с потрёпанным рюкзаком за спиной и глазами, в которых было слишком много взрослости.
– Дядя, – сказал он, – вы победили?
Артём устал улыбнулся. Прикрыл глаза от пыли.
– Сегодня – да. Завтра – не знаю.
– А если вы проиграете?
Он присел на корточки рядом с пацаном, положил ладонь ему на плечо.
– Тогда ты вырастешь. И попробуешь снова. Потому что землю, где похоронены наши деды, не забирают без боли. И без правды.
Мальчик кивнул. Вынул из рюкзака банку тушёнки и протянул ему.
– Мама передала. Сказала – у бойцов не всегда есть еда.
Артём сжал кулак, чтобы не дрожали пальцы. Он взял банку и кивнул:
– Спасибо, брат. Скажи маме: мы не дадим их сюда пустить.
Мальчик побежал обратно по дороге, перепрыгивая через гильзы. На спине у него висел флажок – с надписью «Донбасс не сдается».
Артём развернул банку, уселся на шинную кучу и ел прямо ложкой. И в этой тушёнке с перцем, в этом жестяном металле, он почувствовал не просто вкус – а смысл.
ГЛАВА 6. Стекло в крови, голос в огне.
Старый вокзал в Дебальцево дрожал от каждого далёкого удара. Окна были заколочены стальными листами, а крашеные доски покрывались свежими трещинами от постоянной вибрации. На полу лежала кровь – не свежая, но не застывшая. Кто-то недавно погиб здесь. Кто-то – ушёл, а кто-то остался насовсем.
Медсестра Надежда, тридцать шесть лет, когда-то работала в санатории в Славянске. Сейчас – волонтёр в подвале бывшей кассы. Здесь стояли носилки, коробки с бинтами, пластиковые канистры с водой, и тепло – это было живое, человеческое тепло – пахло йодом и страхом.
– Ты где это подцепил? – спросила она у парня лет двадцати, в военной форме без знаков. Его рука была перебинтована, но кровь пробивалась сквозь марлю.
– Арта накрыла… – выдохнул он, – возле насыпи. Мы с «Пастухом» тащили подбитого из-под «Ноны». Он не выжил.
Надежда молча разрезала повязку, обработала рану и начала заново заматывать. Её руки были привычно быстрыми, но взгляд – затуманенным. Она почти не моргала.
В это время в дальнем конце станции, где раньше стояли туристические автобусы, шёл совет командиров. Старший по званию, мужчина с позывным «Дед», держал планшет с картой. Он говорил низко, как будто каждое слово могло вызвать артиллерийский залп.
– Украинцы снова тянут «Гиацинты». Значит, ждём тяжелую артподготовку. Нам нужно укрепиться вдоль железки и не пустить их к мосту. Это наш рубеж.
– Они ж давят не только техникой, – хрипло сказал один из ополченцев, – у них теперь в батальонах нацгвардии понапихано, из «Правого сектора»… Им без разницы, кто перед ними.
– Значит, тем более – стоим. Уходим – вырежут всё: и село, и стариков, и школы. Не отдадим.
В это же время, в Ростове-на-Дону, в узкой комнате без окон, звучал приглушённый разговор. Министр обороны смотрел в монитор, где отображалась карта Донецкой области.
– Ситуация у Дебальцево критична. Но и переломная. Если они захлопнут «мешок», можно будет говорить о стратегическом успехе.
Президент встал. Отошёл к окну. За стеклом – ночь, проливной дождь, фонари гудели желтым светом.
– Мы не имеем права проиграть. Ни там, ни здесь. Донбасс – это не просто территория. Это русский мир, выжженный и всё ещё живой.
Он обернулся:
– Дайте тем, кто держит Дебальцево, всё, что возможно. Включая то, что «невозможно» по бумагам. Они держатся за нас – мы не можем не держаться за них.
На станции снова загудела сирена. Батарея украинских «Градов» ударила по окраине, загнав пыль внутрь вокзала. Стекло треснуло. Пыль впиталась в дыхание. Молодой связист вскочил и побежал к рации, а медсестра Надежда, не подняв головы, продолжала перевязывать следующего.
Вдалеке за вокзалом кто-то запел. Глухо, страшно, как стон – старая женщина, с седыми волосами и выжженной душой, стояла у входа и пела:
– Вставай, страна огромная…
Вставай на смертный бой…
К ней никто не подходил. Её не останавливали. Она пела – и вокзал дышал этой песней, как молитвой.
Ночь тянулась, как кровь по разбитой плитке. А под утро – пришло радио:
– Внимание, всем постам. Дебальцевский котёл замкнулся. Наши взяли высоту у Михайловки. Командование украинских сил начало отвод остатков…
И на секунду – даже воздух остановился.
Медсестра Надежда впервые за три дня села на стул. И позволила себе заплакать. Не рыдать. Просто – дать капле пройти по щеке. Одной. Достаточно.
А на улице рассветал серый донецкий день. С запахом угля, крови и тихой надежды. На том мосту, что ещё держался, кто-то написал белой краской:
«Мы здесь были. И мы – остались».
ГЛАВА 7. Чернозём под сапогом.
Донбасс. Июль 2014 года. Мариновка – Саур-Могила.
На горизонте висело серое марево. Земля под ногами была тяжёлая, чёрная, напитанная кровью, потом и гарью. Этот чернозём помнил всё: шаги советских солдат в Великую Отечественную, гусеницы танков, которые шли в Прагу, и теперь – снова грохот, только уже родного против родного.
Дым висел над хуторами, как саван. Ветер доносил запах горелого пластика, бензина и жареной земли. Было душно, липко, и солнце било в спину, как паяльник. Пахло смертью.
Командир с позывным «Худой» вышел из окопа, закурил, глядя в сторону разрушенной церкви. Колокольня давно лежала в траве, как мёртвая птица. Из-под неё торчали провода и куски кирпича. На стенах оставались ещё следы фресок – Богородица с отбитыми глазами и ангел без крыла.
– Тихо сегодня, – сказал он и бросил взгляд на бойца рядом.
– Перед бурей всегда тихо, – отозвался молодой парень с позывным «Зуб». У него на бронежилете была приколота медальон-подкова, подаренная сестрой перед тем, как он ушёл в ополчение. Тогда ему было восемнадцать.
– Жрать есть? – спросил «Худой».
– Консервы. Те же, что три дня назад. Только холоднее.
Он сел прямо на землю. Рядом стояла пулемётная лента – мокрая от росы. Из дома неподалёку вышла старушка с ведром.
– Это мой дом, – сказала она. – Я не уйду. Тут похоронен муж, и сын, и ещё трое. Что мне теперь, жить в подвале?
– Бабушка, тут позиция. Уходите в укрытие.
– Вы сами уходите. А я останусь. Меня уже ничем не испугаешь.
«Худой» вздохнул и кивнул бойцу:
– Возьми её под руки, отведи в подвал. И не груби.
Ближе к вечеру налетели «Грады». Сначала один залп – и сад за домом исчез. Вторая очередь легла по дороге. В воздухе повис звон, как в старом телевизоре, перед тем как гаснет экран.
Связист кричал в рацию:
– Арта по нам! Связь с Тарасовкой потеряна! Нас прижимают, нужна подмога!
– Подмоги не будет, – сказал «Худой» спокойно. – У нас тут единственный подмога – чернозём, который нас не предал.
Он поправил каску, проверил автомат и пошёл в траншею. Парни смотрели на него, кто с надеждой, кто с усталостью, кто с пустыми глазами. Им было по двадцать, максимум двадцать пять. У кого-то в кармане – фото любимой, у кого-то – письмо от отца, где тот писал: «Сын, ты прав. За землю стыдно не умирать».
В штабе ЛНР тем вечером было тревожно. Генератор гудел, как комар. Люди сидели в камуфляже, лица – серые от недосыпа и напряжения. Кто-то слушал Москву: говорили о санкциях, о переговорах, о мире.
– А мы тут, – сказал один из командиров, – не за переговоры. Мы тут, потому что нас вычеркнули из страны, в которой мы родились. Нам сказали: «Вы – лишние». Но мы – не лишние. Мы – её соль.
– Россия нас не оставит, – сказал второй. – Уже идёт помощь. И политическая, и гуманитарная. Просто не всё сразу.
– Пока не сразу – тут дети гибнут. В Алчевске – ребёнка завалило бетоном. В Стаханове – бабушке ногу оторвало. Что дальше?
Все замолчали. Потом кто-то в углу произнёс:
– Не отступим. Даже если останемся с вилами.
Под Саур-Могилой бой начался ночью. Небо разорвали трассеры, воздух дрожал от взрывов. Пахло гарью, металлом и горячей кровью.
«Худой» шёл в атаку. Позади него – пятнадцать человек. Перед ними – украинские позиции, вооружённые до зубов, с броней, миномётами и беспилотниками.
Он не думал. Только слышал, как кричал «Зуб»:
– За Дом! За мать! За Донбасс!
Они падали, вставали, стреляли. Один упал с простреленным плечом, второй – без ноги. В уши било: «Отходим! Отходим!» – но «Худой» не отступил. Он полз через пыль, кровь, осколки, через лица мёртвых друзей, через запах палёного мяса и мокрой земли.
И когда взял высоту – на секунду всё замерло.
Ветер трепал флаг, прикреплённый к антенне. Знамя Новороссии. Он коснулся его рукой. И закричал:
– Мы здесь! Мы живы! Мы встали! И вы нас не согнёте!
Когда всё стихло, в село снова пришла тишина. Сгоревшие дома стояли, как призраки. В подвале бабушка заваривала чай. У неё тряслись руки. За столом сидели дети. Кто-то из них спросил:
– А теперь война кончится?
Бабушка молчала. Только смотрела на щель в потолке, откуда капала вода. Потом тихо сказала:
– Нет, милый. Она только началась.
На стене сарая кто-то мелом написал:
«Нас не сломить. Мы – корни этой земли».
И чернозём под сапогом – он помнил всё. И будет помнить.
ГЛАВА 8. Крест на броне.
Луганская Народная Республика. Осень 2014 года. Перевалка. Прифронтовая зона.
Медленно зажигался рассвет, и серое небо, похожее на оловянную плиту, начинало отливать бледным светом. Над землёй висел туман, смешанный с гарью и влажной травой. В воздухе пахло сыростью, железом и старой соляркой. Издалека доносились отголоски канонады – будто кто-то бил в гигантский барабан, с каждым ударом вырывая кусок спокойствия из сердца.
На рассвете по полю шёл танк. На броне сидели двое. У одного – ряса, крест на груди и крепкие руки. Это был отец Пётр. У второго – автомат на коленях и свежая повязка на шее. Его звали Артём. Ему было двадцать три.
Они ехали молча, только двигатель урчал, как уставший зверь. Вокруг – выжженная степь, пепельные деревья, покосившиеся телеграфные столбы. Проехали мимо искорёженного детского автобуса, пробитого снарядами. На стекле осталась детская ладонь – в пыли, замершая навсегда.
– Почему вы здесь, батюшка? – спросил Артём, не поворачиваясь.
– Потому что здесь мой народ, сынок. И Бог – тоже здесь.
– А если нас убьют?
– Значит, я буду там, где те, кого уже не вернуть. С ними и с Богом. А ты – ещё жив. Значит, должен защищать.
Артём кивнул. Он не верил ни в политиков, ни в телевизор. Он верил в землю, в мать, в отца, в пахнущие дымом улицы родного города. Его дед погиб под Берлином. Отец строил мосты. А он – воевал. Не за флаги. За правду.
Они прибыли на блокпост к окраине Перевалки. Вокруг – мешки с песком, разбитая техника, дыры в стенах. Бойцы пили крепкий чай из эмалированных кружек и курили молча, глядя в сторону лесополосы. Там – противник. Уже вторую неделю шли бои за ферму, где раньше разводили коров. Теперь там штаб, мины, и смерть.
– Батюшка приехал, – сказал командир с позывным «Боров». – Надо бы службу отстоять.
– Кто живой, пусть выходит, – сказал отец Пётр. – Кто ранен – я к ним сам.
И он пошёл. В каждый блиндаж. К каждому. Слово – как бинт. Вода – как исцеление. Он молился с теми, кто уже не верил. Крестил тех, кто только что хоронил друга. Смотрел в глаза тем, кто не знал, доживёт ли до вечера. А потом вышел в круг, где бойцы выстроились, и сказал:
– Мы не убиваем. Мы защищаем. Это – разное. Если вас спросят: «Зачем вы здесь?» – ответьте: «Чтобы зло не вошло в дом». Вы – стена. И если вы сломаетесь, за вами – дети. Больницы. Школы. Храмы. Память.
Тишина стояла глухая. Потом кто-то подошёл. Протянул кусок ткани.
– Это от матери. Сказала – передай батюшке. Она у меня шьёт. Под броню подкладку. Чтобы не жгло.
– Спасибо. Я её сохраню.
В тот вечер на ферме было жарко. Украинская артиллерия накрывала с холма. Земля вибрировала, как барабанная кожа. Один из снарядов разнёс будку с генератором. Пошёл огонь. Началась паника. Артём метнулся к рации:
– Связи нет! Нас отрезали!
Отец Пётр не ушёл в укрытие. Он оставался с ранеными. Поливал водой губы, говорил слова надежды и молился. Говорил шёпотом: