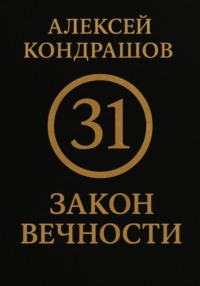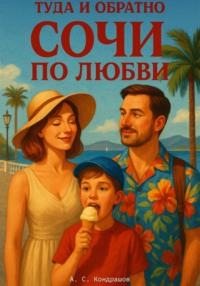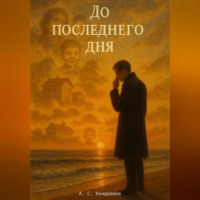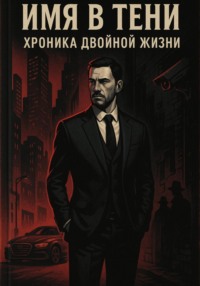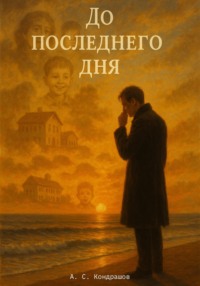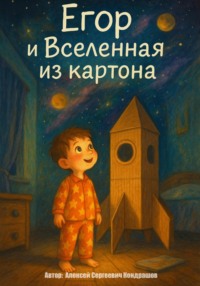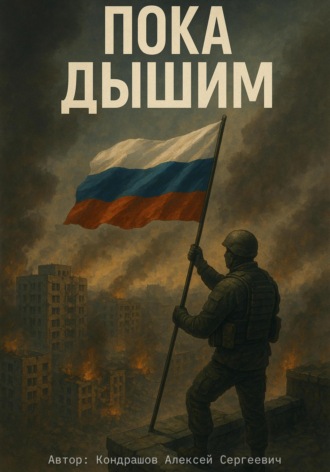
Полная версия
Пока дышим
– Я больше не сирота, – сказала она.
Часть IV. Голоса. Тени. Свет.
Вечер опустился над Крымом мягким, влажным покрывалом. Где-то в горах стелился туман, а в городах зажигались фонари – как звёзды на тёмной карте полуострова. Люди возвращались с избирательных участков. Кто-то в усталой тишине шёл домой, кто-то – сдержанно улыбался, кто-то глядел в небо, будто ожидая ответа оттуда.
На окраине Симферополя, в старом доме, в подвале, где пахло пылью, тёплым хлебом и старой краской, прятались три семьи. Кто-то говорил, что возможны провокации. Кто-то слышал, что в городе действуют группы националистов, и лучше сегодня не высовываться. Железная дверь подвала была закрыта, но не заперта. Люди сидели на деревянных ящиках, кто-то держал чай, кто-то перекладывал игрушки в сумке. Мальчик лет восьми молча рисовал фломастерами на картоне, пока бабушка качала на коленях младенца. Радиоприёмник на батарейках потрескивал. Из динамика – голос официального Киева, резкий, ледяной, как ветер в феврале:
– «Мы не признаем никакой легитимности этому фарсу. Крым – часть Украины. И останется ею навсегда.»
Мужчина, бывший военный, выключил приёмник, не говоря ни слова. Все переглянулись. В подвале воцарилась напряжённая тишина, в которой вдруг прозвучал детский голос:
– А если будет война?
Никто не ответил. Бабушка лишь накрыла мальчика платком и прошептала:
– Мы уже в ней, солнышко. Только, может быть, сегодня она здесь закончится.
Тем временем в Ялте, в старой церкви, пахнущей воском и временем, священник вытирал свечи. В притворе стоял юноша, растерянный, с глазами, полными гнева и боли. Он подошёл к отцу Алексею и дрогнувшим голосом сказал:
– Батюшка, меня сегодня обозвали предателем. Сосед. Сказал, что я – предатель Украины. А я просто хотел, чтобы мою бабушку в больнице понимали, когда она говорит по-русски…
Отец Алексей поднял взгляд, в котором не было ни осуждения, ни страха. Только тишина, похожая на воду.
– Предаёт тот, кто сеет злобу, – сказал он тихо. – А ты сделал выбор. По совести. А совесть – это голос Бога. И если ты услышал его – ты не предатель, ты свидетель.
– Свидетель чего?
– Что мир возможен. Даже после крови.
В ту же самую минуту, в мечети в Севастополе, Имам Абдулрахман закончил молитву. В зале было тихо – десятки мужчин, женщины, старики. Лица настороженные, тревожные. Он поднялся на минбар и посмотрел в зал, как будто искал что-то глубже, чем взгляды.
– Я слышал страх. Что нас выгонят. Что нас забудут. Что Россия – не для нас. Но сегодня я услышал другое: Россия – это сосед, который не закрыл дверь. Это человек, который спросил: «А ты как?»
Люди слушали молча. Кто-то тихо всхлипывал.
– Мы не политики. Но мы люди. И мы молимся не за границы. Мы молимся, чтобы больше не бояться своего языка. Своей памяти. Своего прошлого. И если это – возвращение, то мы идём домой.
Тем временем в доме под Алуштой семья накрывала стол. Плов. Соленья. Домашний хлеб. Бабушка расставляла тарелки, внук подошёл к ней с листком бумаги, исписанным фломастерами. Он протянул его:
– Смотри, бабушка. Это – Крым. Я нарисовал его как наш. Вот – флаг. А здесь – Керчь. Я её жёлтым сделал.
– Почему жёлтым?
– Потому что там будет мост. Чтобы мы не были одни.
Женщина прижала его к себе и дрожащим голосом сказала:
– А ты знаешь, откуда ты, внучек?
– Из Крыма. Из России.
И где-то в другой части полуострова, у окна старого дома, сидел инженер. Его руки дрожали, в пальцах – старая газета девяносто первого года. Тогда он был другим. Работал на Николаевском заводе. Делал корабли для огромной страны. А потом – она исчезла. Как будто у человека забрали имя.
Он смотрел в окно, где над улицей развевался триколор. И вспоминал, как когда-то кассирша в заводской столовой сказала:
– Теперь вы – не из России. Привыкайте.
Он закрыл глаза. Глубоко вдохнул. И сказал сам себе – почти шёпотом, но с такой уверенностью, будто говорил миллионами голосов:
– 23 года мы были никем. Нас называли чужими. Заставляли забыть язык, род, правду. Но сегодня… сегодня мы вернулись. Не в империю. Не в идеологию. А в себя. Россия вернулась. И мы – с ней.
Он поставил кружку на подоконник и долго смотрел на улицу, где звенели колокола, доносился азан из мечети, и в окне напротив смеялись дети.
Все эти звуки сливались в одну симфонию. Многоголосую. Больную. Но живую.
Крым не стал другим. Он стал собой.
ГЛАВА 3. ДОНБАСС. ЗЕМЛЯ, КОТОРАЯ НЕ СДАЁТСЯ. Часть I. Пепел. Хлеб. Плач. Гнев.
Донецк. 15 марта 2014 года. Вечер.
Пыль стояла в воздухе, как дым после пожара, хотя огня ещё не было. Только зреющий. Только тот, который уже стучал в землю и шёл по рельсам из Киева. Донецк готовился. Тихо, как перед грозой.
Анатолий Егорович, бывший шахтёр, а теперь продавец картошки на рынке, стоял у прилавка и смотрел, как закрываются магазины. По городу расходились слухи: "Боевики едут", "Нацгвардия шлёт эшелоны", "Будет зачистка".
Он затянулся самокруткой и сплюнул в пыль.
– Ты посмотри, – сказал он соседке по ларьку, – как быстро можно снова стать «врагом». Только за то, что говоришь по-русски и не хочешь целовать запад в сапог.
Старуха молча кивнула.
– И ведь кто нас спросил? – продолжал он. – Кто пришёл на площадь и сказал: «Люди, как вы живёте?» Только камеры, маты, приказы.
Вдалеке послышались первые удары по мусорным бакам – молодёжь собралась у театра. Развевались флаги. Не сине-жёлтые, а иные – красные, бело-сине-красные. Кто-то держал плакат: «Мы – Донбасс, а не колония».
На площади у облсовета начали ставить баррикады. Старые покрышки. Деревянные поддоны. Металлические стеллажи, принесённые из заброшенного склада. Люди приносили всё – мешки с песком, проволоку, еду, чай.
Появился он – высокий мужчина лет сорока, в камуфляже без знаков отличия. Позывной – "Хан". Говорили, бывший военный. Говорили, из России. Говорили, местный. Никто не знал точно. Но он умел говорить так, как будто держал в руках время.
– Нас завтра будут давить, – сказал он. – Поэтому сегодня мы должны стать крепче стали. И если здесь кто-то просто пришёл посмотреть – лучше уходите. А кто остался – готовьтесь. Это не митинг. Это защита.
Старик в плаще с советским орденом на груди протянул ему фляжку.
– За то, чтобы правду не продавали, сынок.
В Донецке пахло весной, гари, чаем и страхом. Люди расходились, но площадь не пустела. Каждую минуту кто-то подходил, приносил что-то – бинты, одеяла, бензин, икону, флаг. Это уже не была толпа. Это была крепость. Импровизированная, но настоящая.
В эту ночь, под воя собак и звук новостей, где Киев гремел фразами про «единый народ» и «сепаратистов», Донбасс впервые за много лет почувствовал себя – по-настоящему живым.
Живым – и готовым сражаться. За хлеб. За дом. За правду. За право не быть частью чужой лжи.
Часть II. Блокпост.
Донецк. Апрель 2014 года.
Тяжёлое небо давило на город, будто сама весна ещё не решилась, стоит ли возвращаться. В воздухе висела густая пыль, перемешанная с дымом от сожжённых шин и чем-то ещё – металлическим, ржавым, старым, будто всё вокруг начало медленно ржаветь изнутри. Донецк затаил дыхание. После штурма облсовета город словно завис между двумя мирами: ещё не война, но уже не мир.
На перекрёстке у старого театра был выставлен первый блокпост. Покрышки, мешки с песком, арматура. Всё собрали за день – сами, своими руками. Сюда шли не боевики и не солдаты. Сюда шли шахтёры, студенты, пенсионеры, у которых тряслись руки, но глаза были твёрдыми. Сюда шли те, кто не уехал.
Среди них был Андрей. Тридцать пять лет, бывший преподаватель истории. Читал лекции о Сталинграде, о Византии, о русских князьях, а теперь держал в руках автомат, который, возможно, вчера кто-то откопал на складе МВД. На нём не было оптики. Он пах маслом и старой кожей. Рядом стоял Славка – молодой парень в затёртой куртке с дыркой на локте. Ему было двадцать два, он работал на шахте имени Засядько, когда шахта ещё работала. Сейчас он был с автоматом – и с глазами, как у тех, кто уже понял: назад дороги нет.
На блокпосту пахло дымом, горелой резиной и каким-то супом – кто-то из женщин принес кастрюлю прямо с кухни. Носили по кругу, разливали в одноразовые стаканчики, кто-то молча благодарил, кто-то прикрывал глаза от усталости. Один из парней, Валера, заваривал чай в алюминиевой кружке – он принёс её из дома. С ней он раньше ходил в походы. Сейчас – в окопы.
– Ну и что ты скажешь своей, если завтра сюда танки поедут? – спросил Славка, выдыхая на ладони. Было холодно, хоть и весна.
– Скажу, что стоял. Что не отвернулся, – ответил Андрей. Он смотрел в темноту дороги, куда могли прийти. Оттуда. С той стороны.
– Думаешь, приедут?
– Думаю, уже выехали. Просто медленно едут.
Вдалеке слышался лай. Где-то хлопала калитка. Город ещё не уснул, но уже не жил – он выжидал. Люди ходили у стен, смотрели в окна, фотографировали флаг над облсоветом. Для кого-то он был символом боли. Для кого-то – свободы. Всё зависело от сердца, а не от телевидения.
Из-за угла появилась женщина – Лариса Ивановна, медсестра с тридцатилетним стажем. Её знали в половине района. Она принесла бинты, зелёнку и пакет с хлебом. И ещё маленький крестик на нитке, который отдала Славке.
– Надень. С ним легче, – сказала она, и её голос звучал, как молитва, усталая, но твердая.
Славка надел. Потом отвернулся и вытер лицо.
Чуть поодаль сидела Маша – девочка лет шестнадцати, в куртке не по размеру. Она писала в дневнике. Никто не спрашивал зачем. Она говорила: «Если нас когда-то спросят – это всё, что останется». Её слова звучали странно в этом грохоте шин, среди автоматов и рычания раций. Но именно эти слова держали многих.
– А если никто не спросит? – однажды заметил Андрей.
– Всё равно, – ответила она. – Память не зависит от телевидения.
Ночью пошёл дождь. Он стучал по покрышкам, по каскам, по плечам. Вода текла по бетону, по затоптанным ботинкам, по лицам. Но никто не расходился. Все стояли. Стояли и ждали. Может быть – приказа. Может быть – начала. А может быть – света.
На рассвете пришёл мужчина – в пиджаке, как на работу. У него был флаг на древке, самодельный. Он поставил его рядом с мешками и сказал: «Теперь вы – не просто пост. Вы – граница». И ушёл. Не сказал имени. Но его запомнили.
Андрей тогда тихо сказал:
– Это не просто война. Это – память о том, кем мы были. И кем не позволим себя сделать.
И в этих словах была не политика. В них была тишина утреннего Донецка, запотевшие окна, старые иконы на стенах, холодная балка в руках, похороненные друзья, которых ещё не убили, но которых уже чувствовали внутри. Это была правда. Та, которую не напишут в газетах.
Солнце поднималось медленно. Над облсоветом развевался флаг. Под ним не было армии. Под ним были люди. Люди, которые стояли. Не ради власти. Не ради политики. Ради того, что в их сердце называлось одним словом: дом.
Часть Ill. Первый бой. Рождение Республики. Смерть и клятва.
Запах гари витал в воздухе, будто город выкурил пачку дешёвых сигарет и оставил бычки под ногами у своих детей. Шины дымились медленно, тягуче. Они не просто горели – они плакали. Горько, чёрно, по-угольному. Блокпост, где ещё вчера стояли с кастрюлями супа, за ночь стал бастионом.
Утро пришло с тревогой. Андрей проснулся не от звука, а от чувства. Будто изнутри кто-то сжал сердце. Он встал, отряхнулся от пыли и взглянул на небо. Там не было солнца. Только глухой серый купол, как металлический потолок – давил, звал в подвал, шептал: «Скоро».
Славка уже был на ногах. Он смотрел вдаль, туда, где начиналась трасса на Красноармейск. В его глазах была тишина. Такая тишина, которая кричит. Андрей подошёл, молча встал рядом.
– Едут, – сказал Славка. – БТР. Два. Может больше.
И в этот момент время сжалось. Всё стало ощутимее. Холоднее. Ближе. Как будто с неба сорвали вуаль – и стало видно небо над рвом. Крик над полем. Выстрел – как начало новой жизни.
Женщин быстро увели с блокпоста. Кое-кто остался – медики. Те, кто уже знал, как завязывать артерию на коленке. Маша сидела с дневником, но теперь не писала. Она только смотрела. А потом вдруг поднялась, подошла к Андрею и сказала:
– Если умрёшь, я всё запишу.
Он кивнул. Не было времени на поэзию. Было только решение. Остаться.
Первый выстрел пришёл с юга. Сухой, резкий, как хлёст по спине. Откуда стреляли – никто не понял. Но один из парней – Витька с Волновахи – упал сразу. В грудь. Без крика. Словно ему просто отключили звук.
Славка бросился к нему, потом – назад, за мешки. Пули свистели, как осиное гнездо. Они врезались в землю, в металл, в броню чужих машин. Андрей прижался к баррикаде, ощупал автомат, почувствовал, как руки дрожат. Он не был солдатом. Никогда. Но в этот момент стал им.
Он выстрелил. Просто на звук. Просто вперёд. И тут же – отскок, звон, искры. Где-то рядом загрохотала граната. Земля содрогнулась, будто сердце Донецка вырвали и бросили на асфальт. Один из мешков с песком вспоролся, пыль ударила в лицо. Снег из каменной муки. Прах из будущего.
– Назад! Перекрыть фланг! – кто-то кричал. Голоса были неразборчивыми, но в них жила жизнь. Та, которая кричит перед смертью.
Славка перебежал через открытое пространство – его куртка развевалась, как флаг. Он бросил под ноги врагу бутылку – горела, как солнце. БТР затормозил. Пламя поднялось до небес. Кто-то внутри закричал. Кто-то снаружи затих.
В этот момент крикнул Андрей. Не потому что был ранен. Потому что понял: это не просто бой. Это – рождение. Вот оно, здесь. Через кровь. Через гари. Через голос погибшего Витьки, который больше не скажет ни слова, но теперь – навсегда часть этого места.
– За него! За дом! За нас! – закричал Андрей, и голос его прорезал дым, как штык. За ним – остальные.
Они выбежали из укрытия. Их было мало. Плохо вооружённые, без формы, без приказа. Но за ними стоял город. Он смотрел в окна. Он стучал ложками по кастрюлям. Он молился. Он ждал.
Бой длился меньше часа. Но за это время изменилась реальность. Отступили. Один БТР подбит. Один сдался. Из него вышли срочники – совсем пацаны, испуганные. Славка их не тронул. Только плюнул в сторону и сказал:
– Едьте к матерям. Пусть знают, кого сюда шлют.
Когда всё затихло, город замер. Из подвалов вышли люди. Кто-то аплодировал. Кто-то шептал молитвы. Кто-то просто стоял, смотрел на выжженное поле, где теперь лежали тела. И понимал – сегодня родилась Республика.
Андрей подошёл к телу Витьки. Снял с него кепку. Уложил аккуратно. Потом посмотрел на небо. Оно немного прояснилось. Где-то в просвете появился свет. Словно кто-то включил лампу над страной.
Он встал, глотнул воздуха и сказал:
– Мы не просили этой войны. Но теперь, когда она здесь – мы не отступим.
И в этот момент старик из соседнего двора – бывший офицер, с тремя медалями и слезами в глазах – подошёл к баррикаде, снял фуражку и сказал:
– Даю клятву. Как в сорок первом. Мы не пустим их.
Все молчали. Только Маша записывала. Каждую фразу. Каждую мысль. Каждую слезу.
Так родилась Республика.
Из боли. Из веры. Из пепла.
ГЛАВА 4. НА ОСТРОВЕ МЕЖДУ МИРАМИ. Часть I. «СОЛЬ И ВРЕМЯ».
(март – апрель 2014 года, первые недели после воссоединения Крыма с Россией)
Звуки меняются первыми.
До того как сменится власть. До флагов. До указов. До новых документов.
Раннее утро. Село под Евпаторией. Скрипит калитка. Где-то вдали – звук, непривычный, щелчком рвущий воздух. Это не стрельба. Это – гусеница танка пробуксовывает на песке.
Сергей стоял у колодца, опустив ведро в тугую, ледяную воду. На его лице – морщины, как старые трещины на крымской соли. Он был когда-то агрономом, потом продавал арбузы на трассе, потом сидел без работы, потом – в охране. Сейчас он снова агроном, но бумаги об этом не было.
Он вылил воду в ведро и прислушался. Шорох шин. Кто-то приезжал. Кто-то уезжал. Уже третью неделю на полуострове, словно после землетрясения, менялась сама ткань мира.
– Серёжа, иди ешь! – крикнула жена из дома. – По радио сказали – школы теперь будут по Москве. Надо внука записывать.
Он ничего не ответил. Только сел на крыльцо. В руках – газета. Украинская. На обложке – заголовок: «Распад невозможен. Киев держит юг». Он скомкал её и кинул в ведро с водой. Газета зашипела, будто обиделась.
На другом конце полуострова, в Балаклаве, над бухтой поднимался утренний туман. Там, где раньше стояла украинская часть морпехов, сейчас было пусто. Только двое солдат в форме без шевронов курили на крыше блокпоста, и ветер шевелил над ними полоску ткани с надписью: "Русская весна", нарисованную маркером на старой простыне.
К ним подошёл лейтенант Громов. Молодой, с жёстким лицом. Он только неделю назад прибыл на полуостров – в составе подразделения, обеспечивавшего охрану критических объектов. На вид ему было двадцать пять, но глаза были сорокалетние.
– Воронцов. Доложи: сколько осталось? – спросил он у бойца.
– Двенадцать. Остальные подписали рапорт и уехали в Одессу. Без формы. Некоторые – просто в гражданке. Тихо.
Громов кивнул. Он знал: тишина – страшнее, чем выстрел. Особенно здесь, где каждый третий – с родственниками на другой стороне.
– Народ как?
– Ждёт. Молчит. Смотрят новости, но сами себе не верят.
– Значит, нужно время.
В офисе мэрии Симферополя – было тесно, пахло кофе из старой машины и новыми чернилами. На стене – портрет Владимира Владимировича. Ниже – старая карта Украины с выцветшим Крымом.
За столом сидела начальница паспортного стола, Маргарита Львовна. Перед ней – очередь из людей с детскими лицами. В руках – старые украинские паспорта, в глазах – вопросы, которые никто не решался произнести.
– Следующий! – голос у неё был натренирован годами. Суровый, но не злой.
К окну подошёл парень лет двадцати. Худой, в куртке на ватной подкладке.
– Я… Это… У меня отец в Николаеве остался. А мать здесь. Я хочу гражданство. Но…
– Ты где прописан? – перебила она.
– Здесь. В Симферополе. У матери.
– Значит, проблем не будет. Отца не спрашивай. Ты взрослый.
Он не знал, радоваться ему или плакать.
– А если война? – прошептал он.
Маргарита Львовна оторвала взгляд от бумаг.
– Тогда лучше быть дома.
В ту же ночь, на трассе под Джанкоем, шел дождь. Он был тёплый, апрельский. Как будто в небе что-то отпустило. В «Газели» с чёрными номерами сидели трое мужчин. Молчали. Один доставал из ящика флажки. Другой перебирал коробки с надписью: «Учебная литература. История России».
– Ты думаешь, они примут? – спросил один.
– Не все. Но у нас нет задачи всех уговорить. Время покажет.
– А Донбасс? Там сложнее.
– Там больнее.
Они замолчали. Дождь бил по крыше, как пальцы по барабану. Ритм судьбы. Стучал – не спрашивал.
В Феодосии, в небольшом книжном, старик по имени Юрий раскладывал на полке новые книги. С утра привезли – первые из Москвы. Пахло свежей типографией. Он взял одну, прочитал название: «Крым. Возвращение домой».
И вдруг заплакал. Молча. Просто слёзы текли по щекам, как по стеклу.
Жена, заметив это, подошла, обняла.
– Ну, всё… Всё… Это же только начало.
Он кивнул, вытирая лицо.
– Да. Но в первый раз за сорок лет я знаю, что мы не одни.
Вдалеке, за горизонтом, где уже гремело в Славянске, где готовился к бою Донецк, ещё никто не знал, что эта весна будет не концом, а прологом.
И Крым – был не островом. А мостом между двумя эпохами.
Часть II. БРАТЬЯ ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ.
Апрель. Ялта. Ветер с моря приносил вкус соли и розы.
По центральной набережной шли два брата. Один в гражданке – Денис, тридцать два, поджарый, в тёмной рубашке, с медальоном на шее. Второй – в форме, с погонами ВСУ. Артём. Младший. Приехал на три дня «повидаться».
Идти им было неловко. Молчание между ними было, как стена изо льда, которую каждый обходил кругом, боясь уронить хоть слово.
– У тебя всё в порядке? – первым заговорил Артём.
Голос звучал сдавленно.
– У меня да. А вот у нас – не знаю. Тут всё вверх дном. Одни радоваться боятся, другие – мстить.
– А ты что думаешь?
Денис остановился у прилавка, где бабушка продавала домашний мед. Пахло липой и солнцем. Он вдохнул.
– Я думаю, что мы вернулись. Но не уверены, примут ли нас. Даже вы, братья, смотрите, как на чужих.
– Я… – Артём хотел возразить, но замолчал.
В этот момент с другой стороны улицы прошла женщина с ребёнком. Ребёнок кричал:
– Мама, мама, смотри, флаг! Наш флаг! Российский!
Мать улыбнулась, но глаза у неё были тревожные.
Денис и Артём остановились, переглянулись. И каждый подумал, но не сказал: а какой флаг наш теперь? И где он – наш дом, если мы друг другу больше не можем сказать правду?
Вечером того же дня, в Севастополе, возле склада, где теперь собирались гуманитарные посылки для Донецка и Луганска, двадцать человек грузили коробки с продуктами, медикаментами и одеждой.
Анжела, медсестра в отставке, с мужем офицером на пенсии, держала в руках тетрадку и записывала отправления. Она впервые за десятилетия чувствовала, что её руки делают что-то важное. Не просто бинты, не просто уколы. А дело сердца.
– Вон ту коробку – в Донецк. Там детское. Надпиши: от Крыма – с надеждой, – говорила она волонтёру-подростку.
Парень молча писал фломастером. Потом спросил:
– Тётя Анжела, а почему мы помогаем? Они ж не Крым…
– А кто сказал, что сердце делит по границам? – ответила она. – Они свои. Они такие же, как мы. Просто позже проснулись.
– А если Киев узнает? – прошептал кто-то рядом.
– Значит, мы всё делаем правильно, – спокойно ответила она и повернулась к остальным. – Загрузка!
На крымской окраине, в селе под Армянском, в тот же вечер старик Иван, ветеран Афгана, в маленьком доме с облупленными обоями, принимал гостей – двух мужчин из Луганска. Они приехали без документов, только с рюкзаками и усталыми глазами.
– Вы уж извините, – сказал Иван, – у меня тут тесно, но стены тёплые. Не кинут.
Один из приезжих, Михаил, тридцатилетний учитель истории, вздохнул:
– У меня брат в Киеве. Он говорит – мы предатели. А я просто хочу, чтоб сын пошёл в школу без страха. Я устал бояться.
Иван налил чая.
– Знаешь, что самое главное сейчас? Не бояться думать своей головой. Всё остальное приложится. Главное – быть с теми, кто слышит.
– А ты думаешь, Россия поможет?
Иван медленно кивнул:
– Она уже рядом. Просто ты пока этого не понял. Смотри не глазами – сердцем.
В этот же вечер, на вокзале в Симферополе, стояла девочка – семилетняя Лиля. В руках – плюшевый заяц. У неё умер отец, украинский офицер, погибший при выезде из части в Бахчисарае. Мать отправляла её к бабушке – в Тулу. На временное, говорила. Но Лиля понимала – это надолго.
Паровоз затрещал, поезд готовился к отправке. Мать стояла рядом, глаза сухие, губы трясутся.
– Мам, а я ещё вернусь?
– Вернёшься, солнышко. Когда всё закончится.
– А что закончится?
Мать не ответила. Только обняла крепко.
Очень крепко. Как будто прощалась с тем временем, в котором была её прежняя жизнь.
А над полуостровом летали чайки. Они не знали ни флагов, ни границ. Только небо и волны.
А под этим небом люди на острове между мирами – вглядывались в закат и не знали, что скоро их судьба станет примером и началом для других городов – Мариуполя, Херсона, Донецка, Луганска…
Часть III. «ЛЮДИ С ПОЛОВИНАМИ ФЛАГОВ».
Севастополь. Май. 2014.
Запахи сирени, шум черноморской воды, плеск парома в бухте – всё смешалось с тревогой, которая больше не шептала – кричала. На улицах мелькали взгляды – не приветливые, не враждебные, а выжидающие. Как будто каждый спрашивал соседа: Ты кто теперь?
В мэрии города – утро. Кабинет, перегретый солнцем. Внутри – трое. Один в костюме с блестящими пуговицами – бывший чиновник от Киева. Второй – новый, молодой, с усами, назначенный исполняющим обязанности. И третий – молчаливый полковник в форме, сидит в тени.
– Мы не можем просто взять и переподчиниться Москве! – повышал голос первый. – У нас тут активы, связи, инструкции. Давайте говорить честно: половина служб ещё на киевской зарплате!
– А половина уже ушла, – тихо ответил исполняющий. – Кто в Ростов, кто в Донецк. А кто – в подполье. Люди выбрали. Город выбрал. Остальное догонит.