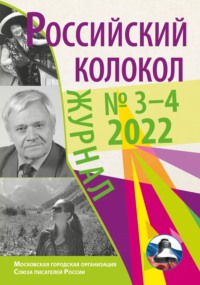Полная версия
Журнал «Юность» №06/2025
Марина Мишанина

Родилась в 2003 году в Нижнем Новгороде. В детстве занималась танцами, вокалом и актерским мастерством. Участвовала в различных творческих конкурсах и занимала призовые места. Снималась в фильмах, с 2019 по 2022 год состояла в труппах частного и любительского нижегородских театров, с которыми отыграла несколько спектаклей, любимый среди которых – по «Чайке» А. П. Чехова, где исполняла роль Маши.
The Long Face
Рассказ
– Хорошо. А можешь задрать юбку повыше?
Конечно могу. Чего мне это стоит? Мне шестнадцать, я еще не успела отрастить уважение к себе. Да и, в конце концов, это просто профессия.
Приподнимаю подол черной юбки. Материал не вспомню. Самый обычный, в общем-то, материал. Такой, на котором со временем от долгой носки появляются катышки. Я пальцами нащупываю эти катышки и говорю себе, что скоро начну зарабатывать много денег и куплю черную плиссированную юбку в пол.
А мужчина передо мной тем временем осматривает мои ноги. Недоверчиво так осматривает. Я бы даже сказала, презрительно. Может быть, он пытается разгадать, не куриные ли ножки прячутся под плотными черными колготками. Этот мужчина вообще выглядит как тот, кто вполне мог бы назвать женщину курицей. Дура – слишком банально. Что-то покрепче – не позволит эстетика и воспитание. А вот курица – это ретро. А еще «курица» будто бы запаковывает женщину в пластик и кладет на прилавок. Что, в общем-то, вполне соответствует профессии.
Вот этот мужчина осматривает мои ноги. Просит пройтись, и я, шатаясь на маминых каблуках, нелепо семеню вперед, надвигаюсь прямо на них.
– Поза! – кричит откуда-то сбоку фотограф, и я замираю, как олень в свете фар.
Мужчина за столом, все время следивший за моим неуклюжим шагом, шепчет рядом сидящей женщине с укладкой на дайсон: «Не то». И женщина переводит мне, будто бы я абсолютно тупая, будто бы я не считала презрения, выделяющегося сквозь поры на их обмазанных плотным тоном лицах: «Извините, но вы не наш формат».
Конечно же, не ваш. Быть откровенной, я даже не свой собственный формат. Я даже не формат одногруппников из театральной студии. Я разонравилась им, когда подросла почти на десять сантиметров и стала совсем большой. Они перестали украдкой прикасаться к моим ногам своими холодными с улицы пальцами и задерживать меня в объятьях чуть подольше, чем остальных, уже взрослых девчонок.
Я выхожу в коридор, громко хлопаю дверью. Это выходит непреднамеренно, но я не стану отрицать, что мне нравится произведенный эффект. Две девчонки в очереди, пугливо, как домашние грызуны, жавшиеся к стенке, вздрагивают. Остальные, те, что постарше, меряют меня равнодушными взглядами.
Не хочу думать, что кому-то из них сегодня улыбнется удача и они подпишут контракт. Это я хочу контракт! Чтобы, наконец, стать всамделишной моделью! Пока что в моем послужном списке – рекламы пижамок для вайлдберрис и очень красивого золотого браслета. Но браслет скорее в послужном списке моей левой руки, нежели всей меня целиком.
А еще я злюсь, когда мне отказывают.
Мне всегда отказывают.
– Тебя тоже не взяли? – раздается прямо над левым ухом.
Хрипловатый женский голос. И мне в лицо летит струйка сигаретного дыма.
Я поворачиваюсь на звук. В дверном проеме, загородив проход в холодный туалет с отколовшейся плиткой, стоит Анджелина Джоли из фильма «Прерванная жизнь». Курит тонкую сигарету и сдувает с лица асимметричную рваную челку. Она вот-вот должна сказать мне: «В этом мире так много горькой правды, Сюзанна», но вместо этого еще раз выпускает сигаретный дым прямо мне в лицо и выпучивает глаза, явно ожидая ответа на свой вопрос.
– Зачем ты так делаешь? – спрашиваю я, указывая на сигарету в руке Анджелины.
– Все просто, – отвечает она. – Ты – моя конкурентка. Я оценила тебя. Твое преимущество – идеально ровная кожа без прыщей и забитых пор, поэтому я хочу испортить ее сигаретным дымом. Ты ведь в курсе, что от него портится кожа лица?
– Я думаю, она портится только у тех, кто курит.
Анджелина протягивает мне сигарету, от одного вида пожелтевшего фильтра которой я закашливаюсь. И девушки, стоящие в самом конце очереди, недовольно оборачиваются.
– Че? – выплевывает им Анджелина и скидывает бычок прямо на старый лакированный пол, туша его носом потрепанного ботинка. – Пошли отсюда.
Я не успеваю ответить. Она тащит меня вон, на улицу. Прочь от уже начавших подтаивать и плавиться восковых кукол, столпившихся в очереди в надежде на контракт.
– Крисс. С двумя «с». – Девушка протягивает мне холодную бледную руку. От нее наверняка все еще пахнет дешевым табаком.
– Почему с двумя?
– Захотела и поменяла. Кристин много, а Крисс – одна.
И пока я думаю, воспринимать это как смелое заявление или все же как проявление максимализма, Крисс протягивает мне новую сигарету.
– Я вообще-то не курю. – сопротивляюсь я.
А Крисс – не из тех, кто уговаривает.
Мы идем по набережной, держа друг друга под руки, чтобы не поскользнуться на глянце мартовского льда. Бледно-желтые волосы Крисс пропускают сквозь себя лучи заходящего и такого же бледного солнца.
– А чего ты в кофте вышла? Они же просили раздеться.
– Да я подмышки не побрила.
– А-а-а, – протягивает Крисс и пускает по ветру очередную струю табачного дыма, – ну, сказала бы, что ты феминистка. Они сейчас в моде.
– Так я феминистка. Может быть, потому и не захотела перед ними раздеваться.
На самом деле я не знаю, отчего я тогда не разделась. Как будто бы из принципа. Но мне было шестнадцать, вряд ли к тому времени я уже успела сформировать какие-никакие принципы. Скорее всего, я просто стеснялась.
– А-а-а… ну, тогда тебе не моделью надо быть.
– А кем?
– Стендапершей. И шутить со сцены про мужчин. Полностью одетой!
– Почему про мужчин?
– Ну, они же шутят про то, какие женщины тупые. И зарабатывают на этом неплохие деньги!
– А мне надо шутить про то, какие мужчины тупые?
– Да не, не обязательно. Можешь пошутить про то, какие они небритые и волосатые.
– Так я сама небритая и волосатая.
– Ага. Как и мужчины, которые шутят про тупых женщин, сами тупые.
Я задумалась. Про таких, как Крисс, моя мама обычно говорит «она прохавала эту жизнь». Но мамы рядом нет. Есть только Крисс. А она, как модель, вряд ли оценит метафору, основанную на поглощении чего бы то ни было, пускай даже и жизни.
– Так ведь никто же не поймет панча, если я не покажу им подмышки.
– Ага. Но ты будешь зарабатывать не на том, что тебя понимают. А на том, что ты понимаешь большинство.
– Это большинство… думаешь, оно бы меня не поняло?
– Ну, большинство женщин бреют подмышки.
* * *– А он меня спрашивает: «Why the long face, Stasya? Ты рекламируешь puhovichyok!» Пуховичок для вайлдберрис! Ну! «Покажи, как ты счастлива носить этот puhovichyok!»
И мы, трое девчонок в пышных платьях, разражаемся неестественным смехом. Stasya делает вид, что шепчет на ушко Annie зубодробительную шутку. Annie хохочет, прикрывая ладошкой с наманикюренными ноготками новые виниры. Я наклоняюсь к ним с самым что ни на есть поддельным интересом.
– И я думаю, – продолжает Stasya, – что значит «почему длинное лицо»? Ну если оно у меня от природы такое?
Взрыв хохота.
– Типа как у Собчак? Лошадиное?
Смех! Смех! Смех! Три открытых рта!
– Ага! Мне скаут потом объяснила, что long face значит «грустное лицо». Типа, когда ты грустишь, оно у тебя вытягивается.
Как же нам весело от чужой печали!
– В таком случае мне, с моими круглыми щеками, надо почаще грустить! – подаю голос я.
И все замолкают.
– Что такое? – кривится фотограф. – Так не пойдет! – и уходит перенастраивать камеру.
К нам подходит наша агентша. Разевает алый рот и громыхает:
– Девочки! Мы рекламируем платья для выпускного! Ну! Платья! Для выпускного! Что непонятного? Вам должно быть весело! Всегда! Это ваш выпускной!
Я искренне не понимала, что может быть веселого в коттедже, полном набуханных подростков. Где прилечь нельзя, потому что все спальни заняты активно теряющими девственность и остатки самоуважения одноклассниками. А присесть нельзя, потому что ты в ужасно неудобном синтетическом платье, от которого чешутся наспех побритые подмышки. В одном из таких, которые мы сегодня снимаем.
– Marie, вспомни свой выпускной! – кричит агентша. – Как тебе было весело прощаться со школой!
– У меня не было выпускного. Я в девятом, – отвечаю я и отчего-то вся вжимаюсь в плечи, покрытые синтетикой и стразами.
– Как не было? – гремит она.
– Ну был, но… в четвертом классе. – Стразики на платье колют подбородок и мои круглые щеки.
– А, теперь все понятно. – Агентша, Stasya и Annie переглянулись.
Фотограф щелкнул вспышкой, отчего я поморщилась.
– Если не можешь вспомнить – изобрази! Придумай, ну! Ты же актриса!
Я выдыхаю, расправляю плечи, стряхиваю зажим, как учили в театральной школе. И улыбаюсь.
* * *Громадные и тяжеленные двери занавешены бордовым велюром. Крисс аккуратно раздвигает его руками и проталкивает меня внутрь.
Темно. Горят только софиты над сценой.
– Че скажешь? – спросила Крисс, имея в виду театр.
– Ну клевый он, – ответила я, имея в виду чувачка на сцене. Его так и хотелось назвать. Не мальчик, не парень – чувачок.
– Некит? Серьезно?
Не-кит. Кончик языка куда-то там скользит…
– Да не. Он просто похож на Тимоти Шаламе.
Мне всегда нравились те, кто были на кого-то похожи. Несколько лет подряд я каждый август приезжала в лагерь и влюблялась там в одного и того же мальчика просто потому, что своим одухотворенным блаженным лицом он напоминал одноклассника из воскресной школы и его звали как моего отца. В последний раз, год назад, он пригласил меня на медляк.
– Реально? – Крисс щелкнула зажигалкой.
– Ага. Но там просто его крашиха ему отказала.
– А-а-а… И че дальше?
– Да ниче. Он прижал меня к себе и прошептал на ухо: «Ты же понимаешь, что ты мне не нравишься?»
Крисс помолчала, потушила сигарету о бетонную стену и сплюнула под ноги:
– Урод.
– Да не, он симпатичный был.
– Крисс, ну я же просил не курить! – раздалось с переднего ряда.
Из кресла по центру выплыл парень лет двадцати, может быть, даже с хвостиком.
– Ой, заткнись! Смотри лучше, кого я привела!
– Ну!
– Ну! На кастинге ее подобрала! Крутая?
– Крутая! А че она умеет?
– Че умеешь?
До сих пор Крисс и парень с первого ряда разговаривали так, словно меня рядом не было, поэтому я позволила себе отвлечься и поразглядывать неловко переминающегося на сцене двойника Тимоти Шаламе.
– А? Ну…
– Ей сколько лет вообще? – вопрос к Крисс.
– Шестнадцать, Ростик, – каким-то непонятным тоном ответила Крисс и сжала мой локоть.
– Дэмн. Ну ладно.
Я почувствовала, что если прямо сейчас, в данную минуту и секунду, не заявлю о себе, то потеряю всю ценность в глазах Ростика навсегда.
– Я в театральную студию ходила! – кричу я. – Ну… от школы. Это типа кружка и… у нас там спектакли всякие были разные… да, и…
– Понятно, – буркнула спина Ростика.
Дверь позади Крисс распахнулась, и в зал вошли двое. Один смотрел себе под ноги. Второй шел прямо на меня. Он весь был такой прямой и гладкий, будто бы проглотил иглу от шприца с ботоксом и боялся согнуться.
– О, Крисс! Отличная находка! Нам такая и нужна – молоденькая с глупыми глазами!
– По-модельному это значит бэйби-фэйс, – шепнула мне на ухо Крисс.
– Дэнчик, – представился гладкий и прямой.
Он был режиссером. Я так и не поняла, как его звали – Данил, Даниил, Данила или вообще Денис. Все звали его Дэнчиком. И не режиссером, а режиком.
– Миша, – брякнул второй куда-то в ноги.
– Ты «Двое на качелях» Гибсона читала? – Дэнчик обращался ко мне.
Я помотала головой.
– Прочитай, значит. Сегодня же. Будешь играть Гитель. Ты, кстати, любишь молоко и корнишоны? Надо полюбить. Для роли. Гитель пьет много молока и ест маринованные корнишоны.
Корнишоны я любила. Макала их кончики в майонез. Я вообще все ем с майонезом, пока не видит агентша.
– Мы пространство нашли для спектакля. Типа коворкинга, но не суть. Там в коридоре висят качели. Последнюю сцену будем играть в коридоре. Некиту поставим там синтезатор, а ты сядешь на качели и будешь петь Земфиру[1] «Жди меня». Споешь?
В тот же вечер я выучила текст и прорепетировала свое сидение на качелях перед зеркалом. Вот я сижу, пою, на припеве обвожу круг правой рукой так небрежно, но многозначительно. Вот я качаюсь… Или лучше подойду к синтезатору и буду томно смотреть на Некита.
– Нет, так не пойдет. – Дэнчик остановил репетицию. – Никита, тебе надо ее полюбить, понимаешь? Она вон как тебя любит!
Конечно люблю! Я любила Некита всем своим существом! Как любила Тимоти Шаламе, тезку моего отца из лагеря, воскресного одноклассника… Как любила всех, кто никогда не любил меня.
– Так она ж мелкая!
– А ты представь, что взрослая! – подсказывала из зала Крисс.
– Блин, да я хз как-то… Они ж по сценарию целуются там.
– Ну! – Дэнчик нетерпеливо тряс ногой.
Миша следил за ней, как за гипнотизерским маятником.
– Че ну! А ей – шестнадцать!
– Возраст согласия, – меланхолично заметил Миша.
– Да ну я хз как-то…
– Я могу, – откуда-то с задних рядов вскинулся Ростик.
Дэнчик обернулся, оглядел его, задумчиво протянул:
– Не-е-е, ты визуально ей не подходишь.
– А че надо? Переодеться? Схуднуть? Волосы по плечи отрастить, как у Никитоса?
– Скорее, это ей надо вырасти. Она на твоем фоне вообще потеряется, – вслух размышлял Миша, глядя на мои рваные типа конверсы с вайлдберрис. Отдали после какой-то съемки вместо зарплаты. Они так часто делают. Агентша спрашивает меня обычно: хочешь? А я хочу. Товар достается мне, а деньги – ей.
– Так и Гитель по сценарию небольшая, – парировал Ростик.
Дэнчик-режик вздохнул и сдался:
– Ладно, пробуйте.
– Не вздумай на кого-нибудь из них запасть. – Крисс поймала меня на выходе из театра после репетиции.
– Почему? – спросила я.
Я тем временем как раз собиралась в срочном порядке разлюбить Некита и полюбить Ростика. Для роли, конечно. И еще потому, что Ростику было не стремно меня поцеловать, а Некиту – стремно.
– Дэн – у него жена, то ли Дарья, то ли Дарьяна, не суть, в общем. И уже практически даже ребенок. У Миши в галерее – папка, а в ней – коллекция фоток женских стоп и лодыжек. Никитосик курит.
– Ты тоже куришь. – Я кивнула на пачку, игриво торчавшую из кармана пальто Крисс.
– Не, он другое курит.
– А-а-а… А Ростик?
– А с Ростиком никогда не знаешь, правду он говорит или врет. С ним можно общаться, только если ты имеешь свою собственную точку зрения. Без обид, но я сомневаюсь, что ты ее имеешь в шестнадцать лет.
* * *– Вот.
– Что вот?
Ростик сидел, как обычно, на последнем ряду, поджав ноги. Грязные кроссовки, покрытые тополиными почками, терлись о бархатную обивку кресла.
– Аттестат. Мой.
– А, ну, поздравляю.
Даже не оторвался от телефона. А аттестат, вообще-то, красный!
– Слушай, можно твой сотик?
Сотик? Милый, у меня новенький айфон! Сам ты сотик.
– Да, конечно. Только в галерею не заходи!
– А че там? Интимки одноклассникам рассылаешь за домашку?
– Вообще-то это называется снепы. И я сама свою домашку делаю! – машу перед веснушчатым носом Ростика своим отличным аттестатом.
– Да пофиг, мне надо на сайт один зайти, а у меня интернет кончился.
– Че за сайт?
Ростик не ответил. Выхватил разблокированный телефон из моих рук и быстро что-то напечатал в браузере.
– Куда планируешь после девятого? – сменил тему.
– А? Да вот думаю в театральное училище.
– Мучилище, – ответил Ростик. Он заканчивает его в этом году. – Не, тебе туда не надо. Иди дальше в десятый класс формировать свою префронтальную кору под чутким надзором учителей. На фиг тебе это академическое творческое образование? Ходи в школу, кушай кашу, слушай маму.
– Да я не хочу…
– Не хочешь? А в жизни ничего не бывает так, как ты хочешь.
Этот аргумент мне парировать было нечем.
– Че ему надо было в твоем телефоне? – Доведенным до автоматизма движением Крисс выудила из очередной новенькой пачки очередную новенькую сигарету. Первую – перевернула. – Хочешь желание загадать?
Вторую подожгла, отвернулась, чтобы не коптить мне лицо.
– Не знаю. Он закрыл вкладки.
– Так посмотри в истории поиска.
– Я не умею…
– Е-мае. – Крисс причмокнула. – Мама купила?
– Ага. В честь окончания школы.
– Давай сюда.
Крисс заклацала по экрану, полистала закрытые вкладки.
– Тут сайты вузов всяких. Театральных.
Сердце мое ойкнуло где-то в груди и завалилось на авансцену. Ростик! Милый мой Ростик! Чудесненький! Отправляет меня в десятый класс, а сам уже присматривает для меня институт! Ну какой же он классный, этот Ростик! Лучше всех! Лучше Тимоти Шаламе! Лучше Некита, похожего на Тимоти Шаламе! Лучше тезки моего отца из лагеря, лучше воскресного одноклассника!
Горящими глазами я уставилась на Крисс в ожидании, что она вот-вот потушит свою дурацкую мальборо вишню и закружит меня в поздравлениях.
Но Крисс хмуро уставилась на меня из-под рваной челки.
– Сваливает, значит, Ростик, гнида.
* * *В жизни мало что бывает так, как я хочу. Например, август. В августе я хочу, чтобы светило солнце и пять часов в сутки минимум небо было оранжевым.
Сегодня оно противно-серое, и дует идиотский ветер. Свистит в ушах. И оттого мне не разобрать, что говорит вокзальная динамическая роботоженщина. Но Ростик подхватывает чемодан и бодро шагает вперед. Сваливает, значит, Ростик. Гнидой назвать его не могу, потому что мне как-то неудобно. Но, наверное, он все-таки не очень хороший человек. Крисс сказала, что он нас кинул. Кинул режика-Дэнчика, то ли Данила, то ли Дениса, с женой то ли Дарьей, то ли Дарьяной и уже даже ребенком. Кинул Мишу и свои стопы в джпэг ему кинул на прощание. Кинул Некита, а Некит пожал плечами и кинул снюс. Кинул Крисс, а Крисс тоже всех кинула и поехала в Китай моделью по контракту. Может быть, он и меня кинул, но я об этом, если честно, не думаю. Обидно только, что спектакль не сыграли…
– Эй, че нос повесила? – окликнул меня Ростик.
Он шарил в сумке, ища паспорт, а глазами обшаривал мое лицо.
– Да обидно только, что спектакль так и не сыграли.
– Ой, да у тебя еще столько этих спектаклей будет! – отмахнулся он.
– Но не с тобой!
Ростик вдруг выпрямился, посмотрел мне прямо в глаза.
– Секунду, – зачем-то бросил он проводнице, зачем-то схватил меня под локоть и отвел в сторону. Зачем-то наклонился. Зачем-то чмокнул в холодную от ветра щеку.
Я зачем-то покраснела. Зачем-то отвернулась. Зачем-то заплакала.
– Эй, why the long face?
– Че?
– Ниче. Не ной. Вырастешь – поймешь, – ответила его спина.
Петр Кравченко

Родился в 1984 году. Живет и работает в Перми. Окончил историко-политологический факультет Пермского государственного университета и магистратуру Высшей школы экономики. Несколько лет работал в журналистике, много лет – в сфере связей с общественностью. Сейчас отвечает за PR в Пермской опере и IT-компании.
Окончил нескольких курсов литературной школы Band.
Эо́ниан
В густом рваном потоке улиц я суечусь – дергаюсь вправо, влево, ускоряюсь, торможу, мечусь. В конце концов выныриваю из города, но на трассе, которая мерно вздымается вверх и вниз, проваливаюсь в мысли, тону. Добираюсь до дачи, не заметив, как клош зимнего вечера накрыл землю. Всю дорогу я прокручиваю в голове аргументы. Основная линия защиты у меня – в несовершенстве технологий. Даже не то чтобы основная. Вообще-то единственная.
Сворачиваю. Еще раз. И еще. Медленно еду вдоль высоких черных выпирающих из темноты треугольников. Знаю, что каждый из них похож на все остальные здесь, и стоят они через равные расстояния, но кажется, что островершия наплывают и раздаются во мне беззвучным ударом все чаще, постепенно съедая разделяющий их промежуток. Чуть быстрее. Еще чуть быстрее. Убеждаю себя, что это просто нервы.
Наш треугольник можно узнать только по слабому желтому отсвету с обратной стороны, выходящей в лес. Видимо, во всем доме горит только торшер. Калитка открывается наполовину – мешает снег. Значит, бабушка сегодня не выходила.
Взявшись за ручку, несколько секунд соображаю, как зайти. Боюсь, что даже в простом приветствии могу сфальшивить. Так и не решив, как будет правильно, нарочито шумно топаю, стряхивая снег в прихожей.
Бабушка сидит в кресле, развернувшись к окну. За ним в темноте висит отражение торшера.
– Бабуля, привет! – говорю тихо и блекло.
Она кивает.
Бабушка узнала дедову тайну. Из мелочей, аккуратно и скрупулезно, как делала все, что считала важным, сложила портрет. Получилась Лида из дедушкиной жизни еще до встречи с бабушкой. Мы не знали ее. Возможно, если бы дед с бабушкой хоть раз ругались всерьез – по-настоящему, с дребезгом, – это имя и прозвучало бы раньше. Но она появилась только сейчас. Зато сразу той, кого дедушка продолжал любить всю жизнь.
Крупинки оговорок, осколки воспоминаний деда подогнаны друг к другу идеально – не подковырнешь, не уцепишься. Поэтому у меня только один вариант: поставить под сомнение сам источник – деда. В смысле, эониан – его цифровую копию.
Конечно, теперь я ненавижу себя за то, что вылез тогда с этой идеей. Мне бы чуть-чуть задуматься, почему дед – инженер, изобретатель, встречавший технические новинки с детскими бесятами в глазах, – в этот раз слушал меня напряженно.
Я-то был уверен, что, когда он, любивший жизнь и сбитый с толку вестью о болезни, узнает о возможности сохранить себя для нас – по-прежнему хороводить семейные застолья, шутить, как только он умел, быть энциклопедией, сказочником и трубадуром, – он будет счастлив. Дед не был. Я споткнулся тогда, но списал на то, что он не понимает возможности искусственного интеллекта. Тупица. Это дед-то не понимал…
Он всегда слушал меня внимательно, подавшись вперед. Даже в самом моем детстве, когда я рассказывал совершенно обычную ерунду – о прогулке во дворе, о детском саде, о встреченных кошках и машинах. Он смотрел на меня весело и хитро, будто мы заговорщики и у нас с ним свои секреты, свой особый язык. Теперь, когда мы говорили о штуке, которая должна была сохранить нашу связь, дед откидывался назад, как если бы пытался до треска натянуть эту нить между нами или хотел оглядеть меня целиком – тот ли это я.
Тот я донимал его и почему-то не придавал значения взгляду – со временем уже просто испуганному, а теперь мне кажется даже умоляющему. Я требовал разъяснить почему. Он сказал тогда что-то вроде: «Технологии должны быть для человека, а не вместо него». Я счел это уловкой. Еще посмеялся, что дед, умевший всегда так глубоко и тонко формулировать, укрылся за плакатной луддитской фразочкой.
– Ты не наседай на деда, – тихо и неуверенно, хотя никого вокруг не было, сказала мне одним утром мама. – Посмотри, он держится. Лучше нас. Но ты только представь, чего ему это стоит.
– Мам, я понимаю! Но в том-то и дело, что сделать эониан ничего не стоит – полчаса займет. Ведь он нас любит? Почему не хочет остаться с нами? Да, в его жизни… это ничего не изменит. А в нашей?
– Не знаю. Я не знаю. – Мама с трудом проглотила воздух, опустилась на стул, стала искать что-то в небе за окном. – Не могу… да и не хочу представлять, как так его не будет. Но нельзя его заставлять.
– Я понимаю. Сейчас это, конечно, выглядит как-то…
– Ужасно, – прошептала мама и закрыло лицо руками.
– Ну да, это очень новая технология. Но через несколько лет будет у всех. Представляешь, как нам тоскливо потом будет? И обидно – у всех близкие остались, а у нас нет. Только ни за какие деньги назад уже не открутишь.
Мама не ответила. Молчала, закрыв глаза.
Конечно, самым веским было бы слово бабушки, но еще в самом начале она отмахнулась. Не запретила, нет, но дала понять: никакой «искусственный» дед лично ей не нужен. Это было понятно – она же не верила в технологии так, как дедушка. В ее присутствии я этот разговор больше и не заводил.
Потом, когда я показывал примеры работы Eonian, мама уже не одергивала и даже как будто поддерживала меня. А я в какой-то момент, кажется, уже не уступал в красноречии продавцам этого приложения. Вот смотрите, говорил, как удобно – работает на любом устройстве. Хочешь – бери деда с собой на прогулку, вот хотя бы в тот же Михайловский парк – пусть и дальше в ритм шагов декламирует стихи. Хочешь – на футбол, где дед болел с такой страстью, что франтоватого старика-интеллигента уважали даже ультрас. Или на даче у камина – да можно ли там без его историй?