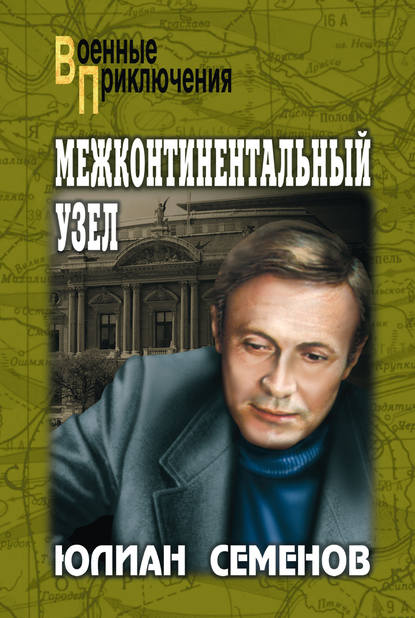Полная версия
Вопреки всему
Вот и запрягай этих кур, крестьянин, в оглобли, накидывай на них хомут и ставь в борозду, чтобы вспахать собственное поле.
Да и плуг, тот тоже отдан в общественное пользование, его надо теперь брать в колхозе, так же соответственно и разживаться семенами… Вспомнил Куликов деревню свою, вспомнил райцентр и дядю Бородая, вздохнул – завидовал самому себе, тому Ваське Куликову, который остался там, в прошлом…
Коваль просверлил ему в рукоятке ножа два отверстия, потом добавил третье, чтобы можно было просунуть в них заклепки, спросил:
– Ручку сам изладить сумеешь? Или помочь?
– Сумею, – уверенно отозвался Куликов, он уже прикидывал, какая будет у ножа ручка, из какого материала…
Красивые, конечно, бывают ручки у финок, которые делают зэки в лагерях, за проволокой, набирают из цветного плексиглаза, потом обтачивают на станке – получается диво, которое только с радугой и можно сравнить, но плексиглаза, да тем более цветного, он не достанет… Нет в деревне Башево таких возможностей, а вот дерево – скажем, дубовый чурбачок или пара ореховых дощечек – это очень даже может быть.
– Тогда дуй, – сказал ему районный коваль, – чего задумался?
А Куликов и верно задумался, вспоминать всякие истории из своей молодости начал. Совсем не к месту это.
– Благодарствую, дядя Бородай, – сказал он ковалю и покинул кузницу.
Дуб на ручку не пошел – слишком тяжелый и твердый материал, древесину дуба обычными зубами, даже если на них будут надеты коронки, не возьмешь, а вот орех можно взять, орех – мягче, лучше…
Но и орех тоже не пошел – надо было добывать две безукоризненные, совершенно одинаковые половинки и сажать их на металл рукояти, сбивать в единое целое клепками, но нож тогда будет напоминать кухонный, которым чистят картошку и крошат капусту, поэтому Куликов пошел по третьему пути… В районе жил охотник по фамилии Новохижин (хорошая актерская фамилия), так у него Вася Куликов увидел нож с рукояткой довольно необычной, как и в лагерных финках, наборной, – очень удобной и красиво выглядевшей.
Рукоятка была набрана из коры березы, обработана мелкой наждачной шкуркой, хорошо подогнана к руке. Это был прекрасный охотничий нож. Упав в воду, он не тонул – кора, пробковая прослойка ее держала нож на плаву, в морозную пору, когда наборный плексиглаз может впаяться в кожу ладони, кора этого не делала, она сама была теплой, поскольку привыкла греть сам ствол березы… Лезвие при таком раскладе было тяжелее рукояти, и если человек делал ножом бросок, лезвие всегда оказывалось впереди ручки и поражало цель.
В общем, сделал себе Куликов ножик, взял его с собою на фронт и очень берег, несколько раз ему предлагали обменять самоделку на немецкий кинжал – он отказывался, считая красивый, богато оформленный клинок рядовой безделушкой. Самодельный нож был, на его взгляд, штукой более серьезной, хотя и не такой изящной, как нарядное украшение офицеров-эсэсовцев…
Куликов понюхал упаковку с изображением быка и хрюшки.
– Это надо же, в коробок из-под зубного порошка целый бык вместился, – неверяще проговорил он, – или это не бык, а какая-нибудь немецкая химия? И поросюшка эта свинячья – тоже химия… А?
– Химией это никак не может быть, – убежденно произнес Блинов, – немцы химию не едят – желудок не переваривает. Вообще-то они не дураки, в отличие от нас.
– Тс-с-с, – остановил его Куликов, – а если особист услышит?
– Особистов в окопах нет. Не принято.
– Самих-то нет, а помощники их есть, и сколько их, добровольцев этих гребаных, никто из нас не знает.
Второй номер закашлялся, будто бы поперхнулся чем. Выбил кашель в кулак.
– Ты прав, ВеПе, – наконец произнес он. – Но если бы мы знали их хотя бы с затылка или с задницы, в окопах они долго бы не продержались.
Легким движением ножа Куликов вспорол у коробки верх и восхищенно покрутил носом: очень уж вкусно пахло содержимое консервной упаковки… Запах был такой аппетитный, такой влекущий, что… в общем, он пробрал пулеметчика до самого, извините, желудка. Куликов извлек из коробки одну толстую симпатичную колбаску и мгновенно проглотил ее – даже не ощутил, как она очутилась в глотке, на короткий миг задержалась, словно бы раздумывая о своем будущем, потом проворно нырнула вниз и исчезла.
Ну словно бы этой немецкой сосиски не было вовсе. Куликов поспешно, будто бы боясь, что вторая колбаска выпрыгнет из коробки и скроется в ближайшем, источающем грязные слезы сугробе, схватил ее… В эту минуту в тумане громыхнул выстрел.
Громкий был выстрел, орудийный, плотная, спекшаяся в несколько слоев масса тумана дернулась, – видать, на исходную позицию с немецкой стороны, кроме танков, выползла штука покрупнее – штурмовое орудие, оно и выпалило почти в упор по нашим позициям.
Снаряд разорвался далеко за спиной, окопы не зацепил никак, но вред все-таки причинил: из пространства с гнусавым свистом принесся маленький неровный осколок и очень метко зацепил сосиску – срезал большую часть ее… Тьфу! Куликов выматерился. В руке у него осталась лишь пятая часть трофейной добычи, самый корешок.
Еще не осознав того, что несколько мгновений назад осколок мог отправить его в братскую могилу, не поняв, что сейчас он уже должен быть мертвым, Куликов машинально нырнул вниз, за щиток «максима» и только минут через пять понял, что произошло.
– Ну, фрицы! – угрожающе проговорил он, хотел повторить фразу, но во второй раз не сумел одолеть ее, она словно бы прилипла к языку, к нёбу, к зубам, не отодрать и все тут. Непонятно даже, что случилось и вообще каким образом произошло это преображение? Похоже, он онемел на несколько минут.
Огромная масса тумана шевельнулась вновь, прозвучал второй выстрел. На этот раз снаряд, просверлив пространство, ушел еще дальше, взрыв раздался по ту сторону земли, дальше не бывает. Был он совсем тихий и никаких опасений не вызывал.
– Хлебнем мы здесь, Палыч, на этой передовой по полной, под завязку, – удрученно проговорил Блинов и, сдвинув каску на нос, поскреб пальцами затылок. – М-да, под завязку, даже шнурков не будет видно.
Это Куликов ощущал и сам, без всяких подсказок со стороны второго номера.
– Хлебнем, – согласно пробормотал он, – но ночных атак не будет, немцы не любят их, – затем так же, как и второй номер, почесал затылок. – Не умеют они ночью ходить по земле, – добавил он, – спотыкаются… Ноги могут себе сломать, а это, брат Блинов, сам понимаешь, что такое… Ботинки ладные, модные, потом ведь не всегда сумеют купить себе в магазине.
– А зачем им ботинки? Сломанные ноги никакие ботинки не украсят, дорогой ВеПе.
Третий снаряд, прилетевший из тумана, лег уже близко, один осколок даже скребнул по щитку «максима», звук оказался слабым, поскольку осколок был на излете, а вот горсть осколков потяжелее и повреднее, посильнее одинокой дольки зазубренного металла, всадилась в трофейный ранец, лежавший на бруствере, и вывернула из него всю требуху. Не ожидал Куликов такой пакости в своей фронтовой судьбе, не ожидал… Он чуть не взвыл. Но все-таки сдержался, помотал протестующе головой и проговорил сипло, со злостью:
– С-суки!
В тумане раздались ноющие, с каким-то кошачьим подвывом звуки мотора, – пулеметчик знал этот голос, успел познакомиться с ним ранее… «Пантера» это, новый танк, который поступил к фрицам на вооружение совсем недавно. Услышав неприятный вой, будто в моторе вот-вот сгорит стартер (хотя какой стартер может быть в дизеле), Куликов забеспокоился:
– Коля, давай снимем пулемет с бруствера, не то эта гадина сметет его, – они быстро и ловко стащили пулемет вниз, но оказалось, это и не нужно было, «пантера» развернулась в тумане и ушла, побоялась здесь оставаться, словно бы место это было заговоренное, опасное для нее.
Двигатель вражеской машины завыл, заревел оглашенно, с веток ближайших деревьев, измученных осколками, сыростью, огнем, пулями немецкими и нашими, посыпались куски намокшего обледенелого снега – крепкая все-таки была глотка у механизма, луженая.
«Пантера» отодвинулась в глубину своих позиций, за спешно вырытые гитлеровской пехотой окопы, и затихла.
– Уж лучше бы подошла поближе, гранатой бы взяли, – проворчал Куликов, – а так… Тьфу!
Приближалась ночь.
Линия противостояния, проложенная по кромке леса, укрепилась, вгрызлась в землю – ни туда ни сюда; ни немцы не смогли потеснить наших, ни наши немцев.
Очень уж не хотел Гитлер сдавать Смоленск, бросил на оборону города все, что у него было под рукой, вплоть до солдат, которые в банях мыли шайки, чинили в походных мастерских рваные шинели и заведовали навозом у артиллерийских битюгов.
Наши тоже не могли продвинуться ни на метр – также иссякли силы, требовалось время для накопления их, так что арифметика получалась простая: Смоленск достанется тем, у кого дыхание окажется крепче.
Пулеметному расчету Куликова так и не удалось уснуть до самого утра, ночь была тревожная, с минометными обстрелами и слепой артиллерийской стрельбой, одиночной, до которой фрицы оказались очень охочими… Стреляли по квадратам, на авось, и имели успех – попали в неудачно передислоцировавшийся штаб, управлявший минометным подразделением, и сожгли две машины из отдельного автомобильного батальона, приданного для усиления их дивизии. Об этом Куликов узнал утром от командира роты.
В общем, фрицы сами не спали и другим не давали.
К утру туман сдвинулся, приподнялся над землей. Поскольку он был едок, как кислота, то снега стало меньше; если вчера в лесу почти не было темных проплешин со слипшейся сопревшей травой, то сегодня весь лес был украшен этими неровными, недобро вытаявшими и остро пахнущими гнилью кусками земли.
Похоже, весна решила утвердиться окончательно, раз пошло такое таяние, но, с другой стороны, в России еще при царе Горохе Втором была в ходу пословица: «Пришел марток – надевай трое порток», иногда холод начинал жарить такой, что и трех порток могло не хватить.
Выглянув из пулеметной ячейки, Коля Блинов недовольно поморщился: немцы за ночь, под прикрытием темноты и тумана, уволокли всех своих покойников, а заодно прихватили и их ранцы, набитые едой.
Досадно. Насчет еды надо было бы подсуетиться вчера, а пулеметчики зевнули.
– М-да-а, – протянул Блинов недовольно и выругался. От досады тут не только ругаться будешь, но и локти себе грызть и вьюшку сплевывать себе под ноги. – Лопухи мы.
Куликов хорошо понимал напарника, поэтому проговорил примиряюще:
– Ничего, Коля. Фрицы снова пойдут в атаку и опять нам чего-нибудь принесут. Вот увидишь.
– Уж лучше бы нам старшина приволок бачок с борщом. Все сытнее гитлеровских поросячьих колбасок с завязками.
– Верно, – Куликов не выдержал, вздохнул, – кто на чем воспитан, тот на том и держится. Немцы на колбасках, а мы на борще и хорошей гречневой каше.
– Каждому свое.
– Помолчи, Коля! – Куликов понизил голос. – Говорят, эти слова сам Гитлер придумал. Тьфу!
– Свернуть бы их в трубочку и засунуть ему в задницу.
– Дело толковое. Вопрос только в том, как его исполнить. Возьмись за это дело, а, Коля? Орден получишь.
– Не нужно мне никакого ордена, Палыч, – Блинов нахмурился.
Куликов понял, что зацепил больную точку в его душе: у напарника не было ни одной награды, даже значка какого-нибудь завалящего, и того не было – ни «Ворошиловского стрелка», ни популярного спортивного знака «Готов к труду и обороне».
Впрочем, у самого Куликова тоже ничего не было, хотя он повоевал побольше, и к наградам достойным его представляли – к ордену Красной Звезды, к медали «За отвагу». Но поскольку Куликов числился не штабным работником, а окопным, то его как представляли к награде, так благополучно и отставляли. Отодвигали в сторону, чтобы не мешал.
Вот если бы он был штабным писакой, то тогда другое дело – уже медали три как минимум побрякивали бы у него на гимнастерке.
– Ордена нужны, Коля, – не согласился с точкой зрения напарника Куликов. – Хотя бы для того, чтобы каждый из нас мог рассмотреть их повнимательнее, держа в руке, – как они выглядят? А насчет носить… Можно и не носить.
Утром, перед тем как зашевелились напившиеся кофию с кренделями фрицы, в окопах, занимаемых ротой Бекетова, появились две девушки с брезентовыми сумками, висящими на ремнях. Откидные клапаны сумок были украшены красными крестами, нанесенными по трафарету масляной краской. Девушки были санинструкторами.
У солдат бекетовской роты от удивления глаза чуть наружу не вылезли. А вообще могли бы и на кончик носа скатиться, у каждого воина это индивидуально… Это надо же, до чего дошла забота начальства – полевых медиков прислали! Про такие дела хоть песни пой!
Песен Куликов знал много, а ежели на пару со вторым номером, то в два раза больше. Но петь пулеметчикам почему-то не хотелось. Даже при виде двух ладных девчонок-санинструкторш… Когда Куликов, очень молодой, в общем-то, мужик, смотрел на них, у него в груди начинало немедленно что-то таять, будто там образовывалась некая сладкая пустота, яма – петь надо было бы, но не хотелось.
Да и холодно, промозгло было в окопе, днем из всех щелей, из срезов земли, из-под каждой ледышки сочилась вода – несмотря на серую погоду, частые туманы и тяжелые, пропитанные мокретью, облака накрывали окопы полностью, делали это так плотно, что даже дышать становилось трудно. К вечеру капель переставала звенеть, вода исчезала из-под сапог, начинал прижимать мороз. Сырость пропадала совсем, стенки окопов твердели и, будто кровеносными сосудами, покрывались ледяными жилками, а бойцы сплошь да рядом начинали кашлять.
Вот по этой-то весенней простудной причине в роте Бекетова и появились две санинструкторши. И у одной, и у другой на плечах телогреек красовались свеженькие полевые погоны с медицинскими эмблемами и тремя красными сержантскими лычками. Погоны ввели совсем недавно, поэтому для большинства солдатского люда они были в новинку.
Хотя некоторые умельцы очень быстро сориентировались и, чтобы выглядеть по-гусарски лихо, вырезали из фанеры пластинки, загоняли их в погоны, внутрь, тогда знаки отличия делались нарядными, здорово отличались от тех мятых тряпок, что в большинстве своем пришивали к своим телогрейкам и шинелям старички, почти не обращавшие внимания на свою внешность.
Привести себя в порядок в окопе вряд ли сумеет даже очень опрятный, опытный солдат, для этого его надо на пару недель отвести в тыл на отдых… Вот на отдыхе он и подворотнички свои постирает, и к гимнастерке свежий белый лоскуток подошьет, и дырки на штанах заштопает, и окостеневшую грязь от рукавов шинели ототрет.
Пулеметчикам приятно было смотреть на звонкоголосых румяных медичек, даже при мимолетном взгляде на них приходило понимание, что кроме войны существует такое покойное, почти безмятежное состояние, как мир, о котором думают, грезят почти все, кроме, наверное, Гитлера… Тьфу!
Девчонки были свои же, сельские, одна из Брянской области, другая из Кировской, одну звали Машей, вторую Клавой. Маша была брянская, Клава – кировская.
– Вот и разобрались, – довольно воскликнул Блинов и потер руки.
– А тебя мы знаем, – сказала старшая из группы медичек, Маша, ткнула пальцем в телогрейку Куликова, – ты знаменитый в нашей дивизии человек.
– Это как же? – недоуменно спросил Куликов.
– Знаменитый, знаменитый… Ты – Вася-пулеметчик. Верно?
– Верно, – воскликнул взбодренный словами санинструкторши Куликов.
– А тебя не знаем, – сказала Блинову Клава, вторая санинструкторша. – Ты такой известности еще не достиг.
Второму номеру такое суждение приятной медички настроение не испортило совершенно, – ну просто никак не испортило.
– У меня все еще впереди, – уверенно проговорил Блинов.
– Да? – брови на Клавином лице взлетели вверх.
– Ага.
– Кашель есть? – озабоченно спросила Клава.
Блинов не выдержал, рассмеялся: что такое кашель здесь, на передовой линии фронта, в промозглых расползающихся окопах, когда каждый день совсем рядом, в нескольких метрах от пулеметного гнезда бойцам отрывает руки, ноги, головы, осколки вспарывают животы, выворачивают внутренности, разбрасывают во все стороны кишки, отонки, требуху, переваренную еду, когда в человеке притупляется, исчезает все, что в нем оставалось человеческого…
Тут даже о том, чтобы тебе, когда погибнешь, вырыли могилу поглубже, не с кем переговорить… А кашель… кашель – это тьфу, переваренный компот из крыжовника в детском саду, дрисня разволновавшегося младенца.
– Разве я спросила о чем-то смешном? – сведя вместе брови и проложив между ними неглубокую складку, поинтересовалась Клава, голос у нее сделался строгим от множества металлических ноток, возникших в нем. – Или я выгляжу смешно?
– Выглядите вы великолепно, товарищ сержант, – Блинов начал поспешно отрабатывать задний ход, – если бы не война, если бы рядом находился загс, я бы на вас женился… Мы бы тут же расписались.
– Ого! – удивленно воскликнула старшая инструкторша, Маша, покачала головой. – На ходу срезает подметки товарищ…
– Не боится боец, что ему пропишем клизму и поставим прямо в окопе. На первый раз клизму щадящую, на полведра, а дальше… дальше – с увеличением. Чем дальше, тем больше, – сказала Клава, язык у нее, так же как и у напарницы, был беспощадным, на этот кол лучше не садиться.
– По вашему велению, да из ваших рук готов и клизму… Хоть на полтора ведра с первого захода, – не замедлил высказаться Блинов. – С удовольствием!
В результате Куликов получил из Машиных рук пакетик с противопростудным порошком.
– Это наше изобретение, в санчасти приготовили, – пояснила Маша потеплевшим голосом, видать, имела к противопростудному средству самое прямое отношение, – тут смесь двух трав, аспирина, еще… в общем, с добавлением стрептоцида… Так что, Вася-пулеметчик, пей и будь всегда здоров.
– Понял, – сказал Куликов, качнул головой благодаря медработников, внутри у него возникло что-то теплое – отвыкли они здесь, на фронте, от общения с женским полом…
Да, собственно, у себя дома, в деревне Башево, он тоже не часто общался с женским полом, более того – даже побаивался тамошних девчонок – готовы ведь обсмеять в любой удобный момент и дорого за это не взять… Но от страха и смущения Куликов голову в песок не засовывал, не прятался, старался вести себя достойно.
– Молодец, что понял, – одобрительно произнесла Маша и поправила шапку на голове пулеметчика, у Куликова от этого простого движения даже под сердцем что-то защемило, зашлось, а на душе сделалось сладко, будто его наградили орденом – например, Красной Звезды. – Так что поправляйся, Вася-пулеметчик, – добавила Маша и вновь поправила шапку на голове Куликова. – Через пару дней нагрянем снова. Нашему начальству не нравится, что ваша рота – в соплях… целиком в соплях, вплоть до командира.
– Ну, Маша… так уж получилось, – Куликов озадаченно приподнял одно плечо, ему самому это не нравилось, – командир тоже человек и, как всякий человек, уязвим.
– Человек, человек… Уязвим, – недовольно проговорила Маша, – конечно уязвим… Но о себе тоже надо думать, не только о наступлении на окопы противника. Если мы о себе не будем думать, можем Гитлера и не одолеть.
Куликов оглянулся и приложил палец к губам.
– Типун тебе на язык, товарищ сержант медицинской службы, – он медленно, словно бы старался поглубже вникнуть в слова санинструкторши, покачал головой. – Как это так – можем не одолеть эту тварь? Такого быть просто не может, Гитлера мы одолеем, даже если он всего себя, целиком, закует в металл, зальет бетоном…
– Молодец, Вася-пулеметчик, – улыбнулась Маша и знакомым жестом снова поправила на голове Куликова шапку.
– Ну, как вы тут, девчата? – раздался из длинной окопной выемки голос ротного, в следующий миг показался и он сам: в старой телогрейке без ворота, подпоясанный ремнем, на котором болталась тяжелая кобура с пистолетом ТТ, рядом за пояс был засунут второй пистолет, трофейный парабеллум – машинка, которую очень хвалили разведчики.
– Да вот, пулеметчикам неплохо бы посидеть над кастрюлькой с кипящей картошкой, подышать горячим паром, товарищ старший лейтенант, – неожиданно насмешливо проговорила Маша, – только вот как это сделать, не знаем…
– Ну, если вы их вместе с пулеметом заберете в санчасть, то, наверное, можно и посидеть над кастрюлькой…
– Мы бы рады забрать, да вы вряд ли отпустите. Тем более – вместе с пулеметом.
– Не отпущу, – подтвердил Бекетов, – и вас отсюда выпровожу, дорогие девушки… Пора.
– Мы еще не во всех взводах побывали! – Маша повысила голос.
– Немцы зашевелились, скоро попрут, – в голосе Бекетова послышались озабоченные нотки. – У них порядок такой – после завтрака и обеда обязательно сходить в атаку.
– А потом снова дернуть кофейку, так, товарищ командир?
– Наверное. Те, которые останутся живы, те и дернут, – у Бекетова внезапно запрыгал уголок рта, левый, со стороны сердца – след контузии, – обветренные губы сморщились. – Те и дернут, – повторил он. – Приказывать вам не имею права, дорогие девушки, но через десять минут здесь может быть жарко. Очень не хотелось, чтобы кого-нибудь из вас зацепила фашистская пуля, так что, дорогие мои, – ротный не закончил фразу: в недалекой глуби пространства ударил орудийный выстрел, заглушил его слова. Через несколько секунд над окопами прогудел снаряд, ушел в наш тыл. Вместо слов Бекетов сделал рукой выразительный жест.
Лишние люди на передовой ему действительно не были нужны – за них могли спросить. Вот если бы у него в роте было медотделение с двумя санинструкторами, тогда другое дело…
Он снял с пояса прицепленную за ремешок каску и натянул себе на голову. Застегнул под подбородком пряжку.
– Все, перерыв закончился.
Через две минуты здесь уже ни Маши, ни Клавы не было. Блинов подтянул к ячейке и распечатал новенькую коробку с заряженной заводской лентой – пришла помощь из тыла, это было хорошо, рождало внутри тепло, и Куликов не выдержал и растянул губы в улыбке. А уж что касается самого Блинова, то улыбка у него почти все лицо опечатала, размахнулась от уха до уха.
Сдавать Смоленск немцы не хотели, очень не хотели, держались за город изо всех сил, зубами, и старались образовать брешь в воинской цепи, теснившей их, бросали в молотилку все новые и новые части, перегруппировывали танковые колонны.
Перед гнездом пулеметчиков выросло целое поле из мертвых немцев. Вытянутые руки, растопыренные, окаменевшие на холоде пальцы, немые черные рты, худые заросшие подбородки – у фрицев, даже у мертвых, на лицах росла щетина, было в этом что-то колдовское, недоброе, таинственное, рождавшее внутри испуг, хотя ни Куликов, ни Блинов уже ничего не боялись – перестали бояться.
Атаки немецкие шли одна за другой, почти без перерыва, каждый день, пулеметчики потеряли им счет, страшный покров из убитых врагов, выросший перед их позицией, рос и рос. Пока было холодно, сыро, гнилыми немцами еще не пахло, но что будет, когда войдет в свои права весна? Тогда от вони задохнутся все, и русские, и фрицы. И еще каким-нибудь вепсам или чукчам, живущим далеко на севере, тоже достанется, гнилой дух доплывет и до них.
И что еще рождало нехороший озноб на коже – убитые немцы, наслоившиеся в несколько рядов перед позицией пулеметчиков, лежали сплошь с вытянутыми руками, как в нацистском приветствии, тянули пальцы к гнезду, в котором сидели Куликов с напарником.
Тянуть-то тянули, да только кишка была тонка, чтобы дотянуться, совсем немного не хватило ее – фрицев остановил пулемет. Даже бруствер не нужно было поправлять, немцы, лежавшие друг на друге, заменили его. А руки были вскинуты в немом крике «Хайль Гитлер!».
Впрочем, второй номер, Коля Блинов, совсем не думал о том, что товар может протухнуть и завонять: чем больше тут валялось фрицев с вытянутыми руками, тем было лучше.
В атаку немцы шли упакованные от макушки до задницы, в ранцах у них и шоколад имелся, и сыр с галетами, и сухие хлебцы, и тюбики со сладкой французской горчицей, и мягкие булочки в промасленной либо в пропарафиненной бумаге, позволявшей хлебу долго сохранять мягкость, и чесночные колбаски в серебряной упаковке… В общем, никаких кухонь не нужно было – достаточно срезать ранец с какого-нибудь пехотинца в мышиной форме.
Правда, за изобилие это, будь оно неладно, приходилось расплачиваться. У Блинова под каской красовалась бинтовая нашлепка с мазью – немецкая пуля срезала ему с головы кусок кожи и надкусила кончик уха. Колю хотели отправить в тыл, подлечить немного, но он не захотел.
– Вот возьмем Смоленск, тогда и в тыл – немного отдохнуть, а заодно и подлечиться… А так – нет, увольте, да и не могу я здесь напарника оставить одного. В одиночку справляться с пулеметом трудно.
Тут, конечно, Коля перегибал палку, это он без напарника с пулеметом не справится, а Куликов в одиночку очень даже справится, одолеет без всяких сложностей. Хотя по части снабжения телячьими котомками, срезанными со спин мертвых фрицев, дело будет обстоять хуже, Блинов преуспел именно по этой части, за успехи по добыче выпивки и съедобных боеприпасов ему можно на погоны лычки старшины цеплять – заслужил.